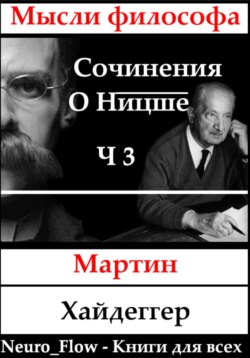Читать книгу Сочинения о Ницше часть 3 – Сверхчеловек и метафизика - Мартин Хайдеггер - Страница 9
Нигилизм и человек западноевропейской истории
ОглавлениеИтак, о чем говорит заключительное предложение первого раздела?
1. О том, что с помощью категорий «цели», «единства» и «бытия» мы привнесли в «мир» (то есть в сущее в целом) некую ценность.
2. О том, что эти категории, привнесенные в мир, «снова изымаютсянами».
3. О том, что после изъятия категорий, то есть ценностей, из мира он «теперь» кажется о-бес-цененным.
Состояние, которое характеризуется этим «теперь», ни в коем случае не мыслится как окончательное. «Теперь» не означает, что отныне дело должно ограничиться этим отсутствием ценности и миром, который выглядит обесцененным. В то же время хотя данный отрывок озаглавлен просто как «Падение космологических ценностей» и первое сущностное определение нигилизма гласит, что речь идет об «обесценении высших ценностей», рассматриваемое нами заключительное предложение говорит не только о том, что это обесценение не означает конца: в этом предложении чувствуется иная позиция. Речь идет о привнесении ценностей во все сущее и об их изъятии оттуда, причем это все как бы существует в себе и само позволяет такое привнесение и изъятие. Ценности не просто рушатся сами: мы, некогда их привнесшие в мир, теперь изымаем их из него. Мы принимаем деятельное участие в утверждении и ниспровержении этих ценностей. Но кто такие «мы»? И что здесь на самом деле происходит? Ясно, что нигилизм – это не просто тихий распад ценностей, которые где-то существуют сами по себе. Он является их упразднением, совершаемым нами, теми, кто их в свое время утверждал. Говоря «нами» и «мы», Ницше, однако, имеет в виду западноевропейского человека в широком смысле. Он говорит не о том, что эти ценности изымают те самые люди, которые когда-то их утвердили: он говорит о том, что те, кто привносит и изымает их, принадлежат к одной и той же единой истории Запада. Мы сами, живущие в нынешнем столетии, принадлежим к тем, кто изымает из мира некогда привнесенные в него ценности. Их упразднение берет начало не в одной лишь тяге к слепому разрушению и пустому новшеству: оно возникает из потребности и необходимости наделить мир тем смыслом, который не низводит его до уровня простого перехода в потустороннее. Должен возникнуть мир, который даст возможность появиться человеку, раскрывающему свою сущность из собственной ценностной полноты. Однако для этого тоже необходим переход, необходимо прохождение через то состояние, в котором мир выглядит лишенным прежней ценности, но в то же время взыскующим новой. Прохождение через промежуточное состояние должно сопровождаться максимальным осознанием его природы, для чего необходимо познать его истоки и выявить первопричину нигилизма. Только из полного осознания этого промежуточного состояния рождается воля к решительному его преодолению.
Слова Ницше, которые начинаются как перечисление условий, способствующих возникновению нигилизма, и как одно лишь описание его протекания, внезапно начинают звучать как сказывание о том, что мы непременно должны совершить. Речь идет не об историческом усвоении прошедших событий и их последующем влиянии на настоящее. На карту поставлено предстоящее, поставлено то, что только начинается, те решения и задачи, общий характер которых истолковывается как привнесение в мир ценностей и изъятие их из мира.
Нигилизм нигилизму рознь. Нигилизм – это не только процесс обесценения высших ценностей, не только их изъятие из мира. К тому же обесценение – это не просто постепенное ценностное оскудение, напоминающее исчезающий в песке ручеек: нигилизм совершается в изъятии ценностей, в деятельном их устранении. Ницше хочет показать нам это внутреннее сущностное богатство нигилизма, и поэтому раздел под буквой В должен заставить нас занять решительную позицию.
Если мы теперь еще раз, под более острым углом зрения, перечитаем первый раздел, мы увидим, что для каждого из трех условий возникновения нигилизма, которые на первый взгляд просто перечисляются, есть свое введение. В первом абзаце Ницше выражает общее положение: нигилизм как психологическое состояние «должен будет наступить». Здесь заранее называется основное условие для возможности такого наступления, а именно тот факт, что вообще в качестве искомого утверждаются такие вещи, как некий «смысл».
Во втором абзаце говорится о том, что нигилизм как психологическое состояние «наступает». Здесь называется решающее условие, в силу которого высшие ценности действительно начинают колебаться, условие, которое само по себе столь властно, что теперь в качестве смысла утверждается некая всеохватывающая и всеприемлющая цельность, некое «единство», которое действует через человека и таким образом укрепляет и упрочивает человеческое бытие.
В третьем абзаце говорится о том, что «нигилизм как психологическое состояние имеет еще третью и последнюю форму». Здесь взор обращен в будущее: только в нем нигилизм и обретает всю полноту своей сущности. Речь идет об утверждении истинного, потустороннего мира в себе – как цели и прообраза, которые даны кажущемуся, посюстороннему миру.
В первом абзаце называется основное условие возможности, во втором – действительное начало, в третьем – необходимое сущностное свершение нигилизма. Итак, его история в целом «излагается» как история в ее основных чертах.
Теперь мы не можем не задавать вопроса о том, соответствует ли (и если да, то как) эта история нигилизма той исторической действительности, которую обычно рисуют историки. Напрямую Ницше об этом ничего не говорит, равно как не характеризует свое изложение именно как историю сущностного развития нигилизма. Здесь все остается неясным, и тем не менее есть указание на то, что он имеет в виду «действительную» историю – прежде всего там, где обсуждает третью форму нигилизма.
Говоря об утверждении «истинного мира» над миром становления как миром лишь кажущимся, Ницше имеет в виду метафизику Платона и вслед за ней всю позднейшую метафизику, которую он понимает как «платонизм». Его он осмысляет как «учение о двух мирах», согласно которому над посюсторонним, изменчивым миром, который дан нашим чувствам, возвышается сверхчувственный, неизменный потусторонний мир. Этот мир является непреложным, «сущим» и, таким образом, истинным, в то время как первый – мир кажущийся. Этому соответствует и отождествление «истины» и «бытия». Поскольку христианство учит, что земной мир как юдоль скорби является лишь занимающим какое-то время переходом к потустороннему, вечному блаженству, Ницше считает, что христианство в целом – это платонизм для народа (учение о двух мирах).
Если под третьей формой возникновения нигилизма в историческом плане понимается философия Платона, тогда соответствующие исторические формы для второго и первого условий надо искать в до-платоновской философии. И действительно, утверждение «единства» по отношению к сущему в его целом можно найти в учении Парменида: έν το όν. Однако что касается исторического соответствия для первого условия, то здесь нельзя отыскать никакого однозначного исторического свидетельства уже потому, что первая форма считается основным условием самой возможности нигилизма и как таковая властно пронизывает всю его историю. В то же время поскольку, в сущности, это касается всех трех условий и поскольку все они заявляют о себе в любой основной метафизической позиции, даже если та и претерпела соответствующие изменения, попытка проследить какие-либо исторические соответствия трем названным условиям не настолько важна, чтобы сразу же пытаться ее осуществить, особенно если принять во внимание, что раздел Аявляется лишь прелюдией к разделу В.