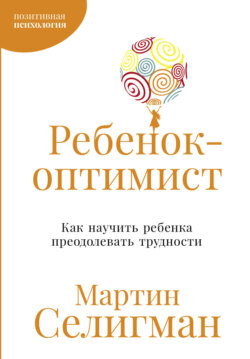Читать книгу Ребенок-оптимист: Как научить ребенка преодолевать трудности - Мартин Селигман - Страница 3
ЧАСТЬ I
Почему детям нужен оптимизм
Глава 1
Долговое обязательство
ОглавлениеЯ играл в детской бейсбольной команде «Лейк-Лузерн Доджерс». И восхищался Дэнни и Тедди. Дэнни стоял на первой базе, а Тедди, сын тренера, играл в левой зоне внешнего поля. Они были прирожденными спортсменами: отбивали самые сложные мячи (такой координации я мог только позавидовать), обегали базы с природной грацией. Для десятилетнего мальчишки, который не был выдающимся кетчером, они казались воплощением лета, совершенства и здоровья. Часто перед сном я вспоминал игру: как Дэнни в прыжке ловит мяч в метре от земли или как Тедди молнией несется к базе.
Август, штат Нью-Йорк. Ранним прохладным утром отец разбудил меня и сказал: «У Дэнни полиомиелит». Через неделю заболел и Тедди. Родители не выпускали меня из дома. Детскую лигу распустили, сезон так и не закончили. Я встретил Дэнни после болезни: его бросковая рука усохла, и он не мог пошевелить правой ногой. Тедди я больше не видел – он умер в начале осени.
Следующим летом, в 1954 г., появилась вакцина Солка. Всем детям сделали прививки. Игры детской лиги возобновились. На первой же встрече «Лейк-Лузерн Доджерс» проиграли «Хэдли Джайнтс». Страх, державший нас взаперти, исчез, жизнь вернулась в свое русло. Эпидемия закончилась. Никто из моих знакомых больше не заболел полиомиелитом.
Джонас Солк был кумиром моего детства. И став психологом, я взял за образец его подход к науке «знание не ради знания, а ради исцеления». Вводя в организм детей микродозы вируса, Солк укреплял иммунную систему, чтобы повысить сопротивляемость полиомиелиту. Он победил самую страшную эпидемию нашего времени с помощью новой науки – иммунологии.
Я познакомился с Джонасом Солком спустя 30 лет, в 1984 г. Эта встреча изменила мою жизнь. Познакомился я с ним во время жарких дискуссий, которые разгорелись между выдающимися психологами и иммунологами о перспективах очередной молодой дисциплины с неуклюжим названием «психонейроиммунология». Меня пригласили на эту конференцию потому, что в 1960-е гг. я помог сформулировать концепцию выученной беспомощности.
В 1964 г. я приступил к написанию докторской диссертации по экспериментальной психологии в Пенсильванском университете. Мною двигали мечты, зародившиеся в годы учебы на озере Лузерн, – мечты, которые многие сейчас сочтут наивными. Я хотел узнать тайны психологии, понять, что ограничивает людей и множит их страдания. Выбрав экспериментальную психологию, я был убежден, что эксперимент – лучший способ найти причины психологической боли, «препарировав» ее в лаборатории, а затем определив, как ее лечить и предотвращать. Считая неэтичным исследовать причины психологических страданий на людях, я решил работать в лаборатории Ричарда Соломона, одного из ведущих мировых специалистов в области теории научения, и проводить эксперименты с животными.
Приехав в лабораторию, я обнаружил, что сотрудники были в смятении: животные вели себя не так, как от них ожидали. Аспиранты Соломона пытались выяснить, каким образом страх вызывает адаптивное поведение. Они ставили над собаками опыт по системе Павлова (сигнал сопровождался ударом электрического тока). Разряд тока отключался, если собака бежала в противоположный угол камеры, куда ее поместили. К досаде аспирантов, животные не убегали, чтобы избежать удара током, – они просто сидели не двигаясь. Эксперимент зашел в тупик.
Для меня же пассивность животных была не помехой, а явлением, которое я собирался изучить. В нем я видел суть человеческой реакции на многие неконтролируемые события, которые с нами происходят, – бездействовать, столкнувшись с трудностями. Если бы психология могла объяснить такое поведение, то стало бы возможным излечивать или даже предотвращать беспомощность.
Последующие пять лет мы с коллегами Стивом Майером и Брюсом Овермиером изучали беспомощность: ее причины, лечение и профилактику. Мы выяснили, что такое поведение у собак вызывал вовсе не сам шок, а невозможность реагировать на него. Мы обнаружили, что можем помочь животным избавиться от беспомощности, показав им связь между их действиями и последствиями, и можем предотвратить это состояние, если сначала они приобретут опыт контроля над ситуацией.
Концепция выученной беспомощности произвела фурор. Психологи, специализировавшиеся на теории научения, расстроились. Будучи бихевиористами, они утверждали, что животные и люди – машины, реагирующие на стимул, и не способны обучиться абстрактному мышлению. Выученная же беспомощность подразумевала усвоение абстракции «от моих действий ничего не зависит», что исключалось теорией научения по модели «стимул-реакция». Клинические психологи были заинтригованы: выученная беспомощность была очень похожа на депрессию. В лабораторных условиях беспомощные животные и люди – пассивные, вялые, грустные, лишенные аппетита, неспособные разозлиться – выглядели точь-в-точь как пациенты с депрессией[2]. Поэтому я предположил, что выученная беспомощность – это модель депрессии, и узнав в лабораторных условиях, как избавиться от беспомощности, мы получим лекарство и от депрессии[3].
Проверяя в конце 1970-х гг., как соотносятся выученная беспомощность и депрессия, мы обнаружили, что определенная группа людей – пессимисты – более склонна к беспомощности. Они же подвергаются большему риску развития депрессии. Оптимисты, наоборот, противостоят беспомощности и не сдаются перед неразрешимыми проблемами и неизбежными неприятностями. Именно этот проект – выявление людей с особой склонностью к депрессии, которые не умеют противостоять трудностям, а также обучение таких людей навыкам борьбы с беспомощностью – занимал мои мысли все дни напролет. Так было до тех пор, пока я не встретил Джонаса Солка.
Обычно конференции американских ученых славятся радушной и дружеской атмосферой. Это же мероприятие едва ли можно было назвать цивилизованным – разгорелись ожесточенные препирательства, кто получит деньги на исследования, и речь шла о немалой сумме. Обсуждали предложение, чтобы фонд Макартуров, «царь Крез» среди благотворительных организаций, финансировал «психонейроиммунологию». Психологи поддержали идею, приведя в пример два новых открытия. Одно из них заключалось в том, что люди, находящиеся в состоянии стресса, предрасположены к раку. А другое – в том, что животные со слабой иммунной системой не способны к отторжению имплантированных опухолей. Данные открытия, казалось, убедительно доказывают, что эмоциональные проблемы усугубляют физические заболевания. Об этом давно твердили благодарные пациенты и обычные врачи. Но лабораторных исследований по изучению этого феномена, а также по разработке новых методов лечения никогда прежде не проводилось.
«Разумеется, – утверждали психологи, – мы должны изучить, как эмоциональные состояния ослабляют иммунную систему и вызывают болезни. Так мы сможем разработать психологические методы лечения, чтобы укрепить иммунную систему». «Мы даже не в состоянии отследить связь между одним иммунным явлением и другим или иммунной системой и раком, – ворчали в ответ иммунологи. – А попытка проследить путь от стресса и эмоций через всю иммунную систему к заболеванию стала бы колоссальной тратой денег. Макартурам есть на что потратить свое состояние». Нетрудно было догадаться на что.
Подтянутый и спокойный, доктор Солк, казалось, возвышался над схваткой. Когда ситуация накалялась, он мягко призывал обе стороны найти точки соприкосновения, которые в итоге все равно превращались в предмет ожесточенных споров. После того как один нобелевский лауреат едко отозвался об иммунологии как о настоящей науке, доктор Солк, не сдержавшись, заметил, что важно поощрять «поэтов от биологии». Его усилия по примирению сторон не возымели должного эффекта. К моему удивлению, иммунологи, работающие в лаборатории, решили его просто проигнорировать.
После первого дня конференции мы с ним побеседовали. Он расспрашивал об исследованиях и планах. Я рассказал ему о концепции выученной беспомощности. Объяснил, что пессимизм негативно влияет на способность человека противостоять депрессии. А также поделился наблюдениями, что у пессимистичных людей снижена степень сопротивляемости физическим заболеваниям. Именно в тот день исполнилось 30 лет с момента первого испытания вакцины против полиомиелита, и доктор Солк был в приподнятом настроении. «Вот что я имел в виду, когда говорил о "поэтах от биологии", – воскликнул он с улыбкой. – Если бы я сейчас был начинающим ученым, то все равно бы занялся иммунизацией! Только выбрал бы ваш подход. Я бы делал детям психологические прививки. И понаблюдал бы, могут ли эти психологически привитые ребята успешнее бороться с психическими заболеваниями, да и физическими тоже».
Психологическая иммунизация! Бинго! В моих первых опытах мы пробовали «психологическую иммунизацию», и она дала поразительные результаты. Мы создавали для животных условия, в которых те могли контролировать удар током. Так мы учили их управлять ситуацией. Разряд отключался только в случае, когда собака активно на него реагировала. Животные, молодые и взрослые, понимали, что могут контролировать электрический разряд. И ни одна из «привитых» собак никогда больше не проявляла беспомощность: даже когда удар током был неконтролируемым, она предпринимала активные попытки его избежать[4]. Мы были амбициозны и назвали это явление (с оглядкой на вакцину доктора Солка) иммунизацией. Это стало своеобразным долговым обязательством, которое я в свое время не выполнил. Круг замкнулся. Может ли опыт управления ситуацией или приобретение такой черты характера, как оптимизм, «вакцинировать» детей от психических расстройств? А от физических болезней?
В то время эпидемия, по масштабам сопоставимая с полиомиелитом, с каждым годом разгоралась все сильней. По сравнению с 1950-ми гг. уровень депрессии увеличился в 10 раз. Человек, страдающий депрессией, чувствует себя несчастным. Но это не единственный минус: депрессия существенно снижает продуктивность на работе или в школе и подрывает физическое здоровье. Крупномасштабная эпидемия депрессии может поставить под угрозу будущее нации. Но если доктор Солк прав, то психологи могут «привить» детей от депрессии.
2
Поскольку с 1960-х гг. отношение общества, да и мое собственное, к опытам над животными изменилось, я хочу сказать несколько слов об этичности таких экспериментов (хотя мои взгляды отличаются от взглядов коллег). Причинять боль животному недопустимо, и подобные действия оправданны только в том случае, если эксперимент помогает облегчить впоследствии гораздо бо́льшие страдания людей (или животных) и других способов нет. Три десятилетия назад я предположил, что исследование выученной беспомощности сулит именно такие перспективы, и оказался прав. В результате были разработаны новые способы лечения и предотвращения депрессии. Эта книга как раз посвящена одной из программ профилактики этого заболевания.
Но как только мы задокументировали основные факты, выяснив, как лечить и предотвращать беспомощность, мы прекратили опыты над животными и стали применять полученные открытия для помощи людям.
3
Более подробно об экспериментах по изучению беспомощности на животных и людях см. в: M. Seligman, Helplessness: On depression, development, and death (Freeman, 1993); S. F. Maier and M. Seligman, Learned helplessness – Theory and evidence, Journal of Experimental Psychology: General, 105 (1976), 3–46. См. также: Селигман М. Как научиться оптимизму (М.: Альпина Паблишер, 2023), глава 2.
Отчет о дебатах между сторонниками поведенческих и когнитивных взглядов на выученную беспомощность опубликован в Behaviour Research and Therapy, 18 (1980), 459–512.
Специальный выпуск Journal of Abnormal Psychology (1978, 87) положил начало множеству публикаций о беспомощности как модели депрессии. С тех пор были написаны сотни статей и десятки докторских диссертаций на тему стиля объяснения, выученной беспомощности и депрессии. Не обошлось без споров, однако сложилось общее мнение, что пессимистический стиль объяснения и депрессия связаны. См.: P. Sweeney, K. Anderson, S. Bailey, Attributional style in depression: A meta-analytic review, Journal of Personality and Social Psychology, 50 (1986), 974–991; C. Robins, Attributions and depression – Why is the literature so inconsistent? Journal of Personality and Social Psychology, 54 (1988), 880–889 и H. Tenen and S. Herzberger, Attributional Style Questionnaire, J. Keyser and R. C. Sweetland (eds.), Test Critiques, 4 (1986), 20–30.
Обзор работ, посвященных раку и другим заболеваниям, см. в моей книге «Как научиться оптимизму» (глава 10). Исследование пессимизма как фактора риска повторного сердечного приступа см. в статье: J. Patillo, G. Buchanan, C. Thoresen, and M. Seligman, Pessimism and cardiac death (1995, по запросу). О выученной беспомощности как модели посттравматического стрессового расстройства см.: B. van der Kolk and J. Saporta, The biological response to psychic trauma: Mechanisms and treatment of intrusion and numbing, Anxiety Research, 4 (1991), 199–212. Наиболее полное описание психологического феномена беспомощности можно найти в книге C. Peterson, S. Maier, and M. Seligman, Learned helplessness (Oxford, 1993).
4
Обзор литературы, посвященной беспомощности, см. в работах: Seligman, Helplessness, и Peterson, Maier, Seligman, Learned helplessness.