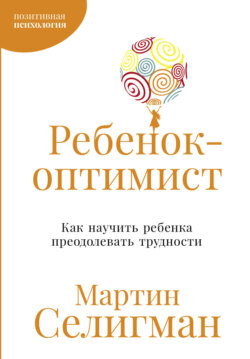Читать книгу Ребенок-оптимист: Как научить ребенка преодолевать трудности - Мартин Селигман - Страница 6
ЧАСТЬ I
Почему детям нужен оптимизм
Глава 3
Создание команды
Оглавление«Почему же депрессия проходит? Если исходить из теорий, о которых вы рассказываете, то, раз у вас есть депрессия, она на всю жизнь», – спросила темноволосая студентка в шестом ряду.
Обычно в этой аудитории меня ни о чем не спрашивали. Нужно иметь смелость, чтобы встать и задать вопрос перед тремя сотнями студентов Пенсильванского университета, изучающих психопатологию. А сейчас меня застали врасплох. Я читал лекцию о трех основных теориях депрессии: биомедицинской, которая предполагает дефицит химических веществ в мозге; психоаналитической, согласно которой депрессия – это гнев, направленный на свое «я», и когнитивной, трактующей депрессию как следствие пессимистического мышления. Вопрос студентки был вполне закономерен. Каждая из этих теорий объясняла, как депрессия начинается и развивается, и имела свою схему лечения. Пока все просто. Но, как было известно, депрессия почти всегда сходит на нет сама, со временем и без лечения. Она может длиться от трех месяцев до полугода, что для больного кажется вечностью, но болезнь, как правило, проходит. Какое же у рассматриваемых теорий есть тому объяснение?
Я замолчал, задумавшись. Пауза затягивалась. Тишина в аудитории становилась неловкой.
«Не знаю. Я просто не знаю, – в конце концов пробормотал я. – А как вас зовут?»
«Карен Рейвич», – ответила она, садясь на место.
Я о ней слышал. Несколько лет назад об этой девушке писала The Daily Pennsylvanian. Приемная комиссия университета дала задание написать эссе о какой-либо мировой проблеме и способах ее решения. Посыпались десятки тысяч сочинений о мире во всем мире, озоновом слое, расизме и пороках капитализма. Карен Рейвич написала, что займется насущной, но так и не решенной проблемой статического прилипания. У меня в файлах сохранилась вырезка с ее эссе: «Война, нищета, болезни, статическое прилипание. Мы стоим на пороге хаоса. Как Спартак восстал против рабства, как Джордж Вашингтон – против колониализма, как Глория Стайнем – против сексизма, так и я возглавлю борьбу против статического прилипания». И ее зачислили в университет.
Ее проницательный вопрос, уверенность и нестандартное мышление заинтересовали меня, и я пригласил ее после лекции зайти ко мне в кабинет. Я предложил ей отложить поступление в аспирантуру (она на тот момент была старшекурсницей) и весь следующий год работать со мной над исследованием. У меня тогда уже был проект под патронажем Metropolitan Life Insurance. Я обучал оптимизму страховых агентов с пессимистичным мышлением. Мы взяли когнитивные и поведенческие методики, успешно применяемые для борьбы с депрессией, и использовали их для профилактики пессимизма. Карен вскоре оказалась незаменимой и стала координатором проекта. Когда мы поняли, что пессимистов можно сделать оптимистами, я предложил Карен расширить область нашего исследования.
«Я общался с Джонасом Солком, – сказал я ей, – и этот разговор изменил мое представление о том, чем должны заниматься психологи. Думаю, он повлияет и на то, чему я сам посвящу свою жизнь». Я объяснил Карен, что психологи тратят 99% усилий на то, чтобы помочь нездоровым людям поправиться. И практически ничего не делается, чтобы помочь людям без психических заболеваний максимально раскрыть свой потенциал и повысить качество жизни. Проект для Metropolitan Life Insurance стал первым шагом в этом направлении. «Теперь я хочу разработать программу, с помощью которой мы научим детей навыкам оптимизма и попытаемся предотвратить потенциальные проблемы. Вы присоединитесь к моей команде?» Не успел я договорить, как она с готовностью согласилась. Я нашел одного сотрудника, но мне нужен был еще один.
Джейн Гиллем попросила о встрече, прослушав всего лишь одну мою лекцию о связи пессимизма и депрессии у детей. Она только поступила в аспирантуру после отличного окончания Принстона. Ее интересовала возрастная психология, и к моменту нашей встречи Джейн уже два года работала в школе. Она также одна воспитывала сына, так что работа с детьми для нее имела особое значение.
«У Шона вчера был трудный день, – поделилась со мной Джейн. – Он вернулся из школы и рассказал, что его задирал одноклассник. Жаловался: "Не хочу в школу. Нет там ничего хорошего. Раньше мне она нравилась, а теперь нет. Я напишу миссис Джонсон, что бросаю школу"».
«Я прибегла к техникам когнитивной терапии, – продолжала Джейн. – Мы поговорили о том, что он чувствует и за что он не любит школу. Потом я помогла ему вспомнить приятные моменты школьной жизни. Он рассказал, как вчера дурачился с друзьями на перемене. С моей помощью он подверг сомнению свою катастрофизацию и понял, что школа не такое уж и плохое место, если решить проблему с Гэри. Даже план разработал, как с ним подружиться».
Услышав о когнитивной терапии и методе декатастрофизации, я понял, что передо мной опытный, хотя и молодой профессионал, хорошо осведомленный, как в повседневной жизни использовать открытия психологии. В 1980-х гг. когнитивная терапия стала прорывом в лечении депрессии. Основоположник этого направления Аарон Бек, психиатр и мой наставник, совершил выдающееся открытие. Основных симптомов депрессии четыре: сниженное настроение, безразличие, проблемы со здоровьем и катастрофическое мышление. Бек заявил, что катастрофическое мышление не просто один из признаков депрессии, а главная причина всех других ее симптомов. Привычка думать, что будущее безрадостно, настоящее невыносимо, а в прошлом были только неудачи, и неспособность самому улучшить ситуацию вызывают плохое настроение, апатию и соматические симптомы депрессии.
Так появилась новая терапия депрессии. Суть когнитивного подхода состоит в том, чтобы научить депрессивных людей подвергать сомнению свое катастрофическое мышление, – и тогда все остальные симптомы должны пройти. У Джейн, несомненно, были идеи, как можно использовать этот подход в работе с детьми. Она спросила меня, не думал ли я о том, чтобы попробовать использовать когнитивную терапию для профилактики детской депрессии. Я рассказал ей о разговоре с доктором Солком и пригласил ее работать со мной.
Вместе с Джейн и Карен мы начали разрабатывать программу-тренинг для детей. Мы старались найти нестандартные и увлекательные способы обучения когнитивным навыкам, которые необходимы для предотвращения депрессии и преодоления неудачи. Дела шли неплохо, и нам казалось, что мы готовы перейти к тестированию программы. А потом меня пригласила на обед Лиза Джейкокс, одна из лучших аспиранток Пенсильванского университета.
Мы встретились в буфете университета. Лиза была в растерянности. «Рина уезжает, и теперь я не знаю, что делать», – посетовала она. Предыдущей весной Лиза написала диссертацию о влиянии ссор родителей на поведение и самооценку детей[7]. Ее руководитель, доктор Рина Репетти, собиралась переехать в Нью-Йорк. Зачастую потеря руководителя означала для аспиранта академическое забвение. Научная карьера Лизы оказалась под угрозой.
«Марти, а вы не занимаетесь никаким проектом, посвященным проблемам семьи и детей?» – спросила Лиза. Так вот в чем крылась настоящая причина нашей встречи! Я рассказал о нашей программе, целью которой было научить детей младшего подросткового возраста, подверженных депрессии, применять когнитивные навыки оптимизма.
«Вы кое-что упускаете из виду», – сказала Лиза. Она напомнила, что первый депрессивный эпизод у многих детей происходит, когда начинают ссориться их родители. Развод, раздельное проживание и конфликт в семье – факторы риска развития депрессии у детей младшего школьного возраста.
«Недостаточно просто научить ребенка оптимистическому мышлению, – подметила Лиза. – В основе детской депрессии лежат именно социальные проблемы – ссоры родителей и отвержение другими детьми. Нужно выработать у ребенка иммунитет, чтобы он мог противостоять и социальным трудностям. То есть "прививка" должна состоять из двух компонентов – когнитивных и социальных навыков».
Мы договорились, что созданием социальной программы займется Лиза.
Весь следующий год мы вчетвером работали над проектом. Провели пилотное тестирование на группе пяти– и шестиклассников и остались довольны результатами. Затем вернулись в лабораторию, чтобы доработать программу перед крупномасштабной проверкой ее эффективности. И вот программа по иммунизации, как ее представлял доктор Солк, была готова: когнитивные навыки для детей, помогающие бороться с депрессией, и социальные навыки, направленные на преодоление трудностей переходного возраста. И вот наша четверка: Карен Рейвич, Лиза Джейкокс, Джейн Гиллем и я – запустила программу по профилактике депрессии (Penn Prevention Program). Для начала нашей задачей был отбор наиболее ранимых детей в возрасте 10–12 лет, а затем их обучение когнитивным и социальным навыкам, чтобы предотвратить депрессию.
Приступив к обучению оптимизму, мы обнаружили, что наши методы расходятся с принципами, по которым родители воспитывают своих детей. Также мы выяснили, что они кардинально отличаются от принятого в школах подхода, ориентированного на самооценку. Мы предположили, что современное воспитание и кампания по развитию самооценки у детей вовсе не снижают уровень депрессии, а возможно, даже являются ее причиной.
7
L. Jaycox and R. Repetti, Conflict in families and the psychological adjustment of preadolescent children, Journal of Family Psychology, 7 (1993), 344–355.