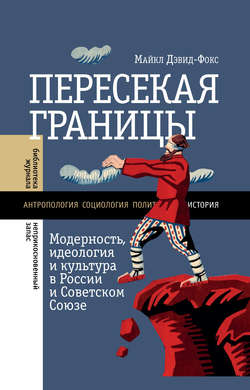Читать книгу Пересекая границы. Модерность, идеология и культура в России и Советском Союзе - Майкл Дэвид-Фокс - Страница 11
ЧАСТЬ I.
РОССИЙСКАЯ И СОВЕТСКАЯ МОДЕРНОСТЬ
2. ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ, МАССЫ И ЗАПАД
ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ / СОВЕТСКОЙ МОДЕРНОСТИ
ОСОБЕННОСТИ ИНТЕЛЛИГЕНТСКО-ЭТАТИСТСКОЙ МОДЕРНОСТИ
ОглавлениеКогда Энтони Гидденс, побужденный дискуссиями о постмодернизме, выступил с дающими богатую пищу для размышлений лекциями о модерности, которые оказали значительное влияние на последующие суждения на эту тему, ключевую роль в его интерпретации играли становление капитализма и национальное государство. Гидденс совершенно недвусмысленно заявил, что западными являются не только истоки модерности, но и сама ее природа. В то же время глобализация модерного должна была способствовать постижению модерности – он не уточнил, когда именно, – посредством стратегий и концепций, сформировавшихся не в западной среде. Не уточняя, как сталинизм мог быть модерным вне капитализма или национального государства, Гидденс высказал мысль, что пример Советского Союза показывает, как «тоталитарные возможности содержатся в институциональной структуре модерности, а не вытесняются ею»134.
Опираясь на анализ Гидденсом модерности как обоюдоострого меча, источника возможностей и в то же время сдерживающего фактора, Петер Вагнер утверждал, что предпосылка о радикальном отличии «воспрепятствовала тому, чтобы увидеть черты сходства между индустриальными обществами Востока и Запада в ХХ веке… Сторонники таких подходов по большей части однозначно помещали [государственный] социализм за рамками „либеральных“ традиций, превращая его в антипода либеральной модерности». По мысли Вагнера, дело не просто в том, что социалистические идеи составляли непосредственную часть модерной традиции и стремления преодолеть присущее XIX столетию ограниченное устройство модерности. Коммунистические практики, нося на себе отпечаток характерной для межвоенного периода в целом попытки создать новые формы коллективной политики, скорее следовали модели «организованной модерности», нежели «не-, до- или даже антимодерного социального образования»135. Однако восприятие Вагнером коммунизма было основано в основном на Германской Демократической Республике (ГДР), а использованное им понятие организованной модерности обозначало скорее свойственную ХХ веку в целом реакцию на кризис довоенной либеральной модерности, чем какой-то культурно специфический вариант. Как значимость модернизации дореволюционной России, так и особенности российско-советских исторических траекторий остались за рамками его кругозора.
Когда в 1990-х и 2000-х годах некоторые специалисты по истории России поставили перед собой задачу разработать концепции российской и советской модерности, на первом плане для них оказалось не изучение истоков и особенностей конкретной разновидности модерности, а стремление убедительно продемонстрировать, что Россию / СССР можно считать модерным государством. Учитывая это побуждение, логичным и неминуемым образом внимание ученых сосредоточилось на централизованном, проводящем политику вмешательства государстве – на чем-то непохожем на капитализм или национальную государственность, на том, чего Российская империя и Советский Союз не были лишены, но чем, напротив, обладали в избытке. Под влиянием работ Фуко, которое историки испытывали в 1990-е годы, появилась новая волна работ о власти и знании, прежде всего – о профессионалах и специалистах, ключевой области, в отношении которой Россия также была скорее в числе лидеров, чем отстающих. Как писал Янни Коцонис: «Вместо того чтобы высчитывать, чего не удалось достичь, и делать вывод, что Россия была в меньшей степени модерной, важно иметь в виду, что исторические акторы рассуждали в терминах модерности, поэтому и должны рассматриваться в этих категориях»136. Поэтому дискуссии о российской и советской модерности преимущественно строились вокруг сопоставимых элементов, а не характерных особенностей советской системы, весьма существенно отличавшейся от других модерных государств. Стремление сосредоточиться на своеобразии Российской империи или СССР напоминало прежнюю, не подразумевающую сравнения установку, когда акцент делался на отсутствовавших у России качествах. Значимые работы, посвященные не просто идеям, но практикам модерности, пролили свет на политическое принуждение, революционную массовую политику и социально-идеологическую инженерию137. Сноски в трудах по советской истории оказались заполнены отсылками к Зигмунту Бауману, размышлявшему о связи между модерностью и Холокостом, и Джеймсу Скотту, теоретику государств высокого модернизма138. Стивен Коткин пошел еще дальше, заявив, что переизбыток практического модернизма – сам размах советского производственного фордизма и, если говорить шире, другие черты, из которых складывалась попытка сталинской эпохи прыгнуть выше либеральной модерности, – оказался возможным за счет подавления партией и государством частной собственности и рынка139.
Первое поколение исследователей российской / советской модерности в 1990-е и 2000-е годы не столько игнорировало ее специфические особенности, сколько обращалось к ним в последнюю очередь. В рамках теории множественных модерностей, по необъяснимым причинам совершенно не замеченной в российской историографии, культурная преемственность и идеологические структуры оказываются в центре внимания140. «Одной из важнейших посылок термина „множественные модерности“, – писал Ш.Н. Эйзенштадт, – является то, что модерность и вестернизация не тождественны; западные варианты модерности не являются единственно возможными или „подлинными“, хотя исторически первичны и остаются отправной точкой для других моделей»141. Поэтому цивилизационные формы, которые модерность принимает за пределами «родной» для нее Западной Европы, становятся ключом к объяснению не уникальности, но множественности самой модерности142. Изучение цивилизационных аспектов множественных модерностей хорошо согласуется с заявкой нового поколения постсоветских исследований о сталинизме как цивилизации143. Кроме того, это дает нам возможность не отодвигать в сторону, а ориентироваться на сложную историографическую традицию, прослеживающую особенности траектории Российской империи в более широком европейском контексте144. Таким образом, задача прежде всего заключается в том, чтобы соотнести существующие идеи о своеобразии России и СССР с ориентированной на сопоставление, международной перспективой множественных модерностей.
В основе этого анализа интеллигентско-этатистской модерности, зародившейся на закате Российской империи и достигшей своего пика в советскую эпоху, лежат три взаимосвязанные особенности исторического развития, охватывающие революцию 1917 года; по вышеизложенным историографическим и методологическим причинам они едва ли вообще фигурировали в дискуссии о модерности в российском контексте. Во-первых, русская интеллигенция – групповое самосознание, субкультура и ментальность, влияние которой с конца XIX века усиливалось благодаря неоднократно отмеченной слабости и разобщенности буржуазно-предпринимательского слоя, – сформировалась в попытке решить экзистенциальные дилеммы, стоявшие перед европеизированной элитой в «отсталой», но идущей путем модернизации самодержавной стране. Мировоззрение интеллигенции, во многих отношениях столь важное для российской политики, культуры и науки, сложилось как раз перед тем, как Россия начала ускоренное движение по пути модерности в конце XIX столетия145.
Хотя растущие ряды специалистов и революционеров стали ведущей силой в борьбе с царским режимом, их вдохновляли потенциальные возможности государственной власти. В будущем неавторитарном государстве они, в особенности после 1905 года, видели главную опору общественного порядка. Умеренно настроенные специалисты и профессионалы заняли позицию «сдерживания и ограничения» того, что все чаще воспринималось как «испорченный и неподатливый человеческий материал населения империи»146. Если говорить в целом, в тот же период, на который пришлось становление массовой культуры, благодаря интеллигенции выработалась удивительно единодушная покровительственная и противостоящая коммерческому духу позиция, которая являла собой оборотную сторону столь же сильного интеллигентского культа масс. Интеллигенция, оказавшаяся под влиянием новой массовой культуры, но почти по определению враждебная ей, возглавила зарождающиеся массовые политические движения. Эти существенные для революционной России факторы продолжали играть свою роль в наиболее широко распространенных явлениях советской культуры и идеологии, поскольку ряд ключевых для советского проекта коренных преобразований прошел под знаком культурной революции и создания Нового Человека.
Кроме того, как интеллигенция, так и российская массовая культура и политика испытывали серьезное влияние дореволюционного спора о национальном самосознании и историческом пути, который был вариацией на тему «Россия и Запад», и стремление прыгнуть через ступень развития после 1917 года лишь усилило эти связи. Можно с уверенностью сказать, что многие интеллектуалы и специалисты двигающихся по дороге модернизации, но не относящихся к Западу стран, таких как Япония, Османская империя, Иран и Мексика, разделяли с русской интеллигенцией убежденную веру в науку и культуру, в уклонение от зол буржуазного капитализма и сильное, контролирующее обстановку государство147. Однако то, каким образом правительство Российской империи, а затем и Советского Союза расчетливо раздувало среди интеллигенции разногласия на почве «вестернизации», привело к постоянным переходам от одной крайности – замыкающейся в себе ксенофобии – к другой – восторгу перед всем западным. Эту черту следует назвать одной из важнейших констант российского / советского пути к модерности.
Таким образом, интеллигентско-этатистская модерность была обусловлена внутренними структурными особенностями исторического развития России: политикой государственного вмешательства, самодержавием и в то же время процессами вестернизации, которые в XIX веке вызывали в обществе много споров; сильной традицией государственной службы, которую интеллигенция перенесла с государства на народ; конкуренцией и осознанием различий с Европой и «Западом», превратившимися в XIX веке в ключевой элемент российского национального самосознания; социальной, культурной и государственной раздробленностью империи, стимулировавшей стремление к централизации и единству; и, наконец, поздней, ускоренной, краткосрочной модернизацией, которая обострила уже существовавшее серьезное противостояние рыночной экономике и капитализму. Эти структурные черты исторического развития России, в свою очередь, выявили или усилили специфические культурные или цивилизационные модели, в измененной или эволюционировавшей форме сохранившиеся и после одной из величайших мировых революций: модели, в которых переплетались идеи и практики, родившиеся в попытке преодолеть отсталость и либо примкнуть к Западу, либо обогнать его за счет внутренней мобилизации и преобразования масс.
Поэтому, как мы увидим, массовая культура не была ни благополучно забыта, ни, если говорить в контексте Советского Союза, выделена в обособленную самодостаточную сферу; скорее речь шла о длительном, напряженном процессе преодоления барьера между высоким и низким. Подобные попытки предпринимались и в других условиях, однако не в таком масштабе, какой позволяло воздействие советской власти на культуру, включавшее в себя и весьма изощренную цензуру, и экономику культурного производства. Так существовавшие в Российской империи и среди интеллигенции установки на просвещение народных масс и истребление рынка, нашедшие отражение во всеобщем страхе перед «бульварными» коммерческими развлечениями и мещанством, наложили отпечаток на изначальное стремление коммунистов построить альтернативную нелиберальную, не-западную модерность. Но поскольку интеллигентская традиция культуртрегерства просеивалась сквозь официальную идеологию революционного государства, представители элиты изменились еще сильнее, чем массы. Жесткий догматизм интеллигентско-этатистской модерности препятствовал рефлексии, не давая проанализировать происходящее с опорой на знания и опыт, поэтому вскоре закрыл советской системе путь к переменам.
134
Giddens A. The Consequences of Modernity. Stanford, CA: Stanford University Press, 1900. P. 8, 174–176.
135
Wagner P. A Sociology of Modernity: Liberty and Discipline. London: Routledge, 2004. P. 66, 101. «Организованная модерность» Вагнера восходит к термину Хильфердинга «организованный капитализм» (68, 211, сноска 45).
136
Kotsonis Y. Introduction: A Modern Paradox – Subjects and Citizen in Nineteenth- and Twentieth Century Russia // Russian Modernity: Politics, Knowledge, Practices / ed. Y. Kotsonis, D.L. Hoffmann. New York: St. Martin’s, 2000. P. 1–16, цитата: P. 3.
137
См. в особенности: Holquist P. Making War, Forging Revolution: Russia’s Continuum of Crisis, 1914–1921. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002.
138
См. книгу, в названии которой использована метафора Баумана: Weiner A. (ed.). Landscaping the Human Garden: Twentieth-Century Population Management in Comparative Perspective. Stanford, CA: Stanford University Press, 2003.
139
Kotkin S. Modern Times: The Soviet Union and the Interwar Conjuncture // Kritika. 2001. Vol. 2. № 1. P. 111–164.
140
См.: Beer D. Origins, Modernity, and Resistance in the Historiography of Stalinism // Journal of Contemporary History. Vol. 40. № 2. 2005. P. 363–379.
141
Eisenstadt S.N. Multiple Modernities // Multiple Modernities / ed. S.N. Eisenstadt. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 2002. P. 1–29, цитата: P. 2–3.
142
Arnason J.P. Communism and Modernity // Multiple Modernities. P. 61–90, цитата: P. 65.
143
Ключевая работа на эту тему: Kotkin S. Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization. Berkeley: University of California Press, 1995.
144
Я имею в виду работы Марка Раеффа, Мартина Малиа, Альфреда Дж. Рибера и Лоры Энгельштейн, о которых речь пойдет ниже.
145
О последней из трех перечисленных областей см.: Gordin M., Hall K., Kojevnikov A. (eds.). Intelligentsia Science: The Russian Century, 1860–1960. University of Chicago Press Journals, September 2008 (Osiris. Book 23).
146
Beer D. Renovating Russia: The Human Sciences and the Fate of Liberal Modernity, 1880–1930. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2008. P. 25–26.
147
Hoffmann D.L. Cultivating the Masses: Soviet Social Intervention in Its International Context, 1914–1939. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2011. P. 100–101.