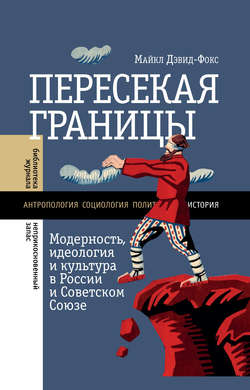Читать книгу Пересекая границы. Модерность, идеология и культура в России и Советском Союзе - Майкл Дэвид-Фокс - Страница 7
ЧАСТЬ I.
РОССИЙСКАЯ И СОВЕТСКАЯ МОДЕРНОСТЬ
1. МНОЖЕСТВЕННЫЕ МОДЕРНОСТИ VS. НЕОТРАДИЦИОНАЛИЗМ
О НЕСМОЛКАЮЩИХ СПОРАХ В РОССИЙСКОЙ И СОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
ПЕРЕКЛИЧКИ И СХОДСТВА
ОглавлениеСтолкновение между концепциями модерности и неотрадиционализма в середине 2000-х годов осложнялось нерешенными вопросами и проблемами с обеих сторон. Попробуем теперь проанализировать и рассмотреть эти два направления в совокупности. Из уже сказанного можно сделать вывод, что они действительно исходили из общих предпосылок: сторонники обеих точек зрения были согласны с тем, что в советской системе в какой-то мере сочетались или перемешивались черты модерности и другие, расценивались ли эти последние как традиционные или самобытные, типично российские, специфически советские или нелиберальные. Ни одна из сторон не отрицала полностью ни своеобразных черт, ни возможных оснований для сравнения. И модернисты, и неотрадиционалисты старались защитить свои позиции, избегая того, чтобы окончательно примкнуть к одной из двух крайностей – универсализма или своеобразия. Исследователи, придерживающиеся концепции модерности, не забыли подчеркнуть конфликт между свободой и несвободой, значимость идеологии и другие отличающие советский строй особенности, в то время как неотрадиционалисты постарались показать, что отстаиваемые ими традиционные черты встраивались в модернизирующуюся (если не в модерную) систему. Несмотря на это, столь же очевидно, что сохраняющиеся разногласия между этими двумя исследовательскими направлениями были разногласиями между сопоставимостью и уникальностью, универсализмом и своеобразием, различиями в степени и различиями в качестве. Возникает вопрос: если специфические, уникальные или традиционные черты можно рассматривать в рамках парадигмы, открыто признающей множественность модерностей – в отличие от первых постсоветских дискуссий о модерности, – где проходит грань, позволяющая отделить этот подход от базовой неотрадиционалистской посылки о смешении в Советском Союзе модерного и традиционного?
Полезно поместить эти вопросы в более широкий историографический контекст, поскольку происшедшее в постсоветской науке разделение сместило специалистов по истории России / СССР с их прежде устойчивых позиций. Неотрадиционалистское направление, последователи которого сознательно руководствовались многими положениями трудов Фицпатрик, вобрало в себя многие элементы вдохновленного ею классического ревизионизма: восприятие незапланированных последствий, не предвиденных представителями власти, как наиболее значимых; акцент на разрыве преемственности между 1920-ми и 1930-ми годами и, по крайней мере в случае Лено, последовательное утверждение ключевой роли первой пятилетки. Однако именно сторонники этого направления сочли необходимым отвергнуть общую для СССР и либерального Запада модерность, тогда как ревизионизм в свое время развивал универсалистские социологические концепции, например, концепцию восходящей мобильности, стремясь оспорить представления об уникальности тоталитаризма. Модерная группа с ее неослабевающим интересом к идеологическим и политическим аспектам истории ХХ века, наоборот, выросла из отрицания социальной истории 1970–1980-х годов. Приверженцы концепции модерности тоже по-своему отдавали дань своим предшественникам – теоретикам тоталитаризма, в частности, склонны были видеть скорее преемственность, чем разрыв между ленинским и сталинским периодами. Однако среди постсоветского поколения исследователей именно эта группа взялась опровергать упрочившиеся представления об уникальности советского строя, связанные с теорией тоталитаризма. Таковы были парадоксы историографической диалектики постсоветской эпохи.
Но чтобы осмыслить место спора между модерностью и неотрадиционализмом в российской историографии, нужна еще более широкая перспектива. Участники этого спора, возможно, даже осознавали, насколько глубоки были в поле их исследований корни разногласий между идеей уникальности России / СССР и предполагаемыми возможностями сравнения. Острый конфликт двух крайностей – своеобразия и универсализма – и колебания между ними были, как предположил Дэвид Энгерман в своей первой работе о раннем опыте изучения российской истории в США, обусловлены переходом от веры в национальный характер и географического эссенциализма, присущих большинству исследователей этой еще только формирующейся в конце XIX века области, через межвоенный период к зарождающемуся социологическому универсализму, который вступил в свои права после Второй мировой войны109. В своей основной работе, посвященной изучению истории СССР в Соединенных Штатах после 1945 года, Энгерман подверг этот послевоенный универсализм более пристальному анализу, изобразив его на этот раз как часть растянувшейся на десятилетия полемики между универсалистскими теориями – системами, «слабость которых нередко заключалась в том, что они по умолчанию ориентировались на западные общества», – и еще не утратившими силы концепциями национального своеобразия. Как сказал Энгерман: «Противоречия между универсалистскими целями и национальным своеобразием так или иначе доминировали в исследованиях советской экономики, политики и общества»110. Поэтому спор о модерности и неотрадиционализме продолжал основополагающее для этой области разделение.
Заслуживающей упоминания формой этого основополагающего разделения, которая ярко обрисована в работе Энгермана, является разрыв между социологами послевоенного периода, принимавшими участие в гарвардском проекте по изучению России, такими как Клод Клакхон, который поместил Советский Союз в модерный индустриальный контекст вместе с западными обществами, и сторонниками школы тоталитаризма, яростно настаивавшими на отсутствии точек соприкосновения между коммунизмом и Западом. Как отмечает Энгерман, характерная для проекта «всеобъемлющая позиция, в свете которой СССР представал как модерное индустриальное государство, у которого было много общего с Западной Европой и Соединенными Штатами, получила некоторый резонанс в академической среде. Но она не стала пользоваться таким существенным авторитетом, тем более в такие короткие сроки, как книга Мерла Фейнсода „Как управляется Россия“ (1953), которая десятилетиями оставалась классической работой по советской политике»111.
Кроме того, долговременное противоречие между сопоставимостью с Западом и незападным либо немодерным своеобразием было сопряжено с неоднозначностью, итог которой, как мы видели, тоже был подведен в 2000-е годы. Например, теоретики тоталитаризма настаивали на непримиримом конфликте между сталинизмом и Западом, но говорили об этом в контексте сравнения нацистского и советского режимов, прослеживая корни тоталитаризма глубоко в недрах европейской истории. Ревизионизм, как уже упоминалось, в свою очередь, усвоил некоторые социологические разработки относительно западных сообществ, стремясь косвенно оспорить многочисленные посылки теории тоталитаризма об отклонении от западных норм, однако теория «социального строения» ревизионистской школы – представители которой привыкли глубоко вникать в детали социальной структуры – в то же время часто придавала этому направлению внутренний, интерналистский и ориентированный на специфику характер. Если мы учтем это, нам станет понятно, как постсоветский спор о модерности и неотрадиционализме перестроил основные прежние расхождения в новом контексте. В то же время расстояния между группами, находящимися в оппозиции друг к другу на почве универсализма / своеобразия, продолжали уменьшаться на фоне более давних разделений. К 2000-м годам эти противоречия уже сводились скорее к расстановке акцентов и подразумеваемому несогласию в отношении некоторых ключевых понятий.
Вернемся теперь к вопросу о том, как подход, предполагаемый концепцией множественных модерностей, можно отличить от неотрадиционалистского положения о смешении традиционного и модерного. Еще одно расхождение, обнаружившееся в ходе постсоветских дискуссий, выявляет суть проблемы: различие представлений о Западе и о пути к модерности. Противопоставляя советскую систему модерному западному миру, неотрадиционалисты, по всей вероятности, пытались создать целостную (модерную) модель Запада или западной модернизации, на фоне которой можно было бы рассматривать Советский Союз. Сторонники модерности (и, шире, все, кто открыто поддерживал теорию множественных модерностей), наоборот, по-видимому, сознавали, что архаичные черты присущи многим сообществам и что путь к модерности в дореволюционной России был извилистым, как и во многих частях Европы, не говоря уже об остальном мире. На самом деле представление о том, что традиционные практики и мышление глубоко укоренились в Европе XIX века – который обычно считают веком модернизации Запада, – не содержит в себе никакого противоречия с точки зрения, например, специалистов по социальной истории Европы или истории труда. Приверженцы модерности, расширив сопоставительный аспект и, в частности, указав на параллели с историей Германии, поставили под вопрос идею целостности Запада и доминирования в его рамках англо-американских моделей.
109
Engerman D. Modernization from the Other Shore: American Intellectuals and the Romance of Russian Development. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2003.
110
Engerman D. Know Your Enemy: The Rise and Fall of America’s Soviet Experts. New York: Oxford University Press, 2009. P. 6.
111
Ibid. P. 68.