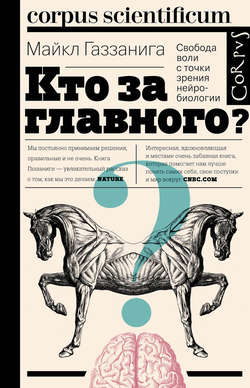Читать книгу Кто за главного? Свобода воли с точки зрения нейробиологии - Майкл Газзанига - Страница 9
Глава 1
Какие мы
Отбор или обучение
ОглавлениеВ 1950-х годах Нильс Ерне, знаменитый швейцарский иммунолог, потряс основы мира иммунологии. Тогда ученые почти единодушно считали, что процесс формирования антител эквивалентен обучению, при котором антиген играет роль инструктора. Антигены обычно представляют собой протеины или полисахариды, находящиеся на поверхности клетки. Этими клетками могут быть бактерии, вирусы, паразиты, пыльца, яичный белок, белок с пересаженных органов или тканей или с поверхности клеток крови, попавших в организм в результате ее переливания. Ерне же предположил, что происходит нечто иное. Ранее считалось, что специфические антитела формируются в ответ на появление антигена, – по мнению Ерне, однако, тело с рождения снабжено всеми различными типами антител, которые ему когда-либо могут понадобиться.
Антигены – это просто молекулы, которые одно из этих врожденных антител распознает или выбирает. Не происходит никакого обучения, просто отбор. Иммунная система исходно обладает такой встроенной сложностью, а не становится сложнее с течением времени. Идеи Ерне стали основой того, что сегодня называют гуморальным иммунным ответом, и клонально-селективной теории (клонирования, то есть увеличения числа, белых кровяных клеток – лимфоцитов, – несущих на своей поверхности рецепторы, которые связывают вторгающиеся в организм антигены). Большинство антител никогда не встретится с соответствующим чужеродным антигеном, но те, которые встречаются, активируются и интенсивно клонируют себя, чтобы связать и инактивировать вторгшегося врага. Ерне на этом не остановился. Позже он предположил, что если такой процесс отбора происходит в иммунной системе, то, вероятнее всего, так же работают и другие системы, в том числе мозг. В своей статье 1967 года “Антитела и научение: отбор или обучение”{16} Ерне говорил о том, что важно рассматривать работу мозга с точки зрения процессов отбора, а не обучения: как иммунная система не есть недифференцированная система, способная производить антитела любого типа, так и мозг не есть недифференцированная масса, которая может обучаться чему угодно. Он сделал удивительное предположение: обучение на самом деле может быть процессом целенаправленного отбора предсуществующих способностей, которыми мы обладаем от рождения – чтобы применить их в ответ на конкретные задачи, встающие перед нами в определенные моменты времени. Иными словами, эти способности представляют собой генетически обусловленные нейронные сети, предназначенные для специфических типов обучения. Часто это иллюстрируют таким примером: нам легко научиться бояться змей, но трудно научиться испытывать страх при виде цветов. У нас есть встроенный шаблон, вызывающий реакцию страха, когда мы замечаем определенные виды движения, скажем, скольжение в траве, но нет подобной врожденной реакции на цветы. Тут, как и в случае иммунной системы, сложность уже встроена в мозг, как и специфичность, о которой мы говорили выше на примере пения белоголовой воробьиной овсянки. Самое важное, что происходит отбор именно предсуществующих способностей. Однако это влечет за собой ограничения: если какая-то способность не дана заранее, ее просто не существует.
Знаменитый пример отбора в действии из мира популяционной биологии наблюдали в естественной лаборатории Дарвина – на Галапагосских островах. В 1977 году из-за засухи погибло большинство кустарников, дающих семена. В результате резко выросла смертность взрослых особей средних земляных вьюрков. У этих птиц клювы были разных размеров. Пищу земляных вьюрков составляют семена, и потому клюв для них – средство существования. Вьюрки с мелкими клювами не могли расколоть жесткие плоды якорцев (растений из рода Tribulus) и твердые семена, которых оставалось немало и после засухи, а вьюрки с более крупными клювами – могли. Скудные запасы семян помягче быстро исчерпались, так что остались лишь твердые и большие семена, которыми могли питаться только птицы с более крупными клювами. Популяция вьюрков с мелкими клювами погибла, а с крупными – пережила бедствие. Это был отбор из предсуществовавших возможностей. В следующем году выжившие птицы дали потомство – и птенцы вылупились крупнее и с более крупными клювами{17}.
Мозг в современном представлении – не тот, каким его описали Лешли, Уотсон и Вейсс. Они считали его недифференцированной массой, готовой к обучению. Любой мозг, по их мнению, можно научить чему угодно: наслаждаться как благоуханием розы, так и запахом тухлых яиц, или бояться цветов наравне со змеями. Не знаю, как вам, но “аромат” тухлых яиц, доносящийся из кухни, вряд ли понравится моим гостям, сколько бы раз они ни приходили ко мне на ужин. Сперри оспорил эту концепцию. Он утверждал, что мозг устроен очень специфическим образом, обусловленным генетически, и мы рождаемся в основном предварительно оснащенными. Хотя такая интерпретация и объясняла большинство фактов, в эту модель не вписывались некоторые данные новых исследований. Например, она не полностью объясняла результаты наблюдений Марлера за певчими птицами.