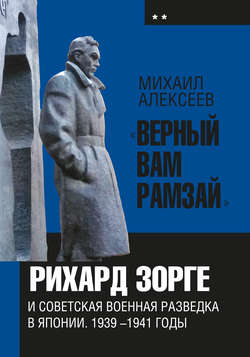Читать книгу «Верный Вам Рамзай». Книга 2. Рихард Зорге и советская военная разведка в Японии 1939-1945 годы - Михаил Алексеев - Страница 7
Глава 1
1939, Западная Европа, Москва, Токио
1.2. «Как выяснил немецкий посол Отт в японском генеральном штабе…»
Оглавление(из шифртелеграммы «Рамзая» от 5 мая 1939 г.)
4 января кабинет Коноэ Фумимаро подал в отставку, мотивировав этот шаг вступлением событий в Китае в «новую фазу», т. е. признав неспособность быстро и победоносно закончить войну. Формирование нового кабинета было поручено председателю Тайного совета Хиранума Киитиро, а Коноэ занял его прежний пост. Ключевые фигуры министр иностранных дел Арита Хатиро, министр армии Итагаки Сэйсиро, морской министр Ёнаи Мицумаса, а также министр просвещения генерал Араки Садао остались на своих местах[121].
В начале января 1939 г. Зорге докладывал об организации разведки штабом Квантунской армии:
«Москва, Начальнику РУ РККА
Токио, 5 января 1939 г., 17 января 1939 г.[122]
Майор Шолль сообщает следующее о шпионской работе Квантунской армии:
Осуществляются три вида шпионажа.
Первое – наблюдение с линии границы. Во многих пунктах расположены посты, которые с близкого расстояния наблюдают за жизнью на советской стороне. Майор Шолль посетил такой наблюдательный пост, расположенный против Благовещенска, откуда в бинокль можно видеть, что происходит в красноармейских казармах. Каждое движение в казармах фиксируется.
Второе – работа с белогвардейцами. Известная компания Чурина используется в качестве организации с отделениями и для связи Маньчжурии с отдаленными районами.
Все адреса друзей или родных этих белогвардейцев регистрируются.
Особенно собираются сведения о Сибири.
Японцы побуждают людей, имеющих советские адреса, посылать письма этим адресатам или предпринимать даже другие мероприятия. Центром этой работы является Харбин.
Третий вид шпионажа осуществляется через евреев, имеющих адреса в СССР или Америке, через которые могла бы быть установлена связь в СССР.
Этот вид шпионажа проводится из Дайрена и Шанхая.
У майора Шолль создалось впечатление, что Квантунская армия очень хорошо осведомлена, получая огромную массу информации.
Шолль также узнал, что переходы белогвардейцев через границу проводились успешно.
№ 75. Рамзай».
Имеются пометы: «Продолжение еще не поступило». «НО-2. Т. к. продолжения до сих пор нет, то надо использовать для спецсообщения. Орлов. 15.1.». «т. Попову[123]. Спецсообщение. 16.1». «НО-2. Это продолжение – теперь надо сделать спецдонесение. Орлов. 19.1». «т. Шленскому, т. Попову. 19.1.39».
В январских телеграммах Зорге докладывал о ситуации вокруг германо-японских переговоров и о настроениях среди японских военных.
«Москва, Начальнику РУ РККА
Токио, 1 января 1939 г.[124]
Майор Шолль узнал в генштабе, что Германия подписала соглашение с японским военным атташе в Берлине по обмену всеми информациями, полученными обеими сторонами о СССР. Посол Отт и майор Шолль считают, что это является результатом только неправильно проведенных переговоров Осима за заключение военного пакта. Японский генштаб даже до последнего времени не мог предполагать, что они так далеко зайдут в военном сотрудничестве.
Я в этом сомневаюсь и попробую выяснить через Отто, который только один узнал об этих переговорах. Посол Отт и майор Шолль из Берлина относительно этого сообщений еще не получали.
Рамзай».
Имеются пометы: «НО-2. Спецсообщение. Орлов. 5.1.39». «т. Попову. К исполнению по рез. зам. нач. РУ. 7.1.39».
«Москва, Начальнику РУ РККА
Токио, 25.1.39[125]
Затем Накано сообщил, что военные раскололись на три основных группы:
Первая группа требует стремительной войны с Китаем до тех пор, пока весь Китай будет захвачен и из Китая будут изгнаны все иностранные державы.
Вторая группа, созданная Квантунской армией, требует мира с Китаем и концентрирования внимания на войну с СССР.
Третья группа, к которой принадлежат Итагаки, Тэрауци и др., выражают желание прекратить операции в южном и центральном Китае, сохранив лишь за собой Сев. Китай и Монголию как базу развертывания войны против СССР. К этой группе принадлежит также Хиранума и др. члены правительства. Главные трудности лежат в сопротивлении радикальных групп, которые боятся восстания в случае такого отказа от завоеваний в Китае. Единственным путем для избежания внутренних противоречий считается отвлечение внимания радикальных групп на СССР».
Имеются пометы: «Срочно. НО-2. Спецсообщение. Орлов. 25.1». «Исполнено».
Накано Сэйго (1886–1943) – японский журналист, известный политик, депутат парламента, был тесно связан с «Обществом черного океана»; в 1933 г. основал фашистскую организацию «Тохокай», с 1940 г. генеральный секретарь «Движения единства за укрепление трона».
К первой группе принадлежала часть влиятельных японских кругов во главе с Коноэ. «Квантунцы» (Итагаки, Тодзио, Уэда и др.), которых Зорге отнес к третьей группе, объединились вокруг барона Хиранума, который в итоге в январе 1939 г. сменил принца Коноэ на посту премьер-министра. Одзаки сообщил Зорге, что основные причины отставки кабинета Коноэ заключались в следующем: а) по-прежнему не были урегулированы связи между политическими и военными проблемами; б) вопреки ожиданиям, китайский инцидент приобрел затяжной характер; в) кабинет встал перед трудным выбором между дружественными связями с Германией и связями с Англией и США; г) кабинет утратил поддержку общественного мнения в стране.
В «Отчетном докладе Центрального Комитета ВКП (б) XVIII съезду ВКП (б)» 10 марта 1939 г. И. В. Сталин говорил об «обострении международного политического положения, крушении послевоенной системы мирных договоров, начале новой империалистической войны»: «Вот перечень важнейших событий за отчетный период, положивших начало новой империалистической войне. В 1935 году Италия напала на Абиссинию и захватила ее. Летом 1936 года Германия и Италия организовали военную интервенцию в Испании, причем Германия утвердилась на севере Испании и в испанском Марокко, а Италия – на юге Испании и на Балеарских островах. В 1937 году Япония, после захвата Маньчжурии, вторглась в Северный и Центральный Китай, заняла Пекин, Тяньцзин, Шанхай и стала вытеснять из зоны оккупации своих иностранных конкурентов. В начале 1938 года Германия захватила Австрию, а осенью 1938 года – Судетскую область Чехословакии. В конце 1938 года Япония захватила Кантон, а в начале 1939 года – остров Хайнань. …
Новая империалистическая война стала фактом. …
Характерная черта новой империалистической войны состоит в том, что она не стала еще всеобщей, мировой войной. Войну ведут государства-агрессоры, всячески ущемляя интересы неагрессивных государств, прежде всего Англии, Франции, США, а последние пятятся назад и отступают, давая агрессорам уступку за уступкой. …
Неагрессивные, демократические государства, взятые вместе, бесспорно сильнее фашистских государств и в экономическом и в военном отношении.
Чем же объяснить в таком случае систематические уступки этих государств агрессорам? …
Главная причина состоит в отказе большинства неагрессивных стран и, прежде всего Англии и Франции, от политики коллективной безопасности, от политики коллективного отпора агрессорам, в переходе их на позицию невмешательства, на позицию “нейтралитета”.
Взять, например, Японию. Характерно, что перед началом вторжения Японии в Северный Китай все влиятельные французские и английские газеты громогласно кричали о слабости Китая, о его неспособности сопротивляться, о том, что Япония с ее армией могла бы в два-три месяца покорить Китай. Потом европейско-американские политики стали выжидать и наблюдать. А потом, когда Япония развернула военные действия, уступили ей Шанхай сердце иностранного капитала в Китае, уступили Кантон, очаг монопольного английского влияния в Южном Китае, уступили Хайнань, дали окружить Гонконг. Не правда ли, все это очень похоже на поощрение агрессора: дескать, влезай дальше в войну, а там посмотрим.
Или, например, взять Германию. Уступили ей Австрию, несмотря на наличие обязательства защищать ее самостоятельность, уступили Судетскую область, бросили на произвол судьбы Чехословакию, нарушив все и всякие обязательства, а потом стали крикливо лгать в печати о “слабости русской армии”, о “разложении русской авиации”, о “беспорядках” в Советском Союзе, толкая немцев дальше на восток, обещая им легкую добычу и приговаривая: вы только начните войну с большевиками, а дальше все пойдет хорошо. Нужно признать, что это тоже очень похоже на подталкивание, на поощрение агрессора»[126].
К этому времени выяснилась неготовность Японии пойти на подписание даже сформулированных в общей форме положений проекта Тройственного пакта между Германией, Италией и Японией, а требовалось дополнительное разъяснение. Подобное положение вещей отражало острую борьбу в руководстве страны по вопросу будущего направления японской агрессии. В начале марта Осима, а также посол Сиратори в Риме, – сообщал в Токио министр иностранных дел Германии О. Отту в уже цитируемой телеграмме от 26 апреля 1939 г., – получили инструкции, в соответствии с которыми японское правительство хотя в общем и целом одобряло идею пакта, однако обязательство по оказанию взаимной поддержки хотело привязать исключительно к случаю войны с Россией. Оба посла информировали об этом меня и Чиано в личном и строго конфиденциальном порядке и в свою очередь тотчас же сообщили в Токио о своем отказе представить на рассмотрение в Берлин и Рим это столь существенное изменение итало-германского проекта. Они еще раз высказались за принятие первоначального проекта и заявили, что в случае иного решения японского кабинета они будут вынуждены уйти со своих постов. В ответ на это в начале апреля из Токио поступил японский проект, который в основном соответствовал итало-германскому проекту, по, правда, сокращал срок действия договора на 5 лет. Однако прежнее пожелание японцев ограничить обязательство по взаимному оказанию помощи исключительно случаем войны с Россией еще сохранялось в смягченной форме; японцы испрашивали наше категорическое согласие на то, чтобы после подписания и опубликования пакта сделать английскому, французскому и американскому послам заявление примерно следующего содержания: пакт возник в развитие антикоминтерновского соглашения;. при этом партнеры в качестве своего военного противника имели в виду Россию; Англия, Франция в Америка не должны усматривать в нем угрозу для себя. Кабинет в Токио обосновывал необходимость подобного ограничительного толкования пакта тем, что Япония в данный момент по политическим и особенно по экономическим соображениям еще не в состоянии открыто выступить в качестве противника трех демократий. Осима и Сиратори сообщили в Токио о невозможности осуществления также и этого пожелания японского правительства и информировали меня и Чиано, опять-таки в строго конфиденциальном порядке, о развитии этого вопроса. Как Чиано, так и я не оставили никакого сомнения в том, что нас не устраивает заключение договора с такой интерпретацией, прямо противоречащей его тексту. Далее я, чтобы ускорить окончательное выяснение вопроса, заявил Осима и Сиратори, который находился в Берлине в связи с днем рождения фюрера, что я должен узнать об окончательном решении японского кабинета, будь оно положительное или отрицательное, до выступления фюрера, которое намечено на 28 апреля. Оба посла телеграфировали об этом в Токио.
Данное сообщение предназначено исключительно для Вашей личной информации. Прошу строго засекретить его. Эту тему в Ваших беседах по своей инициативе не затрагивать до особого распоряжения, а если в беседе с Вами она будет затронута другой стороной, то ни в коем случае не давать собеседнику понять, что Вы информированы по этому вопросу. Это относится и к послу Италии в стране Вашего пребывания, который, по сообщению Чиано, пока еще не информирован. Напротив, прошу тщательно следить за положением дел на месте и систематически телеграфировать об этом»[127].
Зорге подробно отслеживал все перипетии формирования позиции Японии по содержанию трехстороннего пакта:
12 марта 1939 г. Р. Зорге сообщал, что, по мнению германского посла в Японии О. Отта, «японцы готовы в любой момент подписать пакт, полностью направленный против СССР».
«Москва, Начальнику 5 Управления.
Токио. 9 апреля 1939 г.[128]
Осима [посол Японии в Берлине] опять поднял вопрос о военном пакте, потребовав ответа от японского правительства. После долгого обсуждения Япония решила принять военный пакт, направленный только против СССР.
Некоторые группы военных настаивали на пакте, направленном также против демократических стран, но остались в меньшинстве.
Германия и Италия настаивали на военном пакте против Англии, но японские морские круги, близко стоящие к трону, решительно выступили против этого.
Посол Отт узнал в министерстве иностранных дел, что японцы не пойдут на уничтожение последних остатков хорошего отношения со стороны Америки, согласившись присоединиться к пакту против демократических стран.
Посол Отт считает, что Япония всё-таки будет заставлена присоединиться к этому пакту.
Рамзай».
Имеется помета: «т. Шленскому и т. Попову. 15.4.39. Кисленко». Имеются отметки об исполнении.
Шленский П.Д., полковник, заместитель начальника 2-го отдела.
Попов П.А., полковник, начальник 1-го отделения (Япония, Корея) 2-го отдела.
Кисленко А.П., полковник, врид начальника 2-го отдела.
«МОСКВА, НАЧАЛЬНИКУ 5 УПРАВЛЕНИЯ
Токио, 15 и 23 апреля 1939 г.[129]
«Отто получил сведения о военном антикоминтерновском пакте: в случае, если Германия и Италия начнут войну с СССР, Япония присоединится к ним в любой момент, не ставя никаких условий. Но если война будет начата с демократическими странами, то Япония присоединится только при нападении на Дальнем Востоке или, если СССР в войне присоединится к демократическим странам.
Если будет иначе, то будет созвано другое совещание, которое решит, присоединяться Японии к пакту или нет*1.
Это условие поставлено с той целью, чтобы дать Японии возможность избежать присоединения по крайней мере на тот срок, пока у власти стоит кабинет Хиранума [премьер-министр Японии], который выступает против войны с демократическими странами. В случае, если Япония присоединится к войне, она сконцентрирует свой флот в водах Тихого океана не дальше Сингапура. По пакту также требуется участие Японии в войне в Европе….. (6 слов непонятно).
Эти разъяснения были отправлены послу Осима. Ответ от него еще не получен».
Имеются пометы: «НО-2. Спецсообщение. Список № 1: Сталину (2), Ворошилову, Молотову, Кагановичу, Андрееву, Жданову, Берия, Шапошникову. Проскуров. 17.4». «т. Герасимову[130] к исполнению. Кисленко. 19.4.39». «т. Попову и Шленскому. 28.4».
Герасимов В.А., полковник, начальник 2-го (Китай, Синьцзян) отделения 2-го отдела.
О том, насколько остро шло обсуждение вопроса о военном союзе, говорит тот факт, что положение премьер-министра Японии Хиранумы, который выступал против войны с западными странами, стало неустойчивым. 26 апреля 1939 года в Центре получили следующее сообщение Зорге: «Отт сообщает, что назначение Койсо [министром коммуникаций Японии] имеет большое значение в том отношении, что для него открывается дорога на пост премьер-министра. Он крепко стоит на позиции мира с Китаем, который считает необходимым заключить до начала войны в Европе. Койсо заявил, что он проектирует заключить мир с Китаем и даже с Чан Кай-ши… Он упирает на то, что японцы должны укрепиться только в Северном Китае, оставив в большей или меньшей мере Южный и Центральный Китай китайскому правительству, и готовиться к войне против СССР после укрепления позиций Японии в Северном Китае, Маньчжурии и Монголии».
5 мая «Рамзай» докладывал из Токио о позиции Японии в рамках трехстороннего пакта:
«Как выяснил немецкий посол Отт в японском генеральном штабе, затруднения в самом японском правительстве в связи с переговорами о заключении японо-германо-итальянского союза подтверждаются тем, что Арита и морские круги выдвинули свой план о заключении союза, обеспечивающего достаточную безопасность и гарантии, которые включаются на тот случай, если союз будет приведен в действие против Англии или Америки.
Арита и морские круги согласны заключить общий, не ограниченный условиями пакт обороны против любого государства, которое начало бы войну против какой-либо одной из трех стран, заключивших антикоминтерновский пакт, даже если в эту войну будет вовлечена Англия, Америка или Франция.
Но морские круги и Арита отказываются заключать такой пакт, в котором открыто указывалось бы, что он направлен не только против СССР, но также против Англии и других стран. Арита и морские круги, кроме официального текста союзного пакта трех стран, составляют особое секретное дополнение к нему. В этом секретном дополнении статьи пакта будут расширены, предусматривая также действия против любой страны. Они хотят избежать открытых трений с Англией и Америкой, не опубликовывая такого текста пакта, в котором ясно указывается, что он направлен не только против СССР.
Генеральный штаб заявил, что Арита подаст в отставку, если его точка зрения не пройдет, и намекнул немецкому послу Отту, что генеральный штаб не может взять на себя ответственность пойти на раскол настоящего правительства из-за расхождения во мнениях и надеется, что германская сторона будет также настаивать на основных статьях соглашения. Посол Отт телеграфировал об этом в Берлин».
Учитывая позицию Японии, Германия и Италия подписали 22 мая 1939 г. Пакт дружбы и союза («Стальной пакт»). В преамбуле к пакту говорилось: «Твердо связанные внутренним родством их мировоззрения и обширной солидарностью их интересов друг с другом, немецкий и итальянский народ решились, также в будущем плечом к плечу с объединенными силами выступать за обеспечение их жизненного пространства и за поддержание мира».
Премьер Хиранума направил поздравления Гитлеру и Муссолини, а МИД выпустил следующее заявление:
«Договор о дружбе и союзе между Германией и Италией, официально заключенный сегодня, является результатом близких отношений между двумя странами, равно как и их особого положения в Европе. Со времени создания оси Берлин-Рим Германия и Италия демонстрировали твердую солидарность в подходе к сложной ситуации в Европе. Особого внимания заслуживает их взаимная поддержка во время «аншлюса», присоединения Богемии и Моравии, восстановления Мемельской области и присоединения Албании. Это осуществилось исключительно благодаря их доброжелательному взаимопониманию и согласованным действиям в духе своих убеждений для достижения своих целей. Существует ли германо-итальянская ось в виде письменного документа или же нет, как до сих пор, это нисколько не уменьшает ее эффективности. Заключение нынешнего договора является большим шагом вперед в деле укрепления политики оси. Отныне оно положит конец любой преднамеренной пропаганде, нацеленной на умаление оси как слабой или уязвимой. Это факт большой важности для будущего Европы, и мы уверены, что в условиях напряженной ситуации в Европе договор станет значительным вкладом в дело мира и прогресса во всем мире.
Внешняя политика Японии основывается на Антикоминтерновском пакте, направленном на искоренение коммунизма, и неизменно направлена на тесное сотрудничество с Германией и Италией в духе этого пакта. Поэтому Япония с особой радостью отмечает, что Германия и Италия, являющиеся ее партнерами по Антикоминтерновскому соглашению, усовершенствовали свои отношения и создали мощный фронт заключением настоящего договора. Мы шлем им наши сердечные поздравления»[131].
Не воздержался от публичной реакции и Советский Союз. Выступая 31 мая с докладом на сессии Верховного Совета СССР председатель Совета Народных Комиссаров и народный комиссар иностранных дел СССР В.М. Молотов отметил: «… в конце апреля одной своею речью глава германского государства уничтожил два важных международных договора: морское соглашение Германии с Англией и пакт о ненападении между Германией и Польшей. В свое время этим договорам придавалось большое международное значение. Однако Германия очень просто разделалась с этими договорами, не считаясь ни с какими формальностями. … Дело не ограничилось расторжением двух международных договоров. Германия и Италия пошли дальше. На днях опубликован заключенный между ними военно-политический договор.
Этот договор имеет в своей основе наступательный характер. Согласно этому договору Германия и Италия должны поддерживать друг друга в любых военных действиях, начинаемых одной из этих стран, включая любую агрессию, любую наступательную войну. Еще совсем недавно сближение между Германией и Италией прикрывалось якобы необходимостью совместной борьбы с коммунизмом. Для этого немало пошумели о так называемом “антикоминтерновском пакте”. Антикоминтерновская шумиха сыграла в свое время известную роль для отвлечения внимания. Теперь агрессоры уже не считают нужным прятаться за ширму. В военно-политическом договоре между Германией и Италией уже нет ни звука о борьбе с Коминтерном. Зато государственные деятели и печать Германии и Италии определенно говорят, что этот договор направлен именно против главных европейских демократических стран»[132].
Из доклада военно-морского атташе Италии в Японии Г. Джорджиса министру военно-морского флота Италии Б. Муссолини (премьер-министр Италии Муссолини занимал также пост министра военно-морского флота):
«27 мая 1939 г.
… Если для Японии открытым врагом является правительство Чан Кайши, то врагом № 1, врагом, с которым никогда не сможет быть ни перемирия, ни компромиссов, является для нее Россия, Европейские тоталитарные государства отбрасывают большевизм на Восток, объявляя его азиатской утопией. Аналогичным образом в Восточной Азии большевизм с таким же ожесточением отбрасывается Японией. Япония знает, что за спиной Чан Кайши – длинная красная рука. Победа над Чан Кайши не имела бы никакого значения, если бы Япония оказалась не в состоянии преградить путь России, отбросить ее назад, очистить раз и навсегда Дальний Восток от большевистского влияния.
Коммунистическая идеология, естественно, объявлена в Японии вне закона, самая лучшая армия Японии – Квантунская – стоит на континенте на страже приморской провинции. Маньчжоу-Го было организовано как исходная база для нападения на Россию. Недавно принятая грандиозная программа расширения вооружений имеет явной целью в том, что касается армии, привести ее в такое состояние, чтобы она могла вести войну на два фронта, т. е. в Китае и против России.
Это не снимает того, что японский военный план весьма далек от войны на два фронта. Лучше драться с двумя врагами порознь, чем одновременно, тем более, если тот, с которым уже ввязались в схватку, оказывает сопротивление, пусть даже пассивное, но такое, которое поглощает значительную энергию и вызывает немалую озабоченность…»[133].
3 июня, после продолжительных дискуссий, конференция пяти министров приняла новое решение, которое два дня спустя было одобрено кабинетом и сообщено в Берлин и Рим. Япония соглашалась на пакт с взаимным обязательством немедленно вступить в войну в случае нападения третьей страны на одного из участников, но выдвинула условия: 1) заключение секретного протокола о том, что ее обязательство немедленного и автоматического вступления в войну не распространяется на конфликт, в котором не участвуют СССР и США; 2) перед подписанием договора японское правительство письменной нотой оговаривает возможность принятия им «особых решений» в «чрезвычайных обстоятельствах» (применительно к обязательствам по пакту) и делает устное заявление об ограниченности своих военных возможностей. Реакции со стороны Чиано не поступило, а Риббентроп заявил о неприемлемости любых письменных заявлений об ограниченности действий сторон, добавив, что так захотят сделать и другие, в результате чего союз превратится в фарс. Лучше не подписывать никакого договора, заключил он, чем подписывать неполноценный[134].
В свою очередь, посол Германии в Японии Ойген Отт докладывал статс-секретарю министерства иностранных дел Германии Эрнсту фон Вайцзеккеру следующее:
«7 июня 1939 г.
По сведениям, полученным мною в доверительном порядке от безусловно надежного источника из армейских кругов, 5 июня вечером послу Осима телеграфом направлена инструкция. В соответствии с ней Япония должна быть готовой к тому, чтобы автоматически вступить в любую войну, начатую Германией, при том условии, что Россия будет противником Германии. Если же в конфликте между Германией и третьими державами Россия будет сохранять нейтралитет, то Япония намерена вступить в войну лишь тогда, когда будет достигнуто единое мнение о том, что ее вступление в войну отвечает общим интересам союзников.
Информатор подчеркнул, что армия и флот пришли к данному решению в результате длительных переговоров. Это мнение означает существенный прогресс, поскольку флот снял свою прежнюю оговорку, которая ставила вступление Японии в войну против западных держав в зависимость исключительно от японских интересов.
Отт»[135].
Спустя полмесяца «Рамзай» доложил в Москву содержание телеграммы Отта в Берлин, которую он дополнил сведениями, полученными им от военного атташе Шолль:
«Москва, Начальнику 5 Управления РККА
Токио, 24 июня, 1939 г.
Переговоры между Германией, Италией и Японией о военном пакте продолжаются. Последние японские предложения, по сообщению германского посла Отт и военного атташе Шолль, содержат следующие пункты:
1. В случае войны между Германией и СССР Япония автоматически включается в войну против СССР.
2. В случае войны Италии и Германии с Англией, Францией и СССР Япония также автоматически присоединяется к Германии и Италии.
3. В том случае, если Германия и Италия начнут войну только против Франции и Англии (Советский Союз не будет втянут в войну), то Япония по-прежнему будет считать себя союзником Германии и Италии, но военные действия начнет против Англии и Франции только в зависимости от общей обстановки. Но если интересы тройственного союза потребуют… (2 слова искажено), то Япония присоединится немедленно к войне.
Эта последняя оговорка сделана с учетом позиции СССР, который, видимо, будет втянут в европейскую войну, а также ввиду неясной позиции США. Активные военные действия Японии будут ограничены: во втором и третьем случаях Япония не выступит дальше Сингапура. Согласно первому пункту все японские силы будут брошены против СССР.
Рамзай».
Имеются пометы: «НО-2. Проскуров». «Т. Попову. Мемо т. Шленскому. Кисленко. 29.6». Имеются отметки об исполнении.
Указана рассылка: «По списку № 2. Т. Мехлису».
Подготовка к подписанию пакта о ненападении между Германией и Советским Союзом стала полнейшей неожиданностью для японского посла в Берлине. Из меморандума статс-секретаря МИД Германии Вайцзеккера, Берлин. 22 августа 1939 г.:
«После того как имперский министр иностранных дел вчера поздно вечером кратко, по телефону из Бергхофа, информировал японского посла о последнем повороте в отношениях между Берлином и Москвой, я около полуночи принял господина Осиму для беседы, которая продолжалась в течение приблизительно часа. Японский посол, как всегда, держался хорошо. В то же время я заметил в нем некоторое беспокойство, которое возросло в ходе беседы.
Сначала я описал Осиме естественный ход событий, который привел нас к сегодняшнему заключению пакта о ненападении. После того как Осима выразил свое беспокойство, мы в конце концов пришли к соглашению о том, как Осима может убедить свое правительство в необходимости и выгоде текущих событий.
Как и ожидалось, Осима коснулся следующих двух моментов:
1. Если Россия освободится от забот в Европе, она усилит свой фронт в Восточной Азии и оживит китайскую войну.
121
Молодяков В.Э. Эпоха борьбы. Сиратори Тосио (1887–1949): дипломат, политик, мыслитель. М., 2006. С.244.
122
Телеграмма передавалась двумя частями: 5 и 17 января, доложена начальнику РУ соответственно 7 и 19 января.
123
Попов Петр Акимович 05.10.1904-хутор Осиновский Морозовского округа Донской области, ныне Морозовский район Ростовской области – 03.12.1966. Русский. Из крестьян. Генерал-майор (22.02.1944). В Советской Армии с 1918. Член компартии с 1929. Окончил городское училище (1917), Ростовские-на-Дону командные курсы (1922–1923), Объединенную Киевскую школу им. С.С.Каменева (1924–1926), Химические КУКС (ноябрь 1927 – август 1928), восточный факультет Военной академии им. М.В.Фрунзе (1933–1936). Владел английским и японским языками. Участник гражданской войны (1919–1922) на Южном фронте и Северном Кавказе. Воевал против войск А.И.Деникина и П.Н.Врангеля, боролся с бандитизмом. Красноармеец 84-го кавалерийского полка (ноябрь 1918 – апрель 1922). Командир отделения, помощник командира взвода 20-го Сальского полка (февраль 1923 – сентябрь 1924). Командир взвода 38-го кавалерийского полка (сентябрь 1926 – октябрь 1927), начальник химической службы 37-го кавалерийского полка 7-й кавалерийской дивизии (октябрь 1927 – ноябрь 1931), там же – помощник начальника штаба (ноябрь 1931 – июль 1932), помощник начальника 6-го отдела штаба Белорусского ВО (июль 1932 – сентябрь 1933). В РУ РККА – РУ Генштаба Красной Армии: в распоряжении (март 1936 – июль 1938), направлен «согласно решения Наркома, для стажировки в Японскую армию». Секретный уполномоченный 2-го (восточного) отдела (июль – сентябрь 1938), заместитель начальника, начальник 1-го отделения (Япония, Корея) того же отдела (сентябрь 1938 – август 1940), заместитель, и.д. начальника 3-го отдела (август 1940 – июнь 1941), с июня 1941 заместитель начальника 4-го отдела. Заместитель начальника штаба по разведке и одновременно начальник РО штаба Забайкальского фронта (июль 1943 – октябрь 1945). «Имеет большой практический опыт по разведывательной работе. Умело руководит разведывательной службой в частях и соединениях фронта. Часто бывает в частях, соединениях и разведывательных органах и оказывает непосредственную практическую помощь офицерскому составу разведывательной службы, помогая им осваивать опыт Отечественной войны» (из Наградного листа, 19.01.1944).
124
Сообщение Зорге было получено во Владивостоке 3 января, передано в Москву 4 января и доложено начальнику Разведуправления 5 января.
125
Сообщение было передано 23 января.
126
XVIII съезд Всесоюзной Коммунистической партии (б). Стенографический отчет. М., 1939. С. 11–15.
127
СССР в борьбе за мир накануне второй мировой войны (сентябрь 1938 г. – август 1939 г.). Документы и материалы. M., 1971. С. 352–354.
128
Зорге датировал это сообщение 9 апреля, а передано оно было 13 апреля и доложено начальнику РУ 14 апреля.
129
Сообщение передавалось двумя частями. Первая часть (до «звездочки») была датирована 15 апреля, передана и доложена руководству 17 апреля. Остальная часть сообщения датирована и передана 23 апреля, а доложена руководству 26 апреля.
130
Герасимов Виктор Александрович, 24.01.1903, Покровская слобода Новоузенского уезда Самарской губернии, ныне г. Энгельс – 20.2.1985, Москва. Русский. Из рабочих. Генерал-майор (03.06.1944). В РККА с 1923. Член ВКП(б) с 1926. Окончил экстерном школу II-й ступени в г. Покровске (1921), Московскую военно-инженерную школу им. Коминтерна (1923–1927), специальный факультет Военной академии им. М.В.Фрунзе (1932–1936). Владел английским, немецким, японским языками. В гражданской войне участия не принимал, работал ремонтным рабочим на станции Покровск Рязано-Уральской железной дороге, с апреля 1920 – наёмным рабочим в сельскохозяйственной артели «Октябрьская» в районе станции Малоузенск Самарской губернии. С сентября 1920 – секретный сотрудник отдела дорожно-транспортной ЧК на ст. Покровск. С мая 1922 – чернорабочий, подручный слесаря и шофер в мастерских американской миссии помощи голодающим в с. Сорочинское. С мая 1923 – грузчик в артели на Волге. В июне 1923 переезжает в Москву и 1 июля добровольно вступает в ряды РККА. В период обучения в Московской военно-инженерной школе им. Коминтерна неоднократно стажировался в войсках. Командир отделения в подразделениях школы (ноябрь 1926 – август 1927). Командир взвода, начальник школы младшего комсостава отдельного саперного полуэскадрона, помощник командира отдельного саперного эскадрона (август 1927 – май 1932). В РУ РККА – РУ Генштаба Красной Армии: в распоряжении (сентябрь – октябрь 1936), секретный уполномоченный (октябрь 1936 – июль 1938), начальник отделения (июль 1938 – сентябрь 1940) 2-го (восточного) отдела, начальник 2-го отделения 3-го (военной техники) отдела (сентябрь 1940 – январь 1941), в распоряжении с января 1941 и находился в загранкомандировке в северо-западном округе Китая. Спустя два года представлен к награде «за умелое выполнение разведывательных заданий за рубежом». Участник Великой Отечественной войны. В Действующей армии с июля 1942. Назначен заместителем начальника штаба в 6-ю резервную Армию (7.7.1942). Командир 267-й стрелковой дивизии 15-го стрелкового корпуса 6-й армии (20.12.1942-03.1943), полковник. Участвовал в Среднедонской, Острогожско-Россошанской и Ворошиловградской наступательных операциях, в ходе которых дивизия разгромила около трех дивизий противника. Преследуя отходящего противника (5-19.2.1943), дивизия освободила до 200 населенных пунктов, но была окружена частями 4ТК СС. Дивизия прорвала кольцо окружения, отошла к р. Северский Донец и заняла оборону в районе Балаклеи. Госпитализирован (26.3.1943) по болезни. Генерал-майор (3.6.1943). После излечения направлен для прохождения службы в ГРУ Красной армии.
131
Молодяков В.Э. Несостоявшаяся ось: Берлин – Москва – Токио. М., 2004. С. 137–138.
132
Документы и материалы кануна второй мировой войны. 1937–1939. Т. 2. Янв. – авг. 1939 г. М., 1981. Т. 2. С. 105–113.
133
СССР в борьбе за мир накануне второй мировой войны. Указ. соч. С. 422–423.
134
Молодяков В.Э. Несостоявшаяся ось. Указ. соч. С.140.
135
СССР в борьбе за мир накануне второй мировой войны. Указ. соч. С.437.