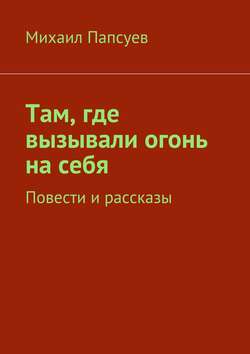Читать книгу Там, где вызывали огонь на себя - Михаил Дмитрович Папсуев - Страница 21
Там, где вызывали огонь на себя
Детство в фашистской оккупации и после. Воспоминания
Глава 6
ОглавлениеЕщё в 1941 году, завершив охоту накур, уток и гусей, немцы приступили к уничтожению мелкого скота.
Жители стали забивать мелкий скот сами. Но сберечь мясо было нельзя. Не было соли. Отсутствие соли было бичём населения оккупированных территорий всё время оккупации. Коров резать жалели. И оккупанты всех коров угнали из села в райцентр Ершичи.
Среди коров всегда есть очень «грамотные» особы – заводилы стада. Позже, когда я уже был подростком и пас коров в очередь, была задача дисциплинировать таких коровьих заводил.
Коровы чётко понимают, кто их пасёт. Женщины распускают дисциплину в стаде. Поэтому, когда наступает твоя очередь пасти коров, в стаде нужно восстановить дисциплину. Коровьего лидера следует загнать в топику, и хорошо отходить кнутом. И в стаде будет твёрдая дисциплина.
Вот такие коровьи лидеры из угнанного немцами стада ночью привели несколько коров назад домой за 12 километров. Хорошие коровы из угнанного стада оказались в хозяйствах полицейских и других прислужников немцев. После освобождения нас в сентябре 1943 года некоторые жители села обнаружили своих коров у новых хозяев, которые, как правило, безропотно возвращали их истинным хозяевам.
Так из этих единиц коров у селян стал появляться крупнорогатый скот. Женщинам стало легче. Колхозное поле уже не копали лопатами, а пахали и бороновали в том числе и на своих коровах.
Появилась корова и у нас с матерью. Однажды вместо матери я – подросток пошёл бороновать колхозное поле на своей корове. Наступила жара. Я задержался на поле. Корову жалят оводы. Она бьёт копытами. Я босый. Корова – животное парнокопытное, и концы копыт острые как нож. Я зазевался, и корова смаху острым копытом в пахоте ударила мне по ступне сверху. Разворотила мне всю ступню и основательно забила рану землёй. Рану я промыл своей мочой, но забинтовать было нечем. Так и пришёл домой с голой раной. Что удивительно —на ноге даже малого нарыва не появилось!
…В 1945 году для колхоза пригнали чёрно – белых пятнистых коров из Германии, которые все без исключения передохли от бескормицы и российских стойловых условий.
Тогда колхоз получил коров и лошадей из Монголии. Эти выжили ВСЕ. Зимой их выпускали из загонов. Они копытами разрывали снег и ели прошлогоднюю траву.
Но с монгольскими лошадьми были трудности. То, что они были низкорослыми и малосильными – не беда. А вот не все привыкали к упряжи. Некоторых запрягали в телегу или сани, уперев оглобли в стену.
Был один маленький, почти игрушечный вороной конёк. Лохматый, грива почти до земли. Его почти не запрягали. Был очень маленький. Постоянно находился в стаде с коровами или лошадьми. На нём постоянно гарцевали пацаны – конюшата. Конёк был настолько «грамотный», что без уздечки сам заворачивал недисциплинированных коров и лошадей.
Однажды я заготовил сено в болоте Талое в Брянском лесу. Мне нужно было сметать сено в стожок. Чтобы снести конёшки в кучу, я поймал эту маленькую лошадку, нашёл самый маленький хомут на конюшне, и поехал в лес.
Год был сухой, а тот день – жаркий. Болото всё высохло. Воды нет. Однако лесные умельцы в низинке выкопали яму и достали воды. Вода стояла в яме сантиметрах 50—60 от поверхности земли. Я подошёл к крынице попить. Конь за мной. Я фуражкой зацепил воду, попил. Конь стал на колени передних ног. Попытался попить. Не получается. Для него слишком глубоко —мал. У меня на ногах были литые шахтёрские калоши. Надо было видеть, как благодарно конь смотрел мне в лицо, когда я напоил его из калоши…
От немногих коров появились бычки. Их сделали волами. Это тягло было весьма своеобразным. У вола «передача» была одна. Скорость движения не менялась. С воловьим возом были и свои преимущества. Едешь медленно, но верно. С любым возом в грязи не застрянешь.
Однажды, будучи уже подростком, я поехал на волу в лес за дровами. Чтобы подвезти дрова к своему двору, нужно было проехать около «воловки» («квартиры» моего вола). Поровнявшись с воловкой, вол встал – и ни шагу вперёд! Возобновить движение я пытался около часа. Бесполезно… Наконец меня осенило. Дело было летом. Я снял с себя рубашку, завязал ею волу глаза, описал телегой круг, и поехал в нужном направлении.
А ребята повзрослее возили зерно на хлебосдачу государству. Пункт сдачи – станция Пригорье – 25 километров от села. В упряжке – лошади, а у Шурки Надвикова – вол. Когда ехали с грузом, Шурка лежал на возу и посмеивался. Не слезал с воза даже при движении в гору. При движении обратно домой ситуация изменилась. Дело было в субботу. В деревне вечером – танцы. Те, кто был на лошадях, хлестнули коней и укатили. Ко двору лошади всегда бегут резво. У Шурки же скорость не меняется. Все попытки ускорить ход телеги были безуспешными.
Но Шурка обратил внимание на то, что при попадании возжи под хвост волу, вол прижимает возжу к телу. Прикуривая цигарку, свёрнутую из самосада, Шурка взял клок сена, поджёг его и сунул волу под хвост. Вол инстиктивно прижал горящий клок сена к телу, и рванул с места в галоп.
ОБОГНАВ РЕБЯТ, ЕХАВШИХ НА ЛОШАДЯХ, Шурка на вечёрке оказался раньше их!
Клуба же в селе не было. Молодёжь собиралась по хатам, уговорив для этого мероприятия какую – нибудь одинокую женщину.
Обязательным условием при этом было, чтобы на следующий день пришли девчата и «с голиком» вымыли хату.
Музыкой же молодёжь потешал слепой после кори в детстве гармонист Николай Никонов по прозвищу Рогуля.
К 1950 году участвовшая в войне, и оставшаяся в живых молодёжь домой ещё не вернулась, служила в Советской Армии. Подросшая же и ещё не служившая в Армии молодая поросль на добровольных началах приступила к строительству клуба. Благо колхоз имел большой массив своего леса.
Клуб построили в основном на добровольных началах и не из «Анфисиной Риги», как в кинофильме «Дело было в Пенькове», а из свежего леса.
Позже в клубе был стационарно установлен кинопроектор типа «Украина». Он удобен был тем, что киномеханик на мотоцикле ехал в райцентр, брал в рюкзак две бобины с кинолентой, и через полчаса был в клубе.
А до этого кино привозили не чаще одного раза в месяц – на лошади или на быку. «Передвижка» показывала кино, а потом наш колхоз вёз аппаратуру на своём тягле в другое село.