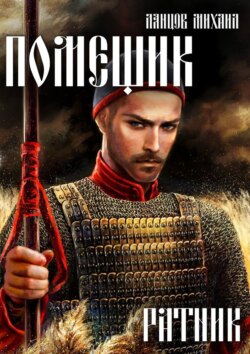Читать книгу Помещик. Том 3. Ратник - Михаил Ланцов - Страница 3
Часть 1. Испанский гамбит[2]
Глава 2
Оглавление1554 год, 13 января, вотчина Андрея на реке Шат
– Ты чего не спишь? – тихонько спросил Андрей у супруги.
– Думаю, – шёпотом ответила жена.
– О чём?
– О том, что вышла замуж за безумца.
– Это понятно. А точнее?
– Ты ведь на самом деле не хочешь покоя. Ты, словно мальчишка, возжелал славы.
– А ты против?
– Против. Но поддержу тебя во всём.
– Неожиданно.
– А ты думал, я упру руки в боки и начну качать права?
– Да.
– Это глупо… – чуть помедлив, ответила она. – Женщина сильна мужем своим. Я с тобой не согласна, но что это меняет? Я пойду за тобой в любом случае.
– И что тебя мучает?
– Что ты будешь делать – я понимаю. Закусишь удила и как мальчишка станешь скакать по всей округе да махать сабелькой. Ну и лапшу на уши вешать аборигенам, чтобы денег срубить. А я? А что мне делать? Как Марфа, я должна вести хозяйство, пока ты в походе. Но как Алиса я ума не приложу, с какой стороны к нему подойти.
– А чего там подходить-то?
– Тебе легко. Ты готовился. А я? Я ведь росла как цветок. Младшая дочь в состоятельной семье. Меня все любили и баловали. Да, учили готовить. Но ты бы видел кухню мамы. Она была оснащена по последнему слову техники. Папа не жалел денег на неё…
– А хозяйство? Ты совсем ничего не знаешь?
– У папы был большой бизнес, а хозяйство он воспринимал как приятное дополнение. Дань традиции скорее. Я больше всего любила его прекрасный фруктовый сад. Большой-большой. Там несколько сотен деревьев росло. Ты даже не представляешь, как там становилось красиво, когда они цвели. Но я никогда не видела даже, как деревья сажают. Понимаешь? Просто приходила посмотреть на красоту. И всё.
– Чему же ты училась все эти годы? Мне казалось, что на Кавказе много внимания уделяют домоводству и прочим подобным вещам.
– Уделяют. Но не в моём случае. Понимаешь, пока я жила с родителями, то в свободное время развивалась как будущая жена для состоятельного мужа. И ни папа, ни мама даже не предполагали, что мне придётся разбираться в том, как сделать брынзу или постричь овец. Так что я училась танцевать, петь, играть на чунгуре[4], изучала поэзию. Научилась рисовать. Писать каллиграфическим подчерком. Выучила недурно языки. Хорошо разбиралась в традициях и обычаях. А теперь вляпалась во всё это…
– Жопа… – едва слышно констатировал Андрей.
– Жопа, – охотно согласилась с ним Марфа… точнее, Алиса. – Вот ты уедешь по весне. А я-то что делать буду?
– А какие языки ты знаешь?
– Какое это имеет значение?
– Это может оказаться полезным.
– Я знаю языки тех лет. Сейчас они другие.
– И всё же. Ты ведь смогла наговорить гадостей тем татарам. И они тебя в целом поняли. Так что другие, но это ни о чём не говорит. Плюс-минус языки наверняка похожи, и через пень-колоду ты их и сейчас поймёшь.
– Ну… родной мой лезгинский. Русский и английский знаю свободно. Могу более-менее объясниться с азербайджанцами-турками, табасаранцами, кумыками, аварами, адыгами, а также нохчий-галгай. Чуть-чуть знаю немецкий и французский. Отец вёл много с кем переговоры и считал полезным, чтобы его дети знали языки. И женщины тоже. Ведь услышать можно разное… и случайно оброненное слово, бывает, решает если не всё, то многое.
– Хм… у тебя талант к языкам, я посмотрю.
– Да, они мне легко даются, поэтому старославянский я и выучила быстро и легко. А потом и тут. Но… какая от всего этого польза? Я ведь понятия не имею, как вести хозяйство. И ладно крепости, так даже и обычного дома.
– Ничего страшного, милая. Ничего страшного. Давай так. Мы каждый день будем об этом беседовать. Сначала я расскажу всё в общих чертах. А потом ты будешь спрашивать.
– Правда? Ты ведь вон сколько с сабелькой да копьём своим прыгаешь.
– Правда-правда, – произнёс Андрей и нежно поцеловал жену в шею. – Я ведь, когда готовился, не думал, что вот так всё повернётся, поэтому больше налегал на сельское хозяйства и ремёсла.
– Может быть, мне лучше записывать?
– Можешь и записывать. Только аккуратно. Не забывай о том, что эти записи могут попасть в чужие руки.
– Я не знаю никакой тайнописи. Или мне на своём родном вести записи?
– Не надо никакой тайнописи. Пиши на местном языке. Максимально просто. И без иноземных слов. Потому как, если найдут записи на непонятном языке, проблем не оберёшься. С греческим ещё как-то удалось объясниться, а вот с лезгинским…
– Я поняла, – оживившись, ответила Марфа и повернулась лицом к Андрею. Причём несколько увлеклась и чуть не легла на живот.
– Так, – придержал он её. – Осторожнее. Не раздави нашего ребёнка.
– Прости, – тихо шепнула она и потянулась целоваться…
Технически Андрей мог бы найти и управляющего. Приказчика, как в эти годы говорили. Но имелись нюансы. Точнее, два.
С одной стороны, он не доверял приказчикам, вполне законно считая, что им плевать на управляемое хозяйство, то есть срубили бабла – и ходу. А вотчина? Так хоть трава не расти. Понятно, что не всё так плохо. И найти человека ответственного было можно. Как и найти для него способы мотивации. Но всё равно Андрей считал это крайностью.
С другой стороны, парень попросту не доверял местным методам ведения хозяйства. Слишком архаичным и неэффективным, на его взгляд. Понятно, что от подсечно-огневого земледелия уже, к счастью, отошли. Но ушли недалеко… Во всяком случае, если смотреть на них с высоты веков.
Применялось обычное, самое что ни на есть примитивное трёхполье, известное ещё во времена Римской республики, то есть ситуация, при которой одно поле засевали нормально, второе – озимыми, а третье держали под паром, давая ему отдохнуть и набраться силы. На следующий год всё смещалось.
В принципе, рабочее решение, но имелись проблемы.
Прежде всего, треть земель не использовалась вовсе, а ещё треть задействовалась лишь частью, то есть в целом очень невысокая эффективность эксплуатации.
Ну и главное – при таком подходе земля не успевала отдохнуть и восстановить своё плодородие, отчего пашни целинные, то есть только освоенные, давали урожай не в пример лучше.
Как это обойти?
Андрей знал несколько способов.
Заваливать поля удобрениями он не мог. Просто потому, что необходимого объёма удобрений у него не имелось. А пускать на эти цели солому и прочие полезные в хозяйстве вещи он не мог себе позволить.
Менять поля по мере их истощения, распахивая соседние земли, он тоже не мог. Ведь его вотчина строго очерчена.
Оставалось только одно – применять более прогрессивный метод севооборота, с одной стороны. И механизацию – с другой.
С севооборотом всё было просто и легко. Ну, на первый взгляд. Андрей планировал применить Норфолкский цикл в его архаичном виде. Известный так же, как четырёхполье.
Его вотчина писалась в сто четвертей. Но в те годы это означало триста, ибо оценивалась лишь треть из-за практики трёхполья. Вот эти триста четвертей Андрей и планировал разделить на четыре равные части. На первой он планировал высаживать горох, на второй – озимую пшеницу, на третьей – репу и свёклу, а на четвёртой – овёс. На следующий год всё смещать по кругу.
Просто и совершенно бесхитростно. А истощения почвы и её деградации из-за такой смены культур не происходило.
Кроме всего прочего, это позволяло отойти от специализации на монокультуре, что запредельно снижало угрозу голода из-за климатических проблем.
Механизация же заключалась в использовании плуга и сеялки. Самой что ни на есть примитивной и простой.
С плугом всё понятно. Качественное улучшение и ускорение механической обработки почвы – это большой плюс. Хотя и не такой очевидный на первый взгляд. А вот сеялка выступала настоящей сельскохозяйственной «вундервафлей»[5] в этих условиях. Почему? Так сеяли зерновые в те годы как? Просто рассыпали их по пашне, а иной раз и просто разрыхлённой мотыгой земле. И птицы склёвывали в среднем от трети до половины, а иной раз и больше.
К чему это вело?
К низкой урожайности. Ведь архаичные сорта зерновых не отличались ни большим количеством зёрен в колосе, ни множеством стеблей в кусте. А значит, выжившие всходы не могли компенсировать погибшие семена. Это с одной стороны, а с другой – сыпать приходилось обильно. Птицы же склёвывали зёрна неравномерно, из-за чего получались островки слишком густого посева, где растения мешали друг другу. И выходило, что местами шли проплешины с бурьяном, а местами чалые, но густо растущие злаки.
Так или иначе, но ручной посев банальным разбросом уменьшал урожайность зерновых в те годы минимум вдвое. И Андрей планировал этот вопрос разрешить, изготовив примитивную сеялку. Два колеса. Бункер с зерном. Нож, разрезающий грунт. Трубка, по которой зерно подавалось. Отвал, засыпающий разрез грунта. И мерный счётчик-отсекатель для зёрен, работающий от оборота колеса.
Он с этой сеялкой сам возился.
Кузнец и его подмастерья, конечно, помогали. Но основной объём работы приходилось делать самому. Так было проще и быстрее.
Пока он ограничился сеялкой на ручной тяге. Просто проверить. Да и засеять по весне сорок гектаров[6] овсом и столько же по осени пшеницей можно было и без лошади. Во всяком случае, это было проще, легче и быстрее, чем рассеивать зерно вручную на таких площадях.
Конечно, оставался ещё открытый вопрос с сеном. Но Андрей не обольщался. На своих «33 квадратных метрах» он, в принципе, не в состоянии прокормиться. Даже просто обычным продовольствием. Без закупок не обойтись. Вот и думал больше не столько об автономности, сколько об эффективности использования собственной земли.
И так во всё это погрузился, что даже не заметил, как в очередной раз подставился. Во всяком случае, неделю спустя к нему подошёл Кондрат и присел на лавочку со словами:
– Да, не думал я, что у Петра дочь такая дура.
– Чего это? – напрягся парень.
– А чего ты с ней, как с ребёнком, возишься?
– Так забыл, что ли? Про колдуна.
– А, ну да, колдун.
– Вот и учу её. Мне ведь супруга толковая нужна. Чтобы я мог на неё положиться.
– А ты сам-то отколь сие ведаешь?
– Как откуда?
– Я послушал твои поучения. Мудрёно очень. Да и отец твой иначе дела вёл. И я. И все мы. Откуда твои знания?
Андрей замолчал. Он как-то растерялся от такого вопроса.
– Можешь не отвечать, – улыбнулся Кондрат. – Мне. Но я уверен, рано или поздно этот вопрос тебе зададут.
Снова тишина.
– Ты не слушай её. Я ведь не раз замечал, что она тебя поучает быть как все. Не выделяться. Ну когда думает, что никто её не слышит. Многие это замечали. Но то не страшно. Чай, не в глухой чаще живёте, а среди людей.
– А чего не слушать?
– Так вы чем больше стараетесь быть как все, тем смешнее выходит. Другие вы с ней. Оба другие. Учёность твоя явно книжная и весьма великая. Откуда она? Я не ведаю. Отец Афанасий тоже лишь руками разводит. Сабелькой вон лихо владеешь. Много лучше любого из нас. Значит, учитель у тебя был добрый. А это себе не каждый боярин может позволить. Да и она краля. Дочь простого десятника тульского. Как же! Читать-писать может, причём бегло. Много всего знает, что знать не должна. Обыденные же вещи не ведает. А как гневаться изволит, так глаза молнии мечут. Словно княжна какая. Лишь силой духа своего смиряется. Вы оба белые вороны.
– Федот и Аким так же думают?
– А как же? Или ты думаешь, что мы пошли бы под руку простого помещика? Считай, новика?
Андрей скрипнул зубами.
– Вот я и думаю, что, может, колдовство то и заключалось не в вашем повреждении, а в том, чтобы мы все подумали, что ты – это Андрейка, сын покойного Прохора, а она – Марфа, Петрова дочь. Тогда ведь и безумие Петра становится понятно. Не выдержала душа обмана. Болеть стала. Оттого и окрысился на тебя.
– Его ведь натравили.
– А его и раньше натравливали. И что? Ума хватало глупости не делать.
– Отец Афанасий тоже так думает?
– Многие в Туле ныне задают вопросы… – уклончиво ответил Кондрат.
– Спасибо, – тихо ответил Андрей.
– За что?
– За то, что сказал. Я ведь… я ведь и не замечал даже…
– А как тебе заметить? – усмехнулся дядька Кондрат. – Ты совсем иначе живёшь. Иначе мыслишь. Я когда увидел, что ты стал носиться с чистотой как одержимый, то сразу заподозрил неладное.
От этих слов Андрей чуть дёрнул подбородком, выдавая своё крайнее раздражение. Он как-то забыл, что в эти времена о гигиене ещё ничего не знали и не связывали чистоту со здоровьем. Мытье же, особенно частое, связывали совсем с другими вещами. Особенно мытье одежды и общую борьбу за внешний чистый и приятно пахнущий облик.
Быть чистым в те времена считалось признаком статуса. И князь, как в приснопамятном фильме «Викинг», бегать грязным прилюдно просто не мог бы себе позволить. Ведь среди незнакомцев считался главным тот, кто выглядел чище и был богаче одет. По умолчанию. Ибо встречали по одёжке. Одежда и чистота выступали в роли своего рода погон, позволяя маркировать людей по их социальному статусу через внешний вид. Даже если обстоятельства сложились так, что тот же князь испачкался, то он при первой же возможности навёл бы марафет. Даже какая-нибудь власяница для смирения и та у таких людей должна быть чистой и не рваной.
Андрей же заморачивался с чистотой просто чрезмерно. Просто боялся заболеть. Да и вообще не привык он к тому, чтобы возиться в грязи. И это просто резало взгляд окружающим.
Показателен был и его поступок, совершенный при посещении Царя. Его одежда обычна для простого поместного дворянина. Но он её устыдился и решил прийти в доспехах. Достаточно дорогих доспехах, как по меркам Руси. Об этом он имел дурость всем растрепать. Дескать, беден. Пришлось в доспехах идти, ибо в них сраму нет…
– Дурак… ой дурак… – тихо простонал Андрей, когда дядька Кондрат ушёл, и парень остался один. – Кем же они меня вообразили?
4
Чунгур – региональное название старинного персидского струнного музыкального инструмента, известного как саз. Для него характерен грушевидный корпус, гриф с навязными ладками, деревянный резонатор (без использования кожаной мембраны), сдвоенные или строенные струны и звукоизвлечение плектром.
5
В данном случае имеется в виду смешливый пересказ немецкого слова Wunderwaffe – чудо-оружие.
6
300 четвертей – это 163,881 га. Четверть от них – 40,97025 га.