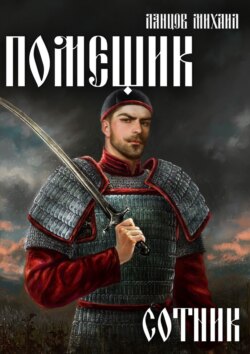Читать книгу Помещик. Том 4. Сотник - Михаил Ланцов - Страница 7
Часть 1. Удача и самоуверенность
Глава 6
Оглавление1554 год, 21 октября, вотчина Андрея на реке Шат
Осень стремительно продвигалась, неуклонно приближаясь к зиме, что в разгар малого ледникового периода[14] было особенно заметно и волнительно. Так что, казалось бы, конец октября, но ощущался он уже скорее как середина или даже конец ноября. По утрам подмораживало изредка, покрывая траву инеем. Но речная вода пока держалась и боролась за жидкое агрегатное состояние.
Люди же, предвкушающие холода, активно к ним готовились. Басню про стрекозу и муравья Андрей уже рассказал, и она обрела немалую популярность среди обитателей вотчины. Впрочем, не только её одну, ему вообще частенько приходилось выступать спикером, рассказывая разного рода байки. Где-то просто увлекательные. Где-то заставляющие задуматься. Но непрерывно. Впрочем, это уже совсем другая история.
Итак, вотчина оживлённо шевелилась, бурля как вода в котле.
Располагалась она на мысу, образуемом изгибом реки Шат в том месте, где в XXI веке располагалась деревня Кукуй[15]. По правому берегу, примерно в 57 километрах выше по течению от тульского кремля и в 19 километрах ниже Иван-озера, опять-таки по течению. Тула, правда, стояла на реке Упе, а вотчина – на Шат. Но в этом не было никакой сложности, ибо Шат являлась притоком Упы.
Судоходства по этим водным путям в понимании XXI века организовать было нельзя. Но на дворе стоял XVI век и крупные лодки длиной до 15 метров вполне могли ходить от Тулы до Иван-озера. На реке Шат, правда, хватало узостей всего в 5–6 метров, из-за которых эти лодки не смогли бы там развернуться. Но и разливы имелись, да и далеко не во всём течении Шат была столь узкой, скорее наоборот.
Вотчина и окружающие её земли поместья располагались на самом южном «берегу» России. Во всяком случае, в этих краях. Восточнее-то имелись уже владения и в Хаджи-Тархане. Но здесь, по округе, южнее поместий и тем более вотчин ни у кого более не наблюдалось. Точнее, ранее они там стояли. Но в 1552 году как погорели, так и не возрождались. Впрочем, несмотря на такое пограничное положение, в вотчине было спокойно. Степняки после событий 1553–1554 годов достаточно настороженно относились к этому направлению. Особенно после того, что Андрей устроил в 1554-м…
И это позволяло спокойно работать.
Ключевые организационные вопросы с управлением Андрей к этому времени уже решил. Всё-таки вотчина не завод имени Лихачёва и представлял собой нечто едва выходящее за рамки малого бизнеса. Так что к 21 октября парень в плане реорганизации управления занимался преимущественно контролем, отслеживая и корректируя то, как выполняются его инструкции. Единственным направлением в этом управленческом проекте, которое требовало постоянного внимания с его стороны, оказалось образование. Всех этих новоявленных управляющих разных рангов требовалось обучать хотя бы элементарным вещам. И никто, кроме него, это сделать не смог.
Андрей всё-таки слепил учебники.
Во главе угла встал, конечно, букварь. Ибо неумение читать обрубало почти все пути к учёности. Пусть даже и самой элементарной. Местных наработок по этому вопросу парень не знал, поэтому опирался на то, с чем сталкивался в собственном детстве. В той степени, в которой он вообще это всё помнил. Как несложно догадаться, память его изрядно подводила, поэтому приходилось опираться преимущественно на здравый смысл.
Первый раздел букваря состоял из блоков, посвящённых буквам. Не всем. Дубли, которых в русской письменной традиции уже получилось много, он не стал выделять. Просто выбрал «правильные», на его взгляд. И проработал их в привычном для XX–XXI веках ключе. А Марфа снабдила всё это художество ещё и рисунками в стиле скетча, которым владела, чтобы даже без учителя можно было разобрать – где какая буква. Второй раздел букваря он посвятил слогам и складам. И наконец, обратился к словам. Далее же, в четвёртом разделе, он разместил маленькую хрестоматию, для чтения в которой использовал самые что ни на есть простые, но осмысленные выражения, снабдив их скетч-иллюстрациями.
Надо сказать, что иллюстраций вообще было много. Даже очень много. В среднем половина страницы заполнялась именно графикой. А в первой же части, посвящённом буквам, иллюстрации так и вообще достигали семидесяти-восьмидесяти процентов информации.
В самом конце букваря располагалась справочная часть. Там Андрей разместил таблицу с полным алфавитом, названием букв, их звучанием, числовым соответствием и соответствием глаголице, включив туда даже те буквы, которые не описывал, считая дублями или утратившими смысл. А далее, за таблицей, просто записал перечень основных, предельно просто сформулированных правил, так или иначе связанных с чтением и письмом. Завершал же справочную часть он таблицей специальных символов. Причём не только той, что уже употреблялась, но и той, которая требовалась в некой перспективе, вроде всякого рода двоеточий, многоточий, запятых и так далее.
Получилось довольно добротно и основательно. Во всяком случае, на фоне того, что вообще в те годы существовало. Не только на Руси, но и в принципе в мире.
Тут нужно отметить, что восприятие грамотности в XX–XXI веках и ранее очень сильно отличалось. Причём не в деталях, а в принципе. Дело в том, что справочников и словарей до конца XIX века попросту не существовало. Во всяком случае, в России, в которой внятной регламентации языка до советской эпохи не существовало вообще. По крайней мере, всеобъемлющей, из-за чего все эти вещи и не выступали эталоном правильности. Вместо них опирались на читательский опыт[16] и своё виденье вопроса. Это отмечал ещё Белинский в начале XIX века, говоря о том, что в русском языке столько же правописаний, сколько книг и журналов[17].
На Руси в XVI веке, кроме очень узкой ниши официальных документов, в которых подражали насколько могли старым текстам, имелась бытовая орфография и буквоупотребление, которые довольно сильно «плавали» от района к району. Общая его идея была близка к языку интернета – главное, чтобы адресат послания тебя понял, всё остальное не имело никакого значения.
Так что Андрей без малейшего зазрения совести или иных рефлексий лепил букварь для обучения бытовому письму. Такому, какому хотел. Просто давая будущим ученикам возможность понимать и другие тексты, в которых массово употреблялись дубли, давно потерявшие всякий смысл в живом языке. Какая-то смысловая нагрузка в них оставалась только в официальных публичных текстах. Но и там мало кто понимал, почему в этом слове употреблялась такая буква, а не иная. Максимум ссылаясь на какие-то старые книги, где делали так же…
Вторым учебником Андрея была «Арифметика начальная» которая в своё время вызвала в нём массу рефлексий. Теперь же, глядя на этот текст, он был ещё более доволен, чем букварём. А чувство тревоги, если и возникало, то не сильное.
На Руси в 1554 году безраздельно властвовала старинная система непозиционного счёта и запись чисел в такой же архаичной форме[18]. И она в смешанном виде употреблялась и в начале XVIII века, встречаясь даже в датах на копейках[19]. Однако в Европе индо-арабские цифры, попав туда в районе X века[20], получили широкое распространение в XIII–XIV веках, из-за чего активно участвовали в переписке, в том числе бытовой или торговой. И купцы эти цифры ведали практически повсеместно. Тем более что восточные торговцы, приезжающие из Крыма и по Волге, также их употребляли. Так что Андрей, немного подёргавшись, остановился на них, как более привычных для себя.
Учебник этот имел семь разделов.
В первый он поместил табличку с цифрами, их описанием, правилами записи и прочтения. А также все основные специальные символы, которые планировал употреблять. Кроме того, здесь же находилась таблица Пифагора[21], совершенная обычная для школьных тетрадок из его детства.
Дальше последовательно шли пять разделов, посвящённых сложению, вычитанию, умножению, делению и дробям. Само собой, везде, без всякого исключения, использовались нормальные цифры и десятичная система счёта.
В седьмом разделе Андрей описывал разные способы записи чисел, с которыми можно столкнуться. Прежде всего имея в виду римскую, греческую и славянскую.
Как и букварь, учебник «Арифметики начальной» был испещрён скетчами, сильно облегчающими понимание. А все арифметические действия шли через наиболее доступные формы объяснения народным языком с примерами из жизни. Так, чтобы даже дурак смог понять, о чём речь.
Для практики в счёте и письме парень активно использовал восковые таблички. Не самая удобная вещь. Однако он не мог себе пока что позволить переводить на это дело не самую дешёвую бумагу. Бересты же в нужном объёме заготовить было попросту нереально. Дополнительно для совместных занятий он изготовил одну большую доску, выкрашенную в чёрный цвет. Для того, чтобы писать на ней мелом.
И Андрей не только всё это сделал, но и настырно внедрял. Обкатывая. Все его управляющие, проходящие обязательное обучение по букварю и арифметике, упражнялись каждый день, кроме воскресенья, минимум по паре часов. Учитывая базовый нулевой уровень, это было не так много. Читали. Писали. Считали. Снова читали. И так далее. И так по кругу. Заодно парень обкатывал их реакцию на учебники и нарабатывал корпус прикладных задач для иллюстрации. Всё-таки это первый блин, и парень не сомневался, потребуются правки и новая редакция перед подготовкой учебника к тиражированию. Хотя бы самому элементарному.
В остальное время от контроля и обучения Андрей занимался хозяйственными делами, пользуясь тем уникальным обстоятельством, что у него под рукой оказалось много рабочих рук. В том числе и мужских. Тренировки же и боевое слаживание он оставил на зиму.
Всё дело в том, что когда он уезжал по весне из вотчины, под рукой Марфы он оставлял едва два десятка взрослых, примерно две трети из которых были мужчинами. Но в их число входила группа кузнеца-Ильи и группа плотника-Игната. А ещё имелся Пётр с тремя подручными, выполнявший функцию «охранного предприятия». Так что собственно простых работников имелось не так уж и много, мягко говоря.
Марфа за то время, что муж находился в походе, подсуетилась и сумела навербовать ещё два десятка человек[22]. Мужчин преимущественно. Из числа разорившихся крестьян, начавших голодать по весне. Не сама, разумеется, а с помощью Агафона, к которому обратилась.
Позже, уже летом, в вотчину прибыли люди, направленные туда отцом Афанасием из числа освобождённого Андреем полона.
Прежде всего, это двадцать девять молодых женщин, семьи которых побили, что лишило их средств к существованию. Ведь женщина без мужчины в XVI веке выжить попросту не могла. Замуж их тоже не взяли бы без приданого. Даже крестьяне. В общем, идти им некуда, разве что обузой к родичам. Та ещё судьба. Так что они охотно согласились податься под руку освободителя, в надежде на то, что им там улыбнётся удача. К ним вдогонку шли и сорок семь юниц лет десяти-двенадцати, которые были в том же положении. Только ещё и возрастом не вышли, а родичи, если и имелись, то совсем дальние.
Так что весь балласт того полона отходил Андрею. Это на рынке рабов девушки и молодые женщины ценились высоко. В обычной жизни всё было строго наоборот. Особенно в социальном низу, где женский пол выступал обузой, неспособной себя прокормить.
А вот пареньков из полона все разобрали себе. Это рабочие руки. В будущем. И очень недалёком. Так что ремесленники особенно на них позарились. И Андрею не досталось ничего. Мужчины же в основной своей массе разошлись по поместным дворянам. Им также возвращаться было некуда. Ведь даже если и возвращаться, то дома ждало их пепелище да голод. В лучшем случае. Хотя кое-кто всё же отправился домой. Им в том не препятствовали.
Чтобы совсем не выглядеть свиньями, Андрею также выделили немного мужиков из тех девяноста двух человек, высвобожденных из полона. Семнадцать человек. Много. Очень много, в то время как самые нуждающиеся забирали себе по одному, редко двух. Просто потому что были не в силах прокормить в первый год больше. Но на фоне того, что на плечи Андрея взвалили целый «женский батальон» из семидесяти шести человек, эта доля выглядела очень скромно. Потому что этот женский коллектив требовалось кормить, одевать, обувать и где-то поселять. Причём без всяких шуток и оговорок. Зимней одежды у них не имелось, как и обуви. Но это ладно. Куда хуже выглядело то, что все эти семьдесят шесть дам хотели кушать. И что примечательно – каждый день, а лучше по два-три раза на день. Что требовало около 50–60 тонн продовольствия в год, а это стоило больших денег. Намного бо́льших, чем они могли бы обычным трудом отработать…
Теперь же с парнем в вотчину к нему заехали ещё двадцать три работника и тридцать восемь воинов. Так что в вотчине скопилась удивительная «трудовая армия» из 203 взрослых человек, не считая Андрея и Марфы. Среди них насчитывалось 42 воина и 86 женщин, бо́льшая часть из которых были совсем молоденькими девушками. Ну ещё и дети в возрасте до 7 лет общим поголовьем в 23 юных проказника.
Ни у кого в Туле не собиралось под рукой ТАКОЙ толпы людей. Андрей решил этим воспользоваться. Мало ли – по будущему году такой удачный момент уже не сложится. Ведь воины его сотни были простыми ребятами и за хороший стол и перспективу получить добрые брони могли немало подсобить в тяжёлых работах, требующих крепких мужских рук.
Какими работами Андрей занялся?
Ясное дело, самыми важными – крепостными. Пока позволяла погода.
Работы он разделил на две части. Одна группа трудилась над фундаментом стены и последующим её возведением. Вторая – возилась со рвом.
Ров делали, опираясь на совершенно немыслимый технологический приём. Лошади тащили плуги, которыми взрыхляли грунт. А потом лошади же этот грунт и вывозили на волокушах. Лошадей было много, поэтому дела шли удивительно быстро. Во всяком случае, по местным меркам. Только копали так не сразу весь ров, а последовательными участками.
Стенки рва армировали вязаной деревянной сеткой, пролитой дёгтем. Сверху её покрывали слоем влажной глины. А дальше шла финальная отделка.
Внутренний скат рва имел 45 градусов наклона. Он выкладывался мелкими камнями, поверх которых укладывали густую смесь из земли и извести. Внешний скат стены представлял собой отвесную стенку из кирпича с небольшим развалом. Дно рва также укреплялось. Но проще. Глиной. Её во влажном виде туда укладывали и прибивали.
Фундамент стены представлял собой узкие канавы, в которые закладывали обычные камни. Много. Те самые, что люди Агафона возили всё лето. Благо, что каменоломни Оки, действующие уже несколько веков, находились недалеко. И отходов там хватало. Потом вот эти камни заливали сметанообразной смесью из песка и извести. И постукивали деревянными колотушками в течение длительного времени, чтобы состав осел как можно лучше, заполняя полости.
Как несложно догадаться, фундамент, так же как и ров, не строили разом и весь. Его возводили маленькими участками. Последовательно. И там, где состав схватывался, начинали возводить намётки стены.
Примерно в метре от кромки внутреннего ската начиналась внешняя кирпичная кладка. Прямо поверх полосы фундамента. В три кирпича. В семи метрах за ней – внутренняя. Каждые пять метров их стягивали поперечные стенки в пару кирпичей толщиной. Дополнительно вся стена имела малые контрфорсы: внешняя – снаружи, внутренняя – изнутри. Они были достаточно небольшие. Шириной в три блока и толщиной в два, из-за чего выступали они несильно. На пятиметровую секцию таковых было пять штук. А чтобы между ними не мог прятаться человек, укрываясь от обстрела, в основании стены между ними возводился скос, не дающий там стоять.
Всё внутреннее пространство стены заполняли грунтом. Проливали его известковым раствором. И утрамбовывали. Но уже после того, как кладка схватилась. Так что получалось что-то в духе поздней древнеримской технологии. Только вместо раннего римского бетона Андрей использовал землебитное наполнение – категорически более дешёвую, но долгую технологию.
Понятное дело, что стену сразу в полный рост никто строить не собирался. Первый этап подразумевал её возведение примерно на аршин. Второй этап – ещё на аршин. Что позволяло работать на участке малыми силами и без удивительного напряжения сил. Да и, если честно, римского кирпича в нужном объёме у него попросту не имелось. Так что напрягайся – не напрягайся, всё равно строить стену полного профиля было не из чего.
За такой работой его и застала новость о прибытии Агафона с караваном. Он по его совету специально «прогулялся» в Касимов и Рязань, закупив потребные Андрею припасы и сырьё.
Это был последний караван в этом году: скоро лёд. Андрей обрадовался новостям о его прибытии. В принципе, запасов продовольствия и фуража у него хватало. Так что вся его толпа людей и лошадей должна была выжить до весны. Однако мало ли что испортится, поэтому он хотел иметь запасы с некоторым резервом. Желательно приличным.
Однако каким же оказалось удивление Андрея, когда он узнал, что с караваном пришли полсотни помещиков, желающих встать под руку «князя». А также двадцать семь мужчин, которых Агафон за копейки купил на рынке рабов Касимова.
Славян. Там просто помещики, попавшие в сложное положение, пытались расторговаться холопами. Как ни крути – ближайшая для таких вещей площадка. Но приближающаяся зима вынуждала скидывать цену, ведь скоро торг встанет, и их придётся кормить минимум до весны, из-за чего Агафон сумел их купить с хорошей скидкой. Людей имелось много больше, но детей севера или из уральских племён он решил не брать, равно как и татар, загремевших в столь незавидное положение.
А ещё он навербовал пару десятков молодых крестьян да бобылей в Рязани. И они тоже с ним шли, чтобы осесть на вотчине Андрея. Да семнадцать подмастерьев из Рязани и Касимова, которые решили поискать лучшей доли под рукой Андрей.
– Твою мать… – тихонько прошептал парень, глядя на эту толпу людей.
Крестьяне и ремесленники – бог с ними. Хуже не будет. Но воины? Ведь получалось, что теперь в его сотне насчитывалось 88 помещиков. Оставшиеся 160 приходились на шесть остальных сотен. И, как пояснили ребята, сотни Дмитрия и Ерёмы усилились также. Просто потому, что они выступили с поддержкой предложений «князя». Не так радикально, как сам Андрей, но всё равно заметно. Так что в четырёх остальных сотнях имелось едва по десятку воинов.
– За что боролись, на то и напоролись, – с улыбкой заметил Агафон.
Андрея же это всё хоть и радовало, но в не меньшей степени и пугало. Ведь всех этих людей требовалось как-то реорганизовывать и упорядочивать. С тремя-четырьмя десятками он мог бы ещё как-то справиться. И уже даже кое-что наметил. Но теперь людей стало вдвое больше. А ведь где-то там старались его родичи из Коломны, ищущие для него послужильцев…
– Горшочек, не вари, – буркнул себе под нос Андрей.
– Что? – переспросил Агафон.
– Говорю, что рад я очень этому пополнению. Надеюсь, ты с учётом этих людей да лошадей привёз припасы?
– Обижаешь! Всё посчитал! Всё учёл!
14
Малый ледниковый период – период относительного глобального похолодания, который имел место в XIV–XIX веках. Для МЛП характерна более прохладная погода с ярко выраженной, более суровой зимой и более частых засухах и другие климатические коллапсы. Пиком МЛП является конец XVI – начало XVII века. МЛП предшествовал средневековый климатический оптимум X–XIII веков. Тому предшествовал средневековый климатический пессимум V–IX веков. А тому, в свою очередь, Римский климатический оптимум III века до н. э. – IV н. э.
15
Деревня Кукуй Веневского района существует с XVIII века.
16
Откуда и использование такого учебного предмета, как литература, для научения письму, ибо такое чтение формировало читательский опыт. Однако это лишилось смысла в период регламентации и даже стало вредно. Ведь при всей своей замечательности язык Пушкина или Толстого не соответствовал нормам, установленным много позднее, а потому такой читательский опыт мешал усвоению жёстко описанных норм.
17
«Посмотрите на одно наше правописание или на наши правописания, потому что у нас их почти столько же, сколько книг и журналов». Цит. по: Белинский В. Г., «Полное собрание сочинений» (в 13 томах), Москва, 1953 год, том II, стр. 183.
18
Система счёта на Руси восходила к древне-египетской, существовавшей уже в X веке до н. э., попавшей на Русь через Византию, разумеется не в чистом виде, а изрядно переработанной в период эллинизма греками, а потом и римлянами.
19
Существуют копейки с надписями «17К» для 1720 года и «17К1» для 1721 года.
20
Первое упоминание индо-арабских цифр встречается в Вигиланском кодексе (Испания, X век).
21
Таблица Пифагора – это таблица умножения. В данном случае 10 × 10.
22
Если быть точным, то речь шла о 13 крестьянах, 7 из которых имели жён да совокупно дюжину детишек в возрасте до 7 лет, и 6 бобылях. Так что формально речь шла о 26 взрослых людях (среди которых имелось 7 женщин) и 12 детях.