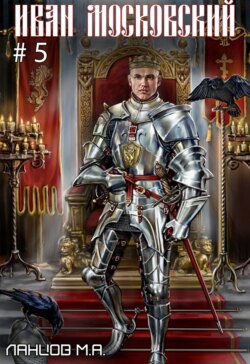Читать книгу Иван Московский. Том 5. Злой лев - Михаил Ланцов - Страница 8
Часть 1. Обезьяны с палками
Глава 7
Оглавление1483 год, октябрь, 8. Москва
Король ехал по Красной площади, внимательно осматривая выстроенные полевые войска, стянутые сюда для парада, ради чего пришлось разобрать торговые ряды.
Сначала – вот такой смотр.
Потом – шествие, дабы можно было увидеть какие-то недочеты даже в тех бойцах, которых для скрытия от глаз поставили куда-то в дальние ряды. Да и жителей столицы порадовать красивым зрелищем тоже дело важное…
– Может, зря все это? – спросил Даниил Холмский, ехавший рядом с королем. – Вон сколько глаз. Кажется, что своих людей поглазеть прислали все, кто только вообще о нас слышал.
– И что изменится? Как будто они не подглядывают и не подслушивают втихаря сами.
– Так мало ли что они там разглядят.
– Вот именно. Мы не знаем, что они себе там придумают и как нас оценят. Это лучше держать в своих руках.
– А если покажемся слишком слабыми?
– А ты думаешь, что похоже?
– Многие судят по головам. Чем больше количество, тем лучше.
– Тебя интересует мнение дураков? – повел бровью Иоанн.
– Нет, но…
– Я знаю, что такие чудики, бывает, даже правят державами. Но в этом случае они не представляют для нас никакой угрозы. И если сунутся, станут легкой добычей.
– Ну… – не согласился Холмский, однако спорить не стал.
И они двинулись дальше…
Не успел Иоанн провести военную реформу в 1480 году, как в 1483 году, после Дуная, пришлось вновь браться за нее. Так, пехота теперь тренировалась по универсальному стандарту. С уклоном в стрелков. А ее снаряжение было унифицировано. Любой пехотинец мог при необходимости выступить стрелком, пикинером или бойцом с бердышом. Других образов стандартного вооружения более не имелось за ненадобностью. Да и то – что пика и щит, к ней полагавшийся, что бердыш возились в обозе. Сам же пехотинец по умолчанию был стрелком.
Пока новые легкие кирасы полностью получили только четыре полка. Зачем? Ведь у них имелась чешуя, которая вполне удовлетворяла правило 20/80 и была вполне достаточна. Так ведь старая чешуя была слишком мягкой и перегружала позвоночник, а кирасы удалось сделать такими, чтобы поставить их на бедра. Что не только сняло нагрузку на спину от доспеха у бойца, но и позволило перенести через кирасу нагрузку от прочего.
Но эта возня началась еще в рамках реформы 1480 года. Однако за столько лет не удалось перевести всю армию на этот тип доспеха. Почему? В первую очередь из-за больших технологических проблем, вызванных идеей использовать ацетиленовую сварку. Без кислорода с тонкими пластинами она давала совершенно неприличный процент брака. Особенно поначалу, так как сварщиков у него тупо не имелось. Никаких. Все перегревалось, коробилось, прогорало и так далее. Помыкавшись пару лет и поняв – в ближайшее время не освоить эту технологию, Иоанн перешел на сборку легких кирас из полос на заклепках, как в свое время делали японцы. Что вообще исключало брак. Но время было упущено, и король сильно сомневался, что к началу кампании 1484 года он сумеет свою пехоту перевести на легкие кирасы.
А вот стандартные фитильные аркебузы модернизировали все в рамках реформы 1483 года. Благо, что работ было немного. Им провели дополнительную калибровку стволов и поставили на них воронкообразные запальные отверстия посредством ввинчиваемой сменной втулки. А то мало ли – прогорит. Что позволило просыпаться пороху на затравочную полку из основного заряда при заряжании и не тратить время на отдельную подсыпку.
Кроме того, к уже существующей системе газырей начали применять бумажные патроны, что в сочетании с воронкообразными запальными отверстиями позволило очень сильно ускорить перезарядку, то есть поднять скорострельность. Солдаты Фридриха Великого на такой связке делали шесть-семь выстрелов в минуту. Иоанн на такие показатели не рассчитывал. Все-таки настоящих прусских унтеров у него для такой прокачки бойцов не имелось. Но на пять выстрелов его стрелки вышли уверенно. Все поголовно. Чего было за глаза в текущих реалиях.
Следующим усовершенствованием стало применение компрессионной пули Нейслера[3], то есть мягкого свинцового полусферического колпачка. Ее использование позволяло разом поднять прицельный огонь из имевшихся аркебуз до двухсот пятидесяти шагов по плотным порядкам пехоты. Не снижая скорострельность, так как калибр таких пуль можно было делать заметно меньше канала ствола. Она ведь расширялась при выстреле.
Что еще? Металлический шомпол и съемный игольчатый штык. Последний носился на ножнах тесака, каковой в 1480-м заменил у пехоты рапиру. Так-то Иоанну тяжелые боевые рапиры, конечно, очень нравились из-за куда большей боевой эффективности, но их просто не хватало на такую разросшуюся армию. Европейские мастера не справлялись с заказами, а своего производства пока не имелось. Он вел, конечно, переговоры, но все пока было шатко… Вот и пришлось переходить на более доступные тесаки, которые и свои выпускать могли.
Так что визуально со стороны эти все изменения 1483 года почти не были заметны по сравнению с образцом 1480 года. Но на практике принципиально поднимали боеспособность стрелков, позволив перейти на универсальную подготовку и преимущественно стрелковую роль.
Иоанн глянул на довольно кислую делегацию европейских наблюдателей. Ну аркебузиры и аркебузиры. Скучно…
– Пехота! Холостым заряжай! – рявкнул Иоанн.
И все завертелось.
Секунд пятнадцать. И готово. И то так долго из-за непривычки людей к подобным операциям.
– Пехота! Примкнуть штыки!
Несколько секунд. И над головами стрелков вырос лес сверкающих и крайне неприятно выглядящих игольчатых клинков. Этаких здоровенных стилетов.
– Пехота! К стрельбе товсь! Целься в небо!
Бойцы перехватили свои аркебузы, словно готовились вести залповый огонь по подлетающему самолету или дракону.
– Пехота! Пли!
И грянул слитный выстрел тысяч и тысяч стрелков. Всадники же удержали своих коней, которые явно заплясали от нервного стресса. Все-таки такой слитный залп – очень шумно.
Европейская делегация завороженно смотрела на кончики аркебуз, которые только что выстрелили, оставаясь оснащенными острыми и довольно длинными игольчатыми штыками. Что в принципе переворачивало очень многое. И заставляло переоценить эту пехоту.
Иоанн же продолжал:
– Пехота! К беглой стрельбе в небо – товсь!
И дальше он наблюдателей удивил скорострельностью. Кстати, не снимая штыков. Пять залпов в минуту. И он наконец отстал от стрелков. Слишком уж разнервничались кони. Да, приученные к выстрелам. Но все одно – шумно и нервно. Кроме того, они не в поле, а на каменной площади, на которой каждый выстрел воспринимался сильно по-другому…
– Вон, видишь, с синим пером, – кивнул Иоанн, указывая Холмскому на одного из наблюдателей-аристократов.
– Да. Лицо, словно он помоев нализался.
– А какое оно у него должно быть? Он ведь представляет интересы своего господина – Фридриха Габсбурга. И сейчас осознал, ЧТО того ждет на поле боя.
– Может, он все-таки не решится?
– Он уже всем сказал, что идет на меня. Его никто не поймет, – улыбнулся Иоанн. – Он сейчас заложник положения. И не только он.
– А кто еще?
– Папа. Он ведь в случае выступления Фридриха теряет свою долю в Персидской торговле. Думаешь, ему охота идти на такие жертвы? Осудить же и остановить все он уже не может, так как скотина даже проповеди про меня помойные пытался запускать в церквях. Ему уже назад не сдать. А я уверен – хочется.
– А может, он не верит в поражение Фридриха? Рассчитывает после его победы вернуть свою долю.
– Может и так, – пожал плечами Иоанн. – Теперь, после этой демонстрации, веры у него поубавится.
– О наших планах он все равно не знает.
– Ему доносят, – поморщившись, произнес Иоанн. – Впрочем, это ничего не меняет…
И в этот момент король выехал к коробочке полка, вооруженного новым оружием. Что невольно вызвало у него улыбку. Этими вещами, безусловно, он тоже очень плотно занимался.
В данном случае речь шла о винтовке, заряжаемой с дула в калибре аркебузы. Весьма длинный ствол был достоин знаменитой Пенсильванской винтовки. Замок же на ней стоял колесцовый, того самого типа, что и шел на кавалерийское оружие.
Строго говоря, кроме фитильного замка, это был единственный замок, производимый в королевстве. Причем, что примечательно, его делали по единому стандарту с конвейерной организацией выпуска. Да, очень примитивной и требующей доработки. Но даже в том виде их выпускали больше, чем требовалось, и до трети уходило на армейские склады. Про запас.
В принципе – ничего особенного. Обычный поздний колесцовый замок с достаточно простой рациональной схемой. Важным отличием от исторических образцов было только то, что взвод осуществлялся не ключом, а скобой Генри. На длинноствольное оружие ее ставили полноценную, на короткий ствол – вроде той, что шла на знаменитые пистолеты «Вулкан». Зачем? Так удобно взводить замок. Да и в будущем можно будет все это переоборудовать под заряжание с казны, поставив, например, клиновый затвор, как у ранних поделок Шарпса. Заодно приведя к нарезному состоянию… Но это потом. Сильно потом. Пока же эти самые винтовки стреляли теми же самыми пулями Нейслера, что и аркебузы, но давали возможность работать по плотным пехотным порядкам шагов уже на пятьсот, а то и на шестьсот при определенном навыке. С той же скорострельностью, что и аркебузы. Ну… Почти. Хотя пять выстрелов в минуту Иоанн все одно на них добивался от стрелков.
Пока такими винтовками был вооружен только один полк. Пока. Но до начала летней кампании будущего года еще время есть. И Фридрих точно встретится с куда бо́льшим количеством подобных стволов.
Сколько такой пехоты у Иоанна получилось?
Отделение состояло из тридцати человек строевых. Взвод – из трех отделений. Рота – из трех взводов. Полк – из трех рот. Таким образом, в полку имелось восемьсот десять строевых. Плюс полковник, три старшины, девять поручиков и двадцать семь урядников. Ну и двести семнадцать человек нестроевого состава. Таковых было немного, потому что довольно много хозяйственно-бытовых функций лежало на самих солдатах. И не строевые были только там, где солдат бы совсем отрывался от военного дела.
Особняком каждый полк насчитывал взвод гренадеров.
В отличие от обычных пехотинцев, они имели латный полудоспех со шлемом-бургиньотом. И вооружались тяжелой рапирой, мушкетоном с колесцовым замком и подсумком с ручными гранатами. Причем гранаты, по сравнению с битвой при Алексине в 1472 году, были сильно доработаны и напоминали этакие Stielhandgranate времен Первой или Второй мировых войн. Только в каком-то грубом… колхозном варианте, что ли. Да и терочный состав их был изготовлен на основе фосфора, что в очень ограниченных количествах получали в лаборатории.
Металлическая часть заполнялась черным порохом и закрывалась вощеной бумагой – чтобы не отсыревал. Деревянная ручка с теркой также пломбировалась восковой бумагой. Но не только для защиты от влаги, но и для фиксации терочных элементов. Чтобы они самопроизвольно не двигались. Все-таки белый фосфор – опасная штука, и игры с ним совсем не нужны. Использовали гранаты просто. Открутил колпачок. Дернул за шнурок. И кидай… И никакого открытого огня не требовалось.
В полевом сражении гренадеры требовались не всегда, поэтому дополнительно на них возлагалась обязанность личной гвардии командира полка. Ну и ряд церемониальных функций. Все-таки вон какие доспехи…
Таких полков у Иоанна насчитывалась дюжина. Полностью укомплектованных. Да, они находились в процессе перевооружения. Но это уже детали, так как воевать они могли и вполне эффективно.
Кавалерия в целом осталась старой: уланы и гусары.
Уланы полностью переоделись в полулаты, имели длинную клееную пику в шесть метров, которой работали с тока, большой круглый щит, тяжелую рапиру, кончар и пару седельных длинноствольных пистолетов. Гусары носили теперь легкую кирасу с ерихонкой и были вооружены карабином колесцовым на подвесе, двумя седельными длинноствольными пистолетами и тяжелой рапирой. Были мысли вооружить гусар тяжелой саблей, но опыты показали резкое снижение эффективности при работе с хоть как-то защищенным броней противником.
И те, и другие восседали на конях линейных пород. Каждую роту старались обеспечить одной мастью.
– Вон какие красавцы! – воскликнул Холмский, когда они с королем проезжали мимо его любимой роты улан.
– Красавцы, – благодушно кивнул тот.
– Может, сведем их в полки? Как пехоту?
– Может… подумаем на досуге.
– А чего тут думать? Многие в коннице раздражаются, что пехотные командиры в полковниках ходят, а они максимум старшины.
– Пехота выносит на себе основную тяжесть боя.
– Но конница…
– Кавалерия.
– Что?
– Конница – это сброд всадников, что раньше с города выезжал или что у степняков бывает. А кавалерия – это регулярная, дисциплинированная и хорошо обученная конница.
– Тем более! Давай их в полки сведем! Сам же видишь – какие молодцы.
– Ты мне еще конные армии предложи создавать, – фыркнул смешливо Иоанн.
– Что?
– Ну… большую армию, тысяч в десять человек, собранную только из кавалерии.
– А что – дело. Ты представляешь, какую они будут иметь силу?
– Никакую, если встретят на своем пути крепкую пехоту или крепости. Что кавалерия, что конница – это всего один род войск. Сила же в грамотном сочетании. Отдельно ни пехота, ни кавалерия, ни артиллерия войны не выиграет, а зачастую и серьезной битвы.
– Я понимаю, но это выглядело бы…
– Эпично, понимаю. Но толку? К тому же это было бы очень дорого…
– Но как бы от этого дергались враги! Ведь они-то привыкли судить о могуществе войска по коннице в его рядах.
– Может быть… вполне может быть. Но не всех. И те же швисы только бы посмеялись над нами, так как подобная армия была бы перед ними ничтожной.
Даниил Холмский поджал губы недовольно. Он не любил, когда всадников вот так смешивают с грязью. Однако возражать не стал. Он отчетливо понимал, кто такие швисы и что из себя представляют. Так что сомневался в способности даже десяти тысяч всадников размазать по полю их баталии. Особенно если они выберут удачную позицию для боя.
– Ты не дуйся. Я серьезно подумаю о сведении конных рот в полки. Это действительно может иметь определенный смысл. Покамест я этого не делал, чтобы у кавалеристов не начиналось головокружения. А то возомнят себя самыми главными и, словно какие-нибудь рыцари, станут дергаться и приказов ослушиваться, – произнес король достаточно громко, чтобы всадники услышали.
– Но это же немыслимо!
– Вот и обсудим это. Но позже. Сейчас смотрим то, что есть.
3
Пуля Нейслера отличалась от той же пули Минье меньшим удлинением, что позволяло ее использовать и в гладкоствольном, и в нарезном оружии.