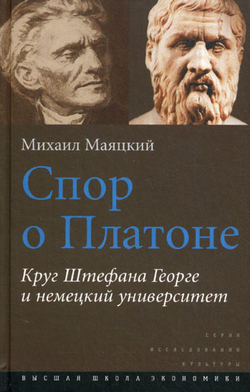Читать книгу Спор о Платоне. Круг Штефана Георге и немецкий университет - Михаил Маяцкий - Страница 10
IL У истоков георгеанской платонолатрии (1910–1913)
4. О пользе «организованных» рецензий
ОглавлениеИтак, Платон появляется в Кругу Георге достаточно поздно. Поэтому утвердиться он должен был быстро, без лишнего промедления. Примечательно и неудивительно поэтому, что следующий платоноведческий текст Круга, еще более энергично и явно, чем предисловие Хильдебрандта к своему переводу «Пира», скрестил две эти плоскости: Круг Георге и Платона. Этим текстом стала статья-рецензия Вильгельма Андреэ[138] на вышедший в издательстве «Листков за искусство» и объединенный в одной книге трехтомник «Ежегодника» за 1910–1912 годы. Статья эта, озаглавленная «Платонова poikilia и Ежегодник Духовного Движения» и опубликованная в трех номерах еженедельного научного приложения к «Магдебургской газете» в августе 1913 года, была написана по заказу Георге. Хотя степень конкретности заказа точно неизвестна, тот факт, что статья была одобрена Мастером, делает ее важным источником ранней фазы георгеанского платонизма. Это одно из первых свидетельств заинтересованности самого Георге в том, чтобы его принципы и заветы были истолкованы в прямой аналогии с платоновскими. В полном смысле рецензией эту статью назвать не приходится, потому что автор совершенно отождествляет себя с предметом, перенимает и оглашает практически от своего имени идеологию обсуждаемой книги, и потому что статья превращает один из третьестепенных мотивов рецензируемой книги в главный, соединяя с ним собственную точку зрения. Действительно, платоновская тема, заявленная уже в названии, едва присутствует в «Ежегоднике», чьи идеи рецензент без всякой видимой мотивировки переводит на платоновский язык.
Программа «Ежегодника» сформулирована издателями ясно, – начинает автор свою рецензию, – и тут же добавляет: «В платоновской терминологии эта программа звучала бы так: возвышение темных побуждений к живой идее, преодоление пойкилии, воспитание к калокагатии»[139]. Верность платоновским терминам здесь относительная, зато георгеанская герменевтическая доктрина изложена кратко и доходчиво. И далее:
Издатели исповедуют «свое подчинение – с осознанной односторонностью – одной совокупной воле, одной идее» и не желают «признать за жизнь любое сверкающее баловство, любой поверхностный отблик». Это утверждение позиции, это настаивание на впряжений жизни в рамки идеи и отбрасывание пойкилии (ибо что же такое сверкающее баловство и поверхностные отблики, как не платоновская пойкилия?) выказывают живую связь с Платоном, как и повсюду в этой книге живет дух Эллады, как та же борьба велась и в греческом духе. Естественный союз: Эллада и «Ежегодник» суть общая любовь к жизни и общая воля к формированию [Gestaltung] жизни (263–264).
В качестве мотивировки дается лишь вопрос, по форме риторический, в скобках: «ибо что же такое сверкающее баловство и поверхностные отблики, как не платоновская пойкилия?» С одной стороны, «Ежегоднику» без ложной скромности приписывается единство предпочтений со всей Элладой, со всей античностью; с другой – дух Эллады сводится к одной задаче: к борьбе за преодоление пойкилии. В этом полемическом сужении уже угадывается сверхзадача этого текста: в нем цели и принципы «Ежегодника» (читай: Круга Георге) и Платон связаны самым что ни на есть программным образом.
Что же такое пойкилия? Что, собственно, означает это слово, которое наш автор приводит как нечто всем известное и само собой разумеющееся? Ответ содержится уже в лаконичной формуле, которую рецензент придает программе «Ежегодника»: борьба «за жизнь и против пойкилии» (263). Poikilia – это нечто безжизненное, враждебное жизни. Автор дает даже «перевод» poikilos[140] – «kraftloses und überwuchert Ersterbendes», то есть [нечто] бессильное и буйно-заросшее и вымирающее (264). Разумеется, перевод этот весьма вольный. Словари дают лишь только: пестрый, разукрашенный, разнообразный, запутанный, хитрый. Далее статья коннотирует пойкилию как деформированность неправильным образованием. Соблазн пойкилии содержится уже в самом развитии образованности, в прогрессе знания. Пойкилия есть даже прямое следствие прогресса. Пойкилия-многосторонность противопоставляется всесторонности (Vielseitigkeit versus Allseitigkeit) единого и естественного образования человека, всей его плоти, всей его души[141]: «Чрезмерное развитие многих отдельных способностей, сколь бы полезны они ни были для индивида, не украшает и не укрепляет человека, но делает его лишь многосторонне poikilos» (264).
Мотив и слова семантического поля 'Wucherung' (от wuchern, überwuchern – разрастаться, бурно и буйно покрывать(ся) растительностью, в основном сорной), как и вообще органицистская метафорика, были крайне распространены во время Веймарской республики, разумеется, среди ее критиков. 'Wucherung' был синонимом вседозволенности, разноголосицы и хаоса, сменивших порядок и иерархию сверженной монархии. Использовались эти слова как в публицистике правого политического спектра (чтобы бичевать разнообразие партий, мнений), так и, например, в правой художественной критике[142].
Не исключено, что идея рецензии почерпнута из фразы одной из статей «Ежегодника», а именно хильде-брандтовой, и, во всяком случае, эту фразу развивает: «Напомним, что Платон называет музыкой саму философию, и сколь презрителен он по отношению к тому, что называют музыкой его современники, – пестрое, сладкое, текучее!»[143] Но мотив критики пойкилии уже встречался и у других георгеан: Фридрих Гундольф, например, в своей статье «Сущность и отношение» разоблачает «всякую пойкилистическую [poikilistische] маску и коварную ложь современного состояния культуры»[144]. Мотив и термин пойкилии останутся в активе Гундольфа. В своей книге, посвященной Георге, он употребляет выражение «языковая "пойкилия"» по поводу нехватки единства, свойственной Генриху Гейне, которого он оценивает, впрочем, высоко и даже как одного из предтеч Георге – пусть (в том числе) и от противного[145].
Затем Андреэ дает толкование платоновской идеи с точки зрения единства и целостности в противовес разнобою пойкилии. Для Платона идея – как киль для корабля. Идея требует подчинения жизни одной воле. Воспитание в платоновском государстве зиждется на «образовании (mousikê) и воспитании-выведении (Zucht) (paideia)», а не разработке каких-то особых политических способностей. Пойкилия – злейший враг государства. Для многознаек и многоумеек нет места в платоновском полисе. Каждый должен делать одно свое дело. Высшей доблестью в государстве недаром считается sophrosunê, ибо именно она отвечает за достижение «самообладания души через обуздание разнонаправленных сил и страстей». Музические искусства и физические упражнения воспитывают всего человека, а не отдельные умственные способности и тело. Чрезмерная же образованность [Ueberbildung] таит в себе несомненную опасность.
Способность не поддаваться соблазнам безжизненной пестроты становится отличительным знаком подлинного властителя:
Тот, кто обладает при этом правильной смесью и мерой, тот музичен, тот подлинный философ, тот выходит незапутанным из всех тягот, соблазнов, прелестей и чар жизни и питает к государству (а это его творение) божественную любовь (eros theîos) и страсть; это – призванный правитель. Следовать ему и не впадать в пойкилию есть первая заповедь: сообразно степени послушания и дается власть слугам государства («Законы» IV, 7) (264).
Современное же государство есть лишь некое «расположение и обустройство населенных пунктов»; здесь философу делать нечего, ибо в сегодняшнем государстве, отменившем рабство (читай: послушание), каждый – раб (271).
Далее автор переходит к резюме статей из «Ежегодника», не забывая о своей платонизирующей сверхзадаче. «Критика прогресса» Бертольда Валентина бичует в прогрессе прежде всего то, что ведет к пойкилии, а именно то, что предпочитает частичное целому механическое живому, средства целям, техническое культурному. «У нас уже не осталось "образователей, воспитателей, человекоделателей", а одни только "филологи с ограниченным учебным планом". "Разделение труда" и в духовном, в обучении и в учении, в науке и в профессии есть лишь зарабатывание денег!» (271). Андреэ лишь с новой силой подчеркивает, в насколько не-, или даже анти-платоническом времени мы живем. «Разумеется, платонов голос не достигает уха прогрессистской образованщины (букв.: образованного плебса, Bildungspöbels). У нее имеются свои "образовательные учреждения" для духа и спорта (по Валентину: "стимуляция ног из нервной системы") как "противовес против духовного, усыпляющего тело". А что требовал Платон? И того, и другого для души!» (271).
Рецензент продолжает: «фатальное влияние современной филологии на школу и юношество» разбирает на одном примере Курт Хильдебрандт (речь идет, как вы понимаете, об уже рассмотренной нами статье «Эллада и Виламовиц»). Подход Виламовица к Греции (заметим, обладавший тогда в Германии репутацией нормативного, – для всех, кроме тех, кто считал себя наследниками старого оппонента Виламовица – Ницше) автор объявляет странным до загадочности: «Большей частью оптимистической, идеологической чрезмерно завышенной оценкой ныне существующей модерновой культуры объясняется отношение этого филолога [Виламовица] к античности, которое осталось бы совершенно загадочным без его прогрессомании». В чем же эта странность? Виламовиц не испытывает по отношению к предмету никакого почтения [Ehrfurcht], чувствует себя выше Эсхила, Софокла, Платона и обращается поэтому с «великими владыками духовной империи» запанибрата (271). Он понимает в древних ровно столько, сколько ему позволяет наш бескровный понятийно-технический дух времени. «В результате Платону бросается упрек в бесстилии и научно-поэтической игривости» (272).
В духе scienza nuova Андреэ (а в его лице и Круг) не выступает против филологии как науки, порицает ее не за то, что она – наука, а за слишком легкую измену делу науки в пользу вкуса массы с присущей этому вкусу пойкилией:
Если и сами учителя молодежи не избавились от пойкилии, если сами посредники между нами и классическим образовательным наследием проявляют себя как неверные ему и вообще неудовлетворительные, если цеховой ученый считает необходимым оставить «сухую науку», чтобы обкорнать греческих трагиков на потребу плебейскому уху и смешать их с ничтожностью сегодняшней жизни, тогда жизненные воды испорчены уже у истока. Кто полагает возможным пренебречь своей акрибией ученого, тот своей остроумной поверхностностью превратит себя лишь в печальное явление; тому, кто растрачивает священное наследство на недостойную массу и в угоду малых делает малым великое, лучше бы навсегда «остался закрытым вход в науку» [это цитата из Виламовица] (272).
Сочувственно автор цитирует статью Валентина «Печать и театр» из «Ежегодника» за 1911 год, порицающую и банализирующий уклон Виламовица, и нервно-мрачный Еофмансталя: «нервная Эллада» здесь столь же мало способна помочь, как и «нервное рыцарство» или «нервный восток».
Вся идеология Круга третьего поколения, поколения «Ежегодника», – в этой статье. Но она и отличается от других георгеанских сочинений: в ней мотив единства против разнобоя, спорадически встречающийся и у других, достигает максимальной концентрации и четкой артикуляции. Вся критика современности подчинена здесь идее борьбы с пестротой и разнообразием, названными греческим словом «пойкилия». Согласно Андреэ, на переднем фронте борьбы с современным духом и находится Круг Штефана Ееорге, чьи задачи характеризуются в совершенно платоновских (в их георгеанской трактовке) терминах: «Около Штефана Георге как около образца и живого средоточия образовался круг. Георге стал формирующим творцом всех сил, в нем жива единая тройственность: упорядочивание темных побуждений идеей прекрасной жизни, преодоление пойкилии, образование к калокагатии» (279). Сама идея круга, или шара, формы, которую приняло духовное сообщество вокруг Поэта, истолковывается как ответ на платоновский завет и вызов. Автор цитирует статью Ф. Гундольфа «Образ Штефана Георге» из 1-го тома «Ежегодника»: «Высшая ступень достигается там, где широчайшее движение совпадает с наиполнейшим обузданием. Самый безграничный трепет взыскует строжайшей формы, стремится укротить себя и спастись. Символом этого и выступает круг: бесконечная текучесть замыкается в нерасторжимое кольцо» – и добавляет: «Это и есть обуздание жизни, усмирение страстей, это платоновские sôphronein и euskhêmonein» (279). Для этого необходим пример великого, образец культурного героя и тем важнее правильно его выбрать: «Выбор в почитании образца очерчивает путь, по которому идет движение. Ибо таким великим людям прошлых эпох не поклоняются как историческим личностям, но они воспринимаются и переживаются как вечно воздействующие и существующие и сегодня» (280). Автор упоминает Данте, Шекспира, Гёте, даже – в противовес Канту – Бергсона. И всё же решающей оказывается пара Платон и Гёте: «Через Платона и Гёте проясняется внутренняя борьба, ведущая к сплочению и оформлению» (280). Затем путем незримой подстановки (Георге – это Гёте сегодня) образуется пара Платон и Георге: «Так замыкается то кольцо борьбы, которое сформировал "Ежегодник": прогресс разоблачен, пойкилия изобличена в своей неполноценной и безжизненной убогости; жизненно же действенные образцы – Платон и Георге – украсили и укрепили, пластически оформили [plastisch gestaltet] жизнь своим подлинно неземным [überirdisches] существованием» (280).
Сказанного, вероятно, достаточно, чтобы показать, что еще до выхода первой посвященной Платону георгеанской книги платоникам-георгеанцам было уже ясно, какую идею, какой образ, «гештальт» они должны были «вчитать» в Платона, какого рода критику современности и, шире, Нового времени собирались они вложить в уста Платону. Сам способ прочтения здесь заложен в своем принципе: не гонясь за аргументированной демонстрацией убедительности своей интерпретации, толкователь сгущает мотив и кристаллизует его с помощью слова, хотя и встречающегося у Платона, но не в терминологически строгом употреблении (было бы, конечно, лицемерием утверждать, что такой «метод» свойствен только внеуниверситетской истории философии).
Poikilia – термин у Платона не вполне периферийный. В «Политий» (404е и 611b) он вполне эксплицитно употреблен в духе Андреэ. К этим пассажам следует присовокупить «Пир» (218с), где poikillein употребляется в смысле 'говорить лукаво, хитрить', а также «Теэ-тет» (146d): здесь, как и в «Политий» (404е), выражение poikila anti haplou противопоставляет пестрое многообразие, или сложность, многосоставность, простоте (haploûn), которая далее, в неоплатонизме, у Аристотеля и в Средневековье разовьется в божественный атрибут – вслед за «Политией» (379d, 382е, 399е, 404е). Андреэ (но вряд ли он был в этом первым) объединил под термином poikilia и одновременно терминологизировал несколько мотивов: идеал неизменности как в онтологии (неподвижные идеи), идеал стабильности в познании (возможность-способность «говорить одно и то же об одном и том же»[146]), заостренный и против гераклитеанства, и против софистики; и, наконец, представление о строгом соответствии «один человек – одно дело» в идеальном полисе («Полития» (370b)). Ключевым для этого объединения было платоновское использование пойкилии для характеристики демократического строя. Действительно, в «Политий» (561е) он характеризует демократического человека как столь же пестрого, сколь пестро и соответствующее ему демократическое государство, строй (это уже 557с), своей пестротой импонирующий женщинам и детям[147]. Для В. Андреэ эта статья не была случайным эпизодом, она должна была стать, скорее, началом долгих и серьезных занятий: в августе 1913 года он предлагает издательству «Cotta» в Штутгарте проект нового полного издания Платона[148] – примерно через 100 лет после монументального предприятия Шлейермахера[149]. Проект так и остался не воплощенным, точнее, оказался сведенным к переводу одной только «Политий».
138
Статья подписана W. Andreae-Syla. Последующие работы автор подписывал только первой частью фамилии. Syla bei Berlinchen Neumark – родительское поместье в Пруссии (в настоящее время у польского города Барлинека). См. биографические сведения об Андреэ ниже, в главе VII, раздел 1.
139
Andreae-Syla, 1913, 263. Далее ссылки на страницы указаны в тексте.
140
Нетривиален, а по современным меркам и непостижим, сам факт печатания слов греческими буквами в региональной газете.
141
Позже, в критике Веймарской республики и ее системы образования, а также в официальной нацистской педагогической доктрине обвинение в софистической «пестроте» станет обычным. Ср., например, с идеологом фашизма в педагогике Эрнстом Криком, порицающим «пестро-шитое одеяние энциклопедизма» (Krieck, 1931, 116); цит. по: Schmitz, 2001, 476. В позднеплатонической традиции слово это было далеко не однозначно пейоративным: у Прокла, например, оно означает умение разнообразить аргументы в споре, – качество однозначно похвальное.
142
Ср.: «Рефлексия забивала [überwuchterte; в том же смысле, в каком сорняки забивают культурные растения] художественное творчество. Так, по мере исчезновения искусства, пышным цветом зацвели [schössen] дикие поросли художественных течений, возбудителем которых, частью открыто, частью тайно, был еврей» (Völkischer Beobachter, 29.03.1923).
143
Hildebrandt, 1910, 85.
144
Gundolf, 1911.
145
Gundolf, 1920, 11.
146
Согласно «Политий» (529е-530а), узорами (poikiliai) на небе можно пользоваться как пособием для изучения подлинного бытия, но не поддаваться искушению принимать их за него.
147
К современным дебатам о пойкилии см.: Vallozza, 1993; Rosenstock, 1994; Monoson, 2000.
148
Вот текст письма:
«12 августа 1913 года.
Наследникам книжной лавки «Cotta», в Штутгарте.
Я намереваюсь предпринять полное издание платоновских трудов на немецком языке, которое могло бы достойно пополнить издаваемую Вашим издательством серию классических изданий. Среди доступных нам немецких переводов можно всерьез рассматривать только шлейермахеровское. Книжечки, выходящие в издательстве «Diederichs», как я установил в ходе подробного обследования, в целом недостаточны и должны будут (и будут) вытеснены и заменены серьезной работой классического филолога, ибо им остро не хватает знания греческого текста, словесной точности и верной интонации. Я считаю, что пришел момент дать немецкому народу нового Платона, и буду рад, если Ваше издательство возложит на себя эту задачу. Мы способны понять Платона и передать его на немецком лучше, чем Шлейермахер, чьи по-прежнему внушающие почтение усилия нам, сегодняшним, стали чужими, неживыми и даже не немецкими. На основе моих разработок я буду в состоянии представить полную работу в течение пяти-шести лет. Если Вы склонны рассмотреть мою предложение подробнее, я мог бы предоставить Вам обе первые книги «Государства» и мой перевод «Платоновских писем». […] Отмечу также сразу, что для меня это не вопрос какого бы то ни было дохода. Для меня речь идет прежде всего о самом деле и мало о заслугах. […]»; DLA. Об этой инициативе В. Андреэ не упоминает его 'биограф' (Seidenfus, 1982).
149
Оно было задумано совместно с Фридрихом Шлегелем, но реализовано им одним в 1804–1828 годах.