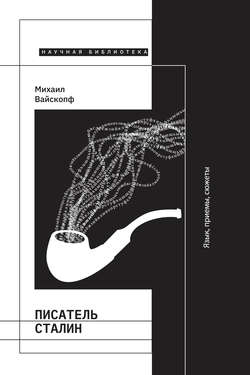Читать книгу Писатель Сталин. Язык, приемы, сюжеты - Михаил Вайскопф - Страница 4
ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ
ОглавлениеВероятно, заглавие этой книги многим покажется странным. О каком «писателе» может идти речь, если русский язык был для Джугашвили чужим, а его публицистика не блистала литературным талантом? Ведь сталинский стиль выглядит примитивным даже на фоне общебольшевистского волапюка. В ответ на подобные возражения мне остается напомнить, что именно стиль, язык явился непосредственным инструментом его восхождения к власти, а следовательно, обладал колоссальным эффектом, причина которого заслуживает изучения. Не зря одну из последних своих работ Сталин посвятил языку – будто в знак признательности за его верную службу. Более развернутое и комплексное исследование должно было бы охватывать не только его авторскую, но и огромную редакторскую работу, получившую поистине тотальный государственный размах7. Сталин отредактировал Советский Союз. Но он же создал и основной текст для своего государства. Именно к этой, собственно писательской стороне его личности обращена данная книга.
В конечном итоге мы сталкиваемся здесь с поразительным парадоксом. Несмотря на скудость и тавтологичность, слог Сталина наделен великолепной маневренностью и гибкостью, многократно повышающей значение каждого слова. По семантической насыщенности этот минималистский жаргон приближается к поэтическим текстам, хотя сфера его действия убийственно прозаична. Очевидно, это были те самые слова, которые обладали одновременно и рациональной убедительностью, и, главное, необходимой эмоциональной суггестией, обеспечивавшей им плодотворное усвоение и созвучный отклик. Иначе говоря, они опознавались сталинской аудиторией как глубоко родственные ей сигналы, как знаки ее внутренней сопричастности автору.
На некоторые аспекты этой интимной связи давно указывалось в литературе. Я имею в виду тему так называемого сталинского православия, заданную еще в 1930‐е годы В. Черновым, Л. Троцким, Н. Валентиновым, а позднее подхваченную А. Авторхановым, М. Агурским и сонмом других авторов8. Стандартный перечень этих конфессиональных влияний – в который мы еще внесем очень существенные коррективы – выглядит примерно так. От православной семинарии Сталин унаследовал жесткий догматизм, борьбу с ересями, литургическую лексику («очищение от грехов», «исповедь перед партией»), богословскую ясность и точность изложения, проповедническую тягу к доверительно-разъяснительной устной речи (которую он подчас имитирует в своих статьях и письмах: «Слышите?»; «Послушайте!»), ступенчатую систему аргументации (часто с перечислениями: «во-первых, во-вторых…») и пристрастие к вопросам и ответам, подсказанное катехизисом. Вопрос в том, насколько оригинален был Сталин в публицистической и прочей эксплуатации этого церковно-догматического наследия и как оно увязывалось с российской леворадикальной словесностью. Но это только частный случай рассматриваемой здесь темы. Важно проследить общую зависимость – как и персональные отклонения – Сталина от штампов революционной риторики и мифотворчества.
Такой подход требует адекватной методики. Пользуясь моделью Пола Брандеса, можно было бы сказать, что весь послеоктябрьский период большевистской агитации раскладывается на три фазы: «Революционная риторика на протяжении первой стадии характеризуется бесконечным повторением лозунгов, которые, вместе с музыкой, одеждой и другими ритуалами, предназначены для восстановления среди революционеров идентификации, утерянной при отходе от старого режима. Вторая стадия революции, могущая иметь место во время войны или мира, показывает вырождение риторики в персональные инвективы. <…> Третья стадия в революционной риторике обнаруживает доминирующую лексику, направленную против контрреволюции – этот порыв может далеко заходить в тот период, когда от нового режима уже не требуется такой бдительности»9. Единственное неудобство, сопряженное с подобными «теориями политической риторики», состоит в их непомерной грандиозности. Если они легко – слишком легко – применимы к большевизму, да, пожалуй, и к самому Сталину «в целом», то зато решительно непригодны для строго текстуального исследования сталинского стиля. (С этой точки зрения мне, признаться, ближе кропотливый учет, допустим, слова home в речах какого-нибудь американского президента, отличающий иные работы по политической риторике.) В качестве действительной проблемы я мог бы сослаться на постоянную зависимость Сталина – включая его поздние годы – от ленинского слога, где он нашел навсегда прельстившие его обороты – «кажется, ясно», «невероятно, но факт», «третьего не дано» и т. п. Надо ли уточнять, что речь идет не только о стиле, коль скоро le style c’est l’homme? Столь мощное идиоматическое влияние, несомненно, является гарантом более широкой – духовной или ментальной – преемственности10. Символической заставкой к этой теме, которой тут будет уделено немало страниц, может служить следующий пример. Отрицая внутреннее родство обоих правителей, коммунисты вегетарианского типа всегда победоносно ссылались на знаменитую сталинскую фразу о простых людях – «винтиках государственной машины» как на образец бездушно-бюрократического, казарменного социализма, абсолютно несовместимого с гуманным ленинским духом11. Фактически, однако, этот образ взят был именно у Ленина, из антименьшевистской книги которого «Шаг вперед, два шага назад» Сталин назидательно процитировал в своих «Вопросах ленинизма» такое рассуждение:
Русскому нигилисту этот барский анархизм особенно свойственен. Партийная организация кажется ему чудовищной «фабрикой». Подчинение части целому и меньшинства большинству представляется ему «закрепощением»… Разделение труда под руководством центра вызывает с его стороны трагикомические вопли против превращения людей в колесики и винтики12.
При всем том диктаторов принципиально разделяет само отношение и к собственному, и к чужому слову. Ленину был чужд тот напряженный, вездесущий и хитроумный вербальный фетишизм, который отличал его наследника и во многом содействовал его успеху. Но до того как перейти к показу таких содержательных компонентов сталинщины, как магизм, культ Ленина, русско-революционная или кавказско-фольклорная мифология, православие, язычество и т. п., нам понадобится произвести вводный разбор словаря и основных риторических приемов Сталина. Собственно говоря, в этом и заключается ближайшая задача публикуемой книги, поставленная в ее первой главе. По профессии я литературовед, а не советолог, и занимают меня не столько биографические или политические реалии сталинизма, изучавшиеся такими знатоками предмета, как А. Улам, Р. Такер, Дм. Волкогонов и др., сколько внутренняя организация сталинского текста. Немало отрывочных наблюдений над языком Сталина разбросано у его биографов – но все еще нет ни одного настоящего и целостного исследования, посвященного этому вопросу13.
В мои намерения входит дать фронтальный, системный и целостный обзор сталинской стилистики, во всем объеме его – доступных нам – сочинений. Подробной фактологической проверке подверглись при этом некоторые положения, считавшиеся более-менее установленными, – например, вопрос о его языковых и литературных познаниях. По возможности я стремился идти от готовых теорий или предубеждений назад – к фактам, к текстовой эмпирике, к непосредственному генезису и контексту. Я готов безоговорочно принять упрек в позитивистской ограниченности такого подхода – но, по моему твердому убеждению, для понимания реального сталинизма он все же может дать больше, чем те совершенно безличные и голословные концепции, которые превосходно обходятся без всякого конкретного материала и развиваются тем вдохновеннее, чем дальше от него отстоят. В этом смысле предлагаемая работа всецело примыкает к традиции, означенной Андреем Белым в его книге о Гоголе: «Не бесцельны… скромные работы собирателей сырья: в качестве… введения к элементам поэтической грамматики… работа моя… не бесполезна… Все же, что не имеет прямого отношения к… „словарю“, я предлагаю рассматривать как субъективные домыслы, как окрыляющие процесс работы рабочие гипотезы, легко от нее отделимые и не могущие никого смутить».
В работе использованы главным образом сталинские Сочинения (1946–1951), из которых, как известно, вышло лишь 13 вместо предусмотренных автором 16 томов. Три заключительных тома изданы, однако, в США Гуверовским институтом войны, революции и мира, под редакцией Роберта Мак-Нила (Stalin I. Works. Vol. 1. [XIV], 1934–1940; Vоl. 2 [XV], 1941–1945; Vоl. 3 [XVI], 1946–1953 / Еd. bу Robert McNeal. Stanford, 1967) – правда, за вычетом «Краткого курса» (авторство которого в 1956 году дезавуировал Хрущев14), зато с прибавлением кое-каких посмертных публикаций. Российский читатель, не располагающий этим вспомогательным сводом, может частично заменить его 15‐м и 16‐м томами сталинских Сочинений, напечатанных так называемым Рабочим университетом: Сталин И. В. Сочинения. Т. 15: 1941–1945; Т. 16: 1946–1952 / Сост. и общ. ред. Ричарда Косолапова. М., 1997. Это коммунистическое изделие содержит и многочисленные добавочные материалы, почерпнутые из других публикаций (часть которых, заимствованная из книги В. Жухрая «Сталин: Правда и ложь», представляет собой, впрочем, примитивную фальсификацию15). Прижизненно печатавшиеся сталинские сочинения в моей работе приводятся обычно по этим собраниям без дополнительных указаний (тогда как ленинские писания цитируются по: ПСС: В 55 т. М., 1959–1970; Избранные произведения: В 3 т. М., 1976). Ссылки даны только на посмертно изданные тексты, включая как мак-ниловские (римская нумерация), так и косолаповские тома (арабская нумерация).
Что касается сочинений, представленных в тринадцатитомнике, то в них Сталин произвел значительные купюры: исключались и работы целиком, и отдельные фрагменты вроде панегирика Троцкому в статье к первой годовщине Октября («Вся работа по практической организации восстания проходила под непосредственным руководством председателя Петроградского Совета тов. Троцкого») или знаменитой реплики в защиту «Бухарчика» («Крови Бухарина требуете? Не дадим вам его крови, так и знайте»)16. Суммарное число ранних (до 1929 года) сталинских публикаций, опущенных в этом издании, по оценке Р. Мак-Нила, могло бы составить один-два тома17. Но и в каноническом собрании имеется немало отступлений от первоначального варианта. В большинстве случаев, однако, правка носит редакционно-косметический или ритуализованный характер: это в основном малосущественные изменения некоторых формулировок18, ретроспективное изъятие слова «товарищ» перед именами Троцкого, Зиновьева и вообще почти всех репрессированных и т. п. Я должен подчеркнуть, что с точки зрения изучения сталинского стиля и его «авторского облика» эти подробности никакого значения не имеют, – для поставленной задачи наличного материала более чем достаточно.
Значимо как раз другое – та феноменальная откровенность, с какой Сталин приоткрывает потаенные пружины своих действий, их переменчивый контекст и предысторию, резко расходящуюся, например, с «Кратким курсом». Само собой, множество своих приказов, распоряжений, выступлений и пр. он тщательно засекретил – но, с другой стороны, в Сочинения вошло огромное количество высказываний, за любое из которых их автор, не будь он Сталиным, поплатился бы головой. Среди прочего здесь можно найти комплименты тому же Троцкому, не говоря уже о Бухарине или Зиновьеве и Каменеве; совершенно криминальное – в других устах – упоминание о так называемом завещании Ленина; такие шедевры двуличия, как заверения в прочности нэпа и решительном отказе от раскулачивания, прозвучавшие в самый канун коллективизации; несбывшиеся сталинские пророчества о сроках победы над Германией (в 1941‐м, к примеру, он так определил эту дату: «Еще несколько месяцев, еще полгода, может быть, годик»). В 4-й том он ввел статью 1918 года, где защищал «оклеветанных чеченцев и ингушей», – книга появилась в 1947 году, т. е. вскоре после памятной всем сталинской депортации этих же народов, ставших «изменниками». В разгар послевоенной конфронтации с Западом и психопатической антиамериканской пропаганды он из года в год переиздает – в составе книги о ВОВ (потенциального 16‐го тома Сочинений) – свои торжественные поздравления вчерашним англо-американским союзникам «с блестящими победами» над общим врагом (эти тексты не решились перепечатать нынешние сталинисты); в 13‐м томе (изд. 1951) восхваляет американскую экономическую помощь Советскому Союзу – и там же говорит о горячих советских симпатиях к немцам, что звучало особенно актуально на фоне недавних событий. Интереснее всего, что опубликованные декларации такого рода ни в коем случае не предназначались к использованию. Кто, кроме сумасшедшего, осмелился бы цитировать, предположим, сталинские фразы: «Да что Сталин, Сталин человек маленький»; «Куда мне с Лениным равняться»? Перед нами совершенно уникальный случай, когда корпус сакральных писаний заведомо включает в себя жесточайше табуированные фрагменты. Зачем же, спрашивается, Сталин ввел их в свои Сочинения?19 Помимо естественного авторского тщеславия здесь был, вероятно, и некий пропагандистско-дидактический расчет, сопряженный с его общей установкой на раздвоение личности20. Сталин как бы отрекался от собственного монолитно-статичного и помпезного официального образа, демонстрируя диалектическую подвижность, сложность, извилистость своего политического пути, скромную самооценку, житейскую и политическую честность, как и человеческое право на ошибки и колебания, – но с тем же успехом его писания должны были служить наглядным пособием по хитроумной и беспринципной тактике большевизма.
Эта и другие многочисленные трудности, возникавшие у меня при изучении сталинских текстов, стимулировали устное обсуждение накопившегося материала. Мне остается выразить признательность тем, кто так или иначе способствовал написанию данной книги своими советами, информативными или критическими замечаниями, а также технической помощью, – Зееву Бар-Селле, Михаилу Генделеву, Евгению Добренко, Леониду Кацису, Виктору Куперману и Дану Шапире.
7
Во введении к своей монографии «Сумбур вместо музыки: Сталинская культурная революция 1936–1938» (М., 1997. С. 3) Л. Максименков отмечает, что «Сталин как политик был прежде всего редактором подготовленного для утверждения текста. Его решения вторичны по отношению к документу-первооснове. Он воспринимал российскую политическую культуру через письменный текст».
8
См., в частности: Троцкий Л. Сталин: В 2 т. Vermont, 1985. Т. 1. С. 130; Белади Л., Краус Т. Сталин. М., 1989. С. 11; Антонов-Овсеенко А. Портрет тирана. Нью-Йорк, 1989. С. 72–73; Валентинов Н. В. Наследники Сталина / Сост. Ю. Фельштинский. М., 1991; Авторханов А. Загадка смерти Сталина (Заговор Берия). Frankfurt/M., 1976. C. 109; Agursky M. Stalin’s Ecclesiastical Background // Survey. 1984. № 28 (автор решительно – хотя без особых на то оснований – приписывает себе приоритет в деле изучения «церковного» периода сталинской биографии); Маслов Н. Н. Об утверждении идеологии сталинизма // История и сталинизм. М., 1991. С. 51; Такер Р. Сталин. Путь к власти 1879–1929: История и личность (В оригинале: Tucker R. C. Stalin as a Revolutionary 1879–1929: A Study in History and Personality). M., 1990. C. 126–127; Волкогонов Дм. Триумф и трагедия. Политический портрет И. В. Сталина: В 2 кн. М., 1989. Кн. 1. Ч. 1. С. 38–39, 64; Кн. 2. Ч. 2. С. 137–139 (кстати сказать, в документальной области это самая, пожалуй, информативная работа; в концептуальном же отношении она проникнута сильнейшим влиянием Троцкого, вполне естественным в годы перестройки); Фурман Д. Сталин и мы с религиоведческой точки зрения // Осмыслить культ Сталина. М., 1989. С. 402–429.
9
Вrапdes R. Тhe Rhetoric of Revolt. New Jersey: Prentice-Hall, 1971. Р. 14.
10
О громадном воздействии Ленина на идеологическое и поведенческое становление Сталина писали очень многие авторы. См., в частности: Такер Р. Сталин у власти: История и личность. 1928–1941. М., 1997. С. 120–127.
11
Ср.: «Представление о партии как об „ордене меченосцев“, низведение простых людей до функции „винтиков“, идея, что по мере продвижения к высотам социализма нас ждет обострение классовой борьбы, – вот, пожалуй, и все явственные отклонения Сталина от духа марксизма-ленинизма. По крайней мере, читая о его ревизии научного коммунизма, постоянно сталкиваешься лишь с этими немногими примерами» (Ципко А. Истоки сталинизма // Вождь. Хозяин. Диктатор / Сост. А. М. Разумихин. М., 1990. С. 433).
12
Мотив «винтиков» тут маркирован самим Лениным: через несколько страниц он снова глумливо нападает на «невинные декламации о самодержавии и бюрократизме, о слепом повиновении, винтиках и колесиках».
13
Не представляет тут никакого исключения также работа А. Гетти и О. Наумова о терроре 1930‐х годов: Getty A., Naumov O. Тhе Road to Теrrоr: Stalin and the Self-Destruction of the Bolsheviks, 1932–1939. New Haven; London, 1999. P. 15 ff.
14
Вместе с тем Сталин настолько скрупулезно отредактировал всю книгу, что полностью несет за нее не только идеологическую, но и литературную ответственность (в ряде случаев – помимо известных разделов 4-й главы – совершенно бесспорно и его непосредственное писательское участие в создании текста). Открыто о его авторстве говорил, например, Л. Мехлис, назвавший книгу «сталинским творением и подарком партии» (Речь на XVIII съезде ВКП(б). М., 1939. С. 10). См. также свидетельство Ем. Ярославского, крайне важное (дано со скидкой на его официальную восторженность) для понимания сталинского отношения к слову: «Ежедневно, по нескольку часов подряд, иногда далеко за полночь, буквально строка за строкой просматривался весь „Краткий курс“. Я должен сказать, товарищи, что на протяжении всей своей партийной деятельности я много видел всякого рода редакционных комиссий, но никогда не видел и не встречал еще такого серьезного, требовательного отношения к работе редакционной комиссии, которое проявлял лично товарищ Сталин. Эти 12 вечеров, в течение которых просматривалась каждая глава, у каждого из нас останутся глубоко запечатленными на всю нашу жизнь. Это была забота о том, чтобы не выпустить в свет „Краткий курс“ истории партии хотя бы и с мелкими ошибками и неточностями» (Ярославский Ем. Идейная сокровищница партии. Цит. по: Язык газеты. Практическое руководство и справочное пособие для газетных работников / Под ред. Н. И. Кондакова. М.; Л., 1941. С. 72). Сказанное относится, конечно, и к таким поздним сталинским трактатам, как «Марксизм и вопросы языкознания» и «Экономические проблемы социализма в СССР», – авторство Сталина абсолютно бесспорно, хотя написаны они были с чужой помощью. (См.: Волкогонов Дм. Указ. соч. Кн. II. Ч. 2. С. 152–154.)
15
Вот один из ее примеров. В 15‐м томе (с. 16) приведена сталинская беседа с А. С. Яковлевым, датированная 26 марта 1941 года. Публикатору важно опровергнуть представление об антисемитизме Сталина, которому здесь приписывается такая тирада: «Мне докладывали, что гитлеровцы готовят полное физическое истребление еврейского населения как в самой Германии, так и в оккупированных ею странах. С этой целью ими разработан план уничтожения еврейского населения, закодированный под названием „План Ваннзее“. Жаль трудолюбивый и талантливый еврейский народ, насчитывающий шеститысячелетнюю историю». Сталин тут в полтора раза удлинил еврейскую историю, однако главное состоит в том, что никакого «плана Ваннзее» вообще не существовало – имеется в виду так называемое совещание в Ванзее, на котором разрабатывались меры по депортации европейских евреев в лагеря смерти, но и оно состоялось почти через год после этой профетической беседы – а именно 20 января 1942 года.
16
См.: Берлин П. Сталин под автоцензурой // Социалистический вестник. 1951. № 11 (648).
17
МсNeal R. Introduction // Op. cit. Vol. 11 (XIV). Р. XII–XIII.
18
О некоторых догматических нюансах этой редактуры см.: Благовещенский Ф. В гостях у П. Л. Шарии // Минувшее: Политический альманах. М., 1992. Т. 7. С. 486–487.
19
Этот вопрос озадачивал даже его ближайших соратников. Рассуждая, уже в 1980‐х годах, о сталинских ошибках периода Февральской революции (пацифизм и готовность поддержать Временное правительство), Молотов с недоумением заметил: «Его статья напечатана в собрании сочинений, я до сих пор удивляюсь, почему он ее там напечатал» (Сто сорок бесед с Молотовым. Из дневника Ф. Чуева. М., 1991. С. 158).
20
Читатель, интересующийся психоанализом, может обратиться к итоговой книге американского слависта Дэниэля Ранкур-Лаферриера (1988), русское издание которой вышло в Москве в 1996 году: «Психика Сталина. Психоаналитическое исследование». Как многие психоаналитические работы, эта монография наряду с убедительными наблюдениями содержит, однако, и неизбежные курьезы – таковы на с. 210 хотя бы экзотические рассуждения автора о советско-финской войне (Сталин, мол, отказался от полного захвата вражеской страны из уважения к памяти Ленина, воспринимавшегося им в статусе «отца»).