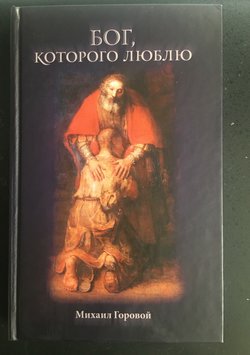Читать книгу Бог, которого люблю - Михаил Владиславович Горовой - Страница 5
Часть первая
Твое место здесь или – под звездой, которой не было
Оглавление«Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастия – размышляй; то и другое сделал Бог, чтобы человек ничего не мог сказать против него».
Екклесиаст. 7:14
Солнечным апрельским днём в прекрасном настроении я ушел из родительского дома, не зная, что уже никогда больше не вернусь в него.
Накануне познакомился с девушкой. Как и мою северную любовь, её звали Светлана. Она была откуда-то из Ставрополья, в Москве проездом, через два дня собиралась уезжать. Мы договорились встретиться на следующий день. Этот следующий день, 8 апреля 1971 года, в корне изменил мою жизнь.
Не стану описывать, что произошло, скажу только, что ничего более скверного в жизни ни до того дня, ни после – не совершал.
Тот день закончился для меня в камере отделения милиции, куда был водворён по обвинению в изнасиловании.
Из милиции мне удалось позвонить Володе на работу. Он понял меня с полуслова. Это был единственный человек, который мог сделать то, что я задумал: найти Свету и уговорить ее изменить показания. Я знал, что у нее был билет на поезд, знал, когда и с какого вокзала уезжает, и номер вагона.
Володя не пошёл в больницу к жене, которая вот-вот должна была родить, Он приехал на вокзал за час до отхода поезда, нашёл Свету. Не представляю, какими словами он убедил её сойти с поезда и поехать к моей сестре. Света согласилась забрать заявление, но когда пошла к следователю, тот предупредил ее об ответственности за дачу ложных показаний, и она попросту побоялась.
Что ж, видно, для того, чтобы осуществились все дни и встречи, для меня назначенные, необходимо было познакомиться и с капитаном Пиксиным.
Целый день я ждал этого момента, и вот он! Я на нарах. Натягиваю на себя одеяло, ничего не вижу, мне тепло, мозг отключается ото всего того, что видел и слышал в течение дня. Расслабляюсь. По опыту знаю – это приятное расслабление длится какие-то ничтожные секунды, но они мои, у меня никто их не отнимет.
Проходит полминуты, минута. Ощущаю голод и начинаю думать о еде, о чем-нибудь, что съел бы с аппетитом – об обыкновенной (не гнилой) картошке, о манной каше, которую варила мне мать, а я отказывался есть, не любил. Знаю, что внизу, в тумбочке лежит хлеб, но он настолько сырой, противный, что невозможно подумать о нем без отвращения. Из двух зол выбираю меньшее – лучше заснуть голодным.
Чувствую, во мне начинает шевелиться злоба. И вот уже перед глазами образ ненавистного капитана Пиксина. Сытый, самоуверенный, всех видящий насквозь, всегда правый, он обыскивает меня, выворачивает карманы, достает письмо матери, читает и смеется, заставляет дыхнуть. Знаю, он презирает меня. А я ненавижу его и боюсь. Это невозможно скрыть, он это видит. И все в нем говорит: «Подожди, ты у меня еще попляшешь». Нисколько не сомневаюсь, так оно и будет.
«Надо его убить, но как? Может быть, отравить, когда он придет есть в столовую? Эх, если бы у меня был пистолет с глушителем! Он же везде ходит, никого не боится. Ну, подожди, выйду, вернусь сюда, за все с тобой рассчитаюсь».
Капитан Пиксин, с которым я мысленно разговаривал перед тем, как заснуть, был дежурным помощником начальника колонии. Если бы проводились соревнования по его профессии, его имя стало известно всей стране. Цепкий взгляд, всегда подтянут, идеально выбрит, в начищенных до блеска сапогах. Его портрет можно было, безо всяких изменений и дорисовок, поместить на любой плакат, призывающий к борьбе с преступностью.
Перед выходом на работу он приводил в порядок не только свой внешний вид, наверняка ещё тренировал память, уточняя клички, статьи, продолжительность срока сотен осужденных. А ведь ежедневно кто-то освобождался, кто-то прибывал, и этот процесс усвоения новой информации и стирания из памяти ненужной был для него, как постоянное домашние задание.
Любимая его погода – лютый мороз или проливной дождь. Именно в такую погоду ему доставляло особое наслаждение доказать, как глубоко заблуждаются все надеющиеся на то, что он из штаба не выйдет, а будет пить чай в своем кабинете.
Одиннадцать лет занятий музыкой как нельзя лучше пригодились мне в лагерной жизни. Сразу же по прибытии меня спросили, кем работал, чем занимался, сказал, что преподавал в музыкальной школе.
В изоляторе, куда помещают всех вновь прибывших, ко мне подошел мужчина лет сорока пяти. Он поинтересовался, где я учился, назвал фамилии нескольких знакомых мне преподавателей института. Мы поговорили всего несколько минут. На следующий день в нарядной мне объявили, что направляют в пятый отряд, в бригаду, которая строила жилые дома.
В тот же день я ближе познакомился с Дмитричем. Так звали мужчину, который накануне разговаривал со мной в изоляторе. Он тоже был москвичом и числился в пятом отряде. Отбывал пятнадцатилетний срок за получение взяток. В зоне был заведующим клубом и столовой одновременно.
Когда мы пришли в клуб, Дмитрич достал баян, и я, хоть и не держал инструмент почти четыре года, все же что-то смог сыграть.
Оказалось, бригада, в которую попал, считалась одной из самых бандитских, да и работа была тоже самая тяжелая.
«Будь что будет», – подумал тогда, ложась спать и ловя на себе ничего хорошего не предвещавшие взгляды ребят, с которыми предстояло ехать на объект.
Наутро, минут за пять до подъема, кто-то толкнул меня в бок. Проснувшись, увидел Дмитрича.
– Знаешь, – зашептал он мне в ухо, – я договорился: ты в бригаду не пойдешь, нечего тебе там делать, после проверки чеши ко мне в клуб.
Это пробуждение, безусловно, оказалось наиболее приятным за прошедшие полгода. В тот же день я стал помощником повара.
Работа вначале показалось особенно тяжелой. Повар, к которому попал в подчинение, конечно, видел, какой я работник. Сказать, что не хочет меня брать, он не мог, но решил поблажек не давать. В третью или четвертую смену что-то было не в порядке с котлом, поэтому всё сбилось с графика. Я здорово устал и очень хотел спать: ведь как-никак проработал целые сутки. Часа за три до окончания смены повар объявил, что будет проверка, поэтому не как всегда, а самым тщательным образом надо вымыть пол всей столовой и соскоблить засохшую масляную краску вдоль плинтусов, особенно в углах и под котлами.
Ни после ареста, когда всю ночь проходил по камере предварительного заключения, ни после объявления приговора, я не переставал верить в свою звезду, что каким-то образом все разрешится. Ведь лагерь не для меня, это не моя судьба.
Именно в тот день, когда без сил стоял на коленях в углу, соскребая краску с пола, впервые в жизни, на каком-то совершенно новом уровне сознания, ко мне пришла мысль, что никакой звезды, светившей мне одному, не было. Я почувствовал себя крошечной частичкой огромного мира, в котором загнан в угол, поставлен на колени, сломлен. Даже повар, который все время делал мне замечания, не вызывал раздражения. «Все правильно и справедливо, – смирился я тогда. – Повар здесь не причем. Это расплата, и никуда я отсюда не выйду».
Приблизительно, тогда же во мне снова возник голос, когда-то по-дружески обещавший, что ничего не случится. Он совершенно преобразился, но я сразу узнал его. Вбивая в меня слова, как гвозди, он отчеканил: «Возомнил, что ты талант? Ведь и мать, и сестра предупреждали тебя, что этим всё кончится. Да ты – дерьмо, твоё место здесь. Неизвестно, выйдешь ли ты отсюда вообще». Сказал, будто навсегда захлопнул дверь камеры и пропал.
Через две-три недели работы на кухне отношения с Дмитричем стали ближе и доверительней. Он рассказал мне о своих проблемах. Нарядчик всеми силами старался выжить Дмитрича из столовой и поставить своего человека. Он родился и вырос в соседнем городе, многих офицеров, контролёров и капитана Пиксина знал еще на воле. В этом была его сила. Дмитрич же был силен тем, что его друг работал в обкоме партии и несколько раз приезжал к нему на обкомовской «Волге». Это производило впечатление на начальника колонии и замполита.
Через некоторое время положение Дмитрича осложнилось. Кто-то подбросил в котел кусок щетины. Во время завтрака её обнаружили в бачке с кашей. О случившемся мгновенно доложили начальству. Как назло (а, может быть, так и было задумано) начальник колонии оказался в отъезде, а замполит один Дмитрича отстоять не мог. В результате из столовой ему пришлось уйти.
А дней через десять мне представился случай увидеть капитана Пиксина в работе. Была моя смена в столовой. Еще днем Дмитрич дал мне ключи от клуба (клуб и столовая находились в одном здании) и попросил принести ночью в его кабинет котлеты, которые ему обещал нажарить повар. Я в точности исполнил его просьбу.
Хорошо помню, в ту ночь был сильный мороз, и все окна на кухне полностью заиндевели. Около трех часов ночи раздался страшный стук в дверь и крики немедленно открыть.
Ключи от обеих дверей клуба лежали у меня в кармане, инстинктивно сразу же нащупал их, в тот же миг подумал: «Вдруг обыщут? Как отвечу, что это за ключи?» Выбежав в коридорчик, который вел к входной двери, я заскочил в каптерку и сунул ключи в карман одного из висевших там халатов.
– Почему так долго не открывал? – закричал вошедший контролер.
А еще через мгновение откуда-то из-за угла выбежал капитан Пиксин. Он тут же обыскал меня с ног до головы, несколько раз спросил, почему не сразу открыл дверь, затем методично стал осматривать все помещения, прилегавшие к коридорчику. Нашел ключи, какое-то время смотрел на них. В этот момент я ощутил себя на месте ключей: еще мгновение, он сожмет ладонь и раздавит меня. «Догадайся он, откуда они, он уничтожит меня, да и Дмитричу несдобровать».
– Это что за ключи, Жданов? – спросил он повара.
– Не знаю, гражданин начальник, – пожал плечами повар.
– Выясни и доложи после проверки. Смотри у меня, – пригрозил ему капитан Пиксин.
Только потом понял, что он проделал «глазок» в заиндевевшем окне, чтоб наблюдать за мной. Заподозрил что-то неладное и дал знак контролеру стучать как можно сильнее, сам же наблюдал за моей реакцией.
С того дня, перед тем, как заснуть, я непременно мысленно разговаривал с капитаном.
Сон – миг, несравненно более короткий, нежели то блаженное расслабление, когда забираешься под одеяло. Закрываешь глаза в ожидании сна и незаметно проваливаешься в небытие. Сон приятен именно ожиданием его. Но за приятное надо платить, и расплата наступает мгновенно.
Первые годы в лагере, едва просыпался, пронзала мысль: «Где я? Нет, этого не может быть!» И пока до меня доходило, где все-таки нахожусь, так же остро, как в первый раз, переживал позор, унижение, безысходность, угрызения совести, злобу на всех и на себя за крушение планов и надежд, за вину перед родными и нежелание их видеть. И такое пробуждение пришлось пережить сотни раз.
Потом внутри возникает въедливый занудный голос, который слышишь только ты. Он постоянно зудит, ни привыкнуть к нему, ни выключить – невозможно. Его нытьё ощущаешь физически. Он ежесекундно напоминает: «Ты – здесь, в клетке, ты неудачник, ты – ничтожество, ты – насильник, таких, как ты, здесь очень любят. Ты будешь здесь всегда. Смирись, так будет легче».
И, действительно, начинаешь думать, что ты жил здесь всегда, что прошлого у тебя и не было.
Каждый день тянется чрезвычайно долго, словно это не день, а год. Когда же оглядываешься назад, все настолько серо и однообразно, что, кажется, будто весь год был как один день. Это сбивает с толку, запутывает, время не поддается разуму, оно становится как бы живым существом, способным увеличиваться, растягиваться, останавливаться и даже идти в обратную сторону; ощущаешь себя полностью в его власти…
К новому году Дмитрич окончательно убедил замполита, что я нужный для клуба человек. И меня сделали библиотекарем. Новая работа, в сравнении со столовой, была просто райской. Не надо чистить лук, картошку, скоблить котлы, мыть полы. Подчинялся только замполиту. Днем, во время пересменок, можно было просто закрыть библиотеку и, положив под голову книги, поспать. Встречая меня, многие останавливались и, улыбаясь, просили дать почитать что-нибудь интересное.
Безусловно, я понимал, что успехами по «службе» обязан Дмитричу. Мне он казался самым умным из тех, кого когда-либо встречал в жизни. Никогда не слышал, чтобы он планировал сделать кому-либо неприятности. А ведь ему достаточно было в присутствии «нужного человека» просто высказать своё отрицательное мнение о ком-либо, чтоб усложнить тому жизнь. Если человек делал ему зло, он не мстил, а просто переставал ему помогать. Когда же Дмитрич вспоминал о жизни на воле, имена министров, начальников главков и партийных секретарей, которых лично знал, называл так же легко, как я имена футболистов класса «А».
Через год, используя прежние связи, ему удалось перебраться в колонию неподалеку от Москвы. Для его семьи – жены и двух сыновей – это было значительным облегчением. Большая разница – ездить несколько раз в год за Урал или в подмосковный город Тверь.
После отъезда Дмитрича замполит поручил мне временно исполнять обязанности заведующего клубом.
Не припомню, чтобы за время работы в библиотеке я прочел хоть одну книгу. Интерес к чтению у меня отсутствовал напрочь. Однажды замполит вызвал меня и вместе с десятком других книг дал несколько экземпляров «Комментариев к уголовному кодексу РСФСР».
– Читать их никому не давай, – предупредил замполит, – поставь на них штамп и держи где-нибудь в сторонке. По распоряжению из управления юридическая литература всегда должна быть в наличии, – добавил он. Но именно эти книги я стал читать.
Не прошло и двух дней, как я пришел к выводу, что ничего интереснее в своей жизни не читал. По этой книге выходило, что не только я и все сидящие в лагерях, но и вообще все люди – преступники. Просто не подошло время их арестовать.
В течение года я ежедневно, по несколько часов, изучал «Комментарии» и перечитывал юридические журналы, имевшиеся в библиотеке.
Моя старшая сестра (ей в то время было 36 лет) не пропустила ни одного положенного мне свидания. Три раза в год она приезжала за две тысячи километров, привозя неподъемные сумки и чемоданы. Ни от нее, ни от родителей ни разу не слышал упреков. Лишь однажды на свидании она вспомнила, как ещё до моего ареста они с матерью сошлись во мнении: «Лучше бы он умер или погиб. Месяц-другой поплакали бы и успокоились».
Кроме продуктов, сестра привозила все, что я просил для клуба и библиотеки – ноты, гитарные струны, микрофоны, фломастеры, даже портреты членов Политбюро. После проверок из управления, замполит не скрывал своего удовлетворения: наглядная агитация была на высоте.
Особенно доверительные отношения возникли у меня с замполитом совершенно неожиданно, после бессонной ночи, которую довелось провести. А дело было так…
В лагере отбывал наказание один узбек. Все считали его очень богатым, потому что он сидел за крупное хищение. Однажды у него было свидание, и он попросил контролера Васю вынести ночью из комнаты свиданий несколько сумок с продуктами, которые ему привезли. Положить их было некуда, поэтому решили временно спрятать в библиотеке.
Каким-то образом это стало известно заместителю начальника по оперативной работе. Утром в библиотеке сделали обыск. Мне крупно повезло: контролер, проводивший обыск, нашел всего лишь несколько пачек чаю и пару узбекских лавашей.
Замполит сразу же вызвал меня к себе и потребовал объяснения.
– Тебе ничего не будет, – пообещал он. – Только скажи, кто из контролеров вынес продукты из комнаты свиданий.
– Гражданин начальник, – стал я излагать свою версию, – да это же мой чай, всего десять дней назад сестра привезла мне его на свидание.
– А узбекские лепешки тебе тоже сестра привезла? – с явным раздражением почти прокричал замполит.
– Лепешки тоже…
– Знаешь, – перебил он, – даю тебе время подумать до завтра. Если утром не скажешь правду, пойдешь работать в бригаду, и с первым же этапом отправлю тебя в лес.
Несколько секунд мы молча смотрели друг другу в глаза. Капитан Мозговой (так звали замполита) знал, чего я боялся больше всего.
Когда находился ещё на пересылке в Свердловске и не знал, в какую колонию меня отправят, в камере сдружился с одним парнем, который шёл из лесной зоны.
– Если попадёшь в лесную командировку, держись, – наставлял он тогда. – Как бы тяжко тебе не было, смотри, не вздумай ломать себе руки или ноги, чтоб попасть в больничку.
– Неужели там, действительно, так тяжело? – недоверчиво спросил я.
И он рассказал:
– Уж на что я здоров был. Представь, чемпионом по боксу в тяжёлом весе был, думал, мне всё ни по чём, а в лесу сломался. Голодали так, что однажды нашли поганки – знали, что поганки – но сварили и съели. Когда отец приехал ко мне на свидание через восемь месяцев, увидев меня, он заплакал.
Вернувшись в барак от замполита, в ту ночь я долго не мог заснуть. «Сказать – значит преступить барьер, которого еще ни разу в жизни не переступал. Всем станет известно, что я сдал узбека и контролера Васю. Но если отправят в лес, досрочно уже никогда не освобожусь, усилия сестры и родителей пойдут прахом».
Перед глазами в который раз всплыло последнее мгновение разговора с капитаном, когда наши взгляды встретились. Мне показалось, в его взгляде были одновременно вопрос и ответ: «Выстоишь? – Если выстоишь, я буду доволен».
Однако, чуть позже, хоть и косвенно, я все-таки стал доносчиком.
Вскоре после того, как Дмитрича перевели в Тверь, заведующим клубом назначили Алексеева. Я очень сдружился с ним. В «той» жизни он окончил юридический институт и работал на какой-то должности в прокуратуре. Был чрезвычайно серьезным, дисциплинированным и работоспособным человеком. Все дела клуба были у него в идеальном порядке. Кроме того, он еще успевал делать различные контрольные работы и писать рефераты за нескольких офицеров, заочно учившихся в юридическом институте.
Не помню уже, из-за чего у него произошла стычка с капитаном Пиксиным, но они стали лютыми врагами.
Спустя несколько дней Алексеев объявил мне, что решил написать жалобу на капитана Пиксина в Прокуратуру РСФСР. А еще через неделю-две у него созрел новый план: писать жалобу на всю администрацию колонии и предъявить ультиматум – либо они его выпускают, либо он дает этой жалобе ход.
Я попытался отговорить его, но он был полон решимости. Помню, подумал тогда: «Этот год, точно, серым и скучным уже не будет».
И хотя весь собранный им компромат был чистой правдой, у него не было свидетелей подтвердить его. Наверняка не нашёлся бы такой смельчак. Например, он писал, что Пиксин посадил в изолятор хромого, тщедушного паренька из-за того, что тот не выполнил дневную норму по вязке сеток. «Да и как он мог выполнить эту норму, – писалось в жалобе, – когда у него все сетки, даже еще недовязанные, отнимали те, кто посильнее. Паренек повесился в изоляторе. А ведь ему оставалось до освобождения всего два дня».
Кто бы подтвердил такое?
Или еще пример. Пиксин как-то объявил, что никакой еды из столовой выносить он не позволит. И если же кто-то попадался ему с миской супа, этот суп он сам и не однажды прилюдно выливал нарушителю в штаны.
Подобных фактов в жалобе было много, но кто-то же должен был их подтвердить.
Я сам однажды видел из окна библиотеки, как днём, когда все были на работе, Пиксин подвёл кого-то к территории изолятора и позвонил, чтобы открыли калитку. Неожиданно парнишка, которого он хотел посадить, видно, испугавшись, стал отчаянно упираться и упал на землю. Пиксин оглянулся по сторонам. Я сразу же присел на корточки и уже сквозь щёлочку в занавеске продолжал наблюдать за происходящим. Не увидев никого, он несколько раз с силой ударил паренька правой ногой. Потом узнал, что он выбил ему зуб. Но подтвердить это – такое не приснилось бы мне даже в страшном сне.
Доказательства – как с неба свалились.
Однажды в библиотеке ко мне подошел паренек. Он был единственным из осуждённых, который работал в бухгалтерии. В разговоре незаметно стал жаловаться на начальство. Его, мол, обещали освободить досрочно и «кинули». Рассказал, что сделал десятки копий липовых нарядов, и теперь, хочет насолить начальству, но не знает как.
Мне не оставалось ничего другого, как направить его к тому, кто знал, как насолить. Что я и сделал.
Жалобу, написанную на пятидесяти листах, я отдал сестре на свидании и попросил до моего сигнала в прокуратуру не отсылать.
А на следующий день Алексеев предъявил начальству свой ультиматум. С этого момента радиорупор в колонии не умолкал: «Заключенный Алексеев, явиться к начальнику колонии!», «Заключенный Алексеев, явиться к замполиту». Его вызывали в штаб по пять-десять раз в день. Он оказался в самом центре внимания, десятки глаз следили за каждым его шагом и действием, особенно за тем, с кем он общается.
Когда нам удалось поговорить наедине, он предложил:
– Конечно, я понимаю, ты рискуешь. Я-то знаю, чего добиваюсь, а ты? Пойди к замполиту и пообещай ему постараться узнать, что я написал про него в жалобе. Он наверняка это оценит.
Замполит, внешне и не проявил интереса к моему предложению; но, когда, через несколько дней, пришел к нему с «добытой информацией», выслушал меня с большим вниманием.
Вскоре Алексеева посадили в штрафной изолятор. Замполит же, вызвав меня, сказал, чтобы я снова временно исполнял еще и обязанности заведующего клубом.
Какое-то время я прятал в укромном месте над дверью копию жалобы, затем разорвал ее и выбросил в туалет. На следующий день капитан Пиксин сделал обыск в клубе. Встав на табуретку, он тщательно прощупал то место, где еще вчера была спрятана жалоба.
Все в колонии считали, что у него особое чутье, особый нюх. Представляю, каким бы удовольствием было для него лишний раз подтвердить эту репутацию: найти и положить на стол начальника жалобу, а незадачливого библиотекаря, до выяснения обстоятельств, водворить в штрафной изолятор.
В изолятор он посадил меня лишь однажды – за опоздание на проверку. Случилось это в субботу, когда никого из начальства, кроме него не было.
На дворе стоял холодный уральский март месяц и контролер, видимо, пожалел меня и не снял меховую безрукавку, которую я носил под хлопчатобумажной курткой. Эту безрукавку передал через сестру друг моего детства Рязанчик, и она здорово выручала меня в зимнее время.
В одиночной камере, куда меня поместили, было по-настоящему холодно. Помню, я подумал тогда: «Что бы я делал без этой безрукавки?»
За две бессонные ночи, проведенные в ШИЗО (в понедельник, как только вышел на работу замполит, меня сразу выпустили) мне удалось забыться сном в общей сложности на полчаса или час. Тогда-то я и ответил себе на вопрос: почему многих ребят, отсидевших 15 суток в изоляторе, иногда сразу и не узнать в лицо.
В день приезда комиссии из Москвы я случайно оказался в штабе. Начальник колонии и его заместитель по режиму, кабинеты которых были почти рядом, разговаривая по телефону, так кричали друг на друга, что слышно было, по-моему, в отрядах. Если кто и не слышал, дневальные, конечно же, всем передали их разговор.
Кончилась эта история тем, что в журнале «К новой жизни», который распространялся по всем колониям страны, появилась заметка «Клевета». В ней упоминалась и моя фамилия. Ведь я, вместе с другими осуждёнными, засвидетельствовал перед комиссией, что все написанное в жалобе – ложь. И это была единственная правда в заметке, всё же остальное вкратце выглядело так: осуждённый Алексеев, исполнявший обязанности заведующего клубом, в нарушение режима содержания, носил телогрейку не чёрного цвета, как положено, а синего. Какое-то время начальство колонии закрывало глаза на это нарушение, и Алексеев возгордился, возомнил себя не таким, как все. Когда же капитан Пиксин потребовал от него не нарушать форму одежды, осуждённый Алексеев начал писать на администрацию колонии клеветнические жалобы. В конце заметка призывала администрации всех колоний строго соблюдать режим содержания осуждённых и не давать никому никаких поблажек, независимо от выполняемой работы.
Алексеева же первым этапом, прямо из изолятора, отправили в лесную зону.
Через полгода сестре удалось добиться в Управлении лагерями моего перевода в Тверь, в ту же колонию, где находился Дмитрич.
Перед самым отъездом, когда я сдавал дела, замполит сказал:
– Мне нравилось, как ты работал, хотя, говорят, помогал Алексееву писать жалобу, продукты из комнаты свиданий выносил, даже в карты поигрывал.
– Да, гражданин начальник. Вы же знаете, как москвичей здесь любят, они же просто…
– Да вот и я им тоже сказал, – перебил он меня, – а доказательства у вас есть?
Этап. Переполненные вагоны, бесконечные обыски, солдаты с собаками, многодневные ожидания, когда же выкликнут твою фамилию, напряжение от неведения, что случится в следующую минуту…
Вместе со мной в большую сборочную камеру только что затолкали человек пятьдесят-семьдесят. Нет ни новичков, ни старичков, никто никого не знает. Проходит минут десять, и вот уже образовывается несколько групп. Затем человек шесть садятся за стол посреди камеры, остальные, не разговаривая друг с другом, стоят вдоль стен.
Еще через полчаса, поглядев на сидящих за столом, никак не скажешь, что они только что познакомились. Звучат имена, клички, названия лагерей, где сидели, фамилии начальников. И вот у них появляется лидер – высокий парень лет тридцати-тридцати пяти с лицом восточного типа.
– Ну что, мужики, в углы позабивались? – спрашивает он. В его голосе чувствуются власть и сила, и звучит он, как в тишине театрального зала, доходя до каждого уголка. – Сейчас казаков созову, сабли навострю…
Я знаю, он обязательно подойдет ко мне: ведь ни у кого ничего нет, а у меня две большие сумки. Через некоторое время он, действительно, подходит ко мне. Безо всяких угроз начинает расспрашивать, кто я, кем был в лагере, какая статья, какой срок.
Дальше происходит то, чего со мной никогда не случалось ни до этого разговора, ни после. Верхняя губа начала дергаться, я почувствовал, что не в силах закрыть рот. Так и стоял с открытым ртом.
– Ты что, земляк, такой нервный? – спросил он.
В тот момент я наконец-то смог закрыть рот. Он спросил ещё о чём-то и отошел. Вероятно, я показался ему психически ненормальным. Может, это меня и выручило?
Странно, ни родные, ни друзья мне не снились, я спал всегда очень крепко. Но регулярно, раз в три-четыре месяца мне снилась моя первая северная любовь. Сновидение всегда было одним и тем же: я ехал ее искать, мне говорили, что она в другом месте, но и там я ее не находил и во сне не видел. В конце концов, результатом этих сновидений стало решение написать ей. Никогда не записывал ее адрес, не пытался запомнить его, но он вдруг всплыл в памяти, хотя после нашей последней встречи прошло около девяти лет.
Через месяц пришел ответ, но не от нее, а от ее подруги. Письмо было туманным, его суть сводилась к тому, что она меня помнит, но сейчас временно живет в другом городе и ей, при случае, сообщат мой адрес.
Почему-то заподозрил, письмо от имени подруги написала она сама. Такая «игра», как мне казалось, была в ее характере. Но какое пламя вспыхнуло во мне! Сколько воспоминаний, сомнений и догадок породило оно! Я советовался с приятелями, подробно рассказывая каждому о всех тонкостях наших отношений, и всем задавал один и тот же вопрос: «Сама она ответила или нет?» Мнения были разные, и это разжигало меня еще больше.
Теперь прошлое целиком занимало мое воображение. Мысли – «а счастье было так возможно», близко, и все в моей жизни могло пойти по-другому, не будь я таким глупцом, стали терзать меня постоянно.
Спустя несколько дней написал ответ. Эти три слова – «она вас помнит» – сделали меня буквально одержимым. Второе письмо, которое просил передать ей, было письмом безумца. Я объяснялся в любви, говорил, мне все равно, где жить, лишь бы с нею. И сам верил в это, как и в то, что впереди у меня еще пять лет такой переписки.
А на какие вдохновенные строки оказался способным мой воспаленный ум! Наверно, именно тогда окончательно укрепился во мнении – мне обязательно надо попробовать писать.
Ответ пришел только месяца через два. Когда распечатывал конверт, руки тряслись, как у алкоголика, держащего стакан водки. На сей раз послание было от… ее мужа. Он не угрожал, скорее укорял, что я разбередил ее душу, и это жестоко. О себе сообщал, между прочим, что не особо удачлив, златых гор ей не дал.
Меня стала мучить мысль, что мои письма к ней не попадают, меня кто-то разыгрывает. Недолго думая, отправил еще одно письмо с кучей дурацких вопросов, они касались наших отношений, о них знала только она.
В ожидании ответа превратился в лунатика, со всеми мог говорить только на одну тему.
Третье письмо, наконец-то, было написано ею. Ни на один из моих вопросов не ответила, но прислала фотографию, которую я просил еще в первом письме. Фотография была очень маленькой и выцветшей.
Писала, что ей уже двадцать девять, давно замужем, у нее есть семилетняя дочка и, вообще, в жизни у нее много чего было и вряд ли между нами что-либо возможно.
В её ответе уловил оттенок сожаления. Тут же написал ей, что её прошлое не имеет для меня никакого значения, сам я во сто раз хуже. Всегда буду любить её и дочку. Выслал ей бандероль, где вместе с письмом послал кассету.
Дело в том, что о моей переписке знало уже пол-лагеря. Лагерный поэт написал стихи, музыканты сочинили мелодию, и получилась песня, которую я записал на пленку. Припев там был такой:
Нет, я вернусь, хотя бы для того,
Чтоб станцевать с тобой последний танец.
Ведь это память, прошлое моё,
Моя любовь, по имени Светлана…