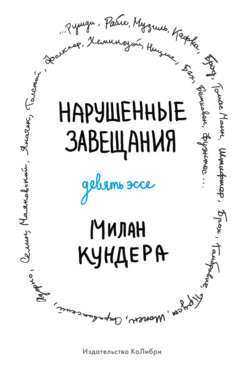Читать книгу Нарушенные завещания - Милан Кундера - Страница 10
Часть первая. День, когда Панург не сумеет рассмешить
Столкновение трех эпох
ОглавлениеУникальная для истории ситуация: по происхождению Рушди принадлежит к мусульманскому сообществу, бóльшая часть которого еще живет в эпоху, хронологически предшествующую Новому времени. Он написал свою книгу в Европе в Новое время, или, точнее, в конце этой эпохи.
Так же как иранский ислам удалялся в то время от религиозной сдержанности в сторону воинствующей теократии, так история романа, с Рушди, переходила от мягкой профессорской улыбки Томаса Манна к безудержному воображению, черпающему вдохновение во вновь открытом источнике раблезианского юмора. Доведенные до крайности противоположности встретились.
С этой точки зрения осуждение Рушди выглядело не как случайность или безумие, а как глубочайший конфликт, возникший между двумя эпохами: теократия обвиняет Новое время и в качестве мишени выбирает самое убедительное ее создание: роман. Ведь Рушди не богохульствовал. Он не нападал на ислам. Он написал роман. Но для теократического ума это хуже, чем нападки на ислам; если нападают на религию (в ходе полемики богохульствуя или высказывая ересь), хранители храма могут легко защитить ее на собственной территории, собственным языком; но для них роман – это другая планета; другой мир, построенный на основе иной онтологии; инфернум, где единственная истина не имеет силы и где сатанинская двусмысленность обращает любую уверенность в загадку.
Подчеркнем это: не нападки, а двусмысленность; вторая часть Сатанинских стихов (то есть инкриминируемая часть, в которой упоминаются Магомет и происхождение ислама) представлена в романе как сон Джибрила Фаришты, который позже на основе этого сна создаст низкопробный фильм, где сам сыграет роль архангела. Таким образом, рассказ вдвойне относителен (прежде всего как сон, а затем как плохой фильм, обреченный на провал), он представлен не как утверждение, а как изобретение – игра. Обидное изобретение? Я это оспариваю: оно заставило меня понять, впервые в жизни, поэзию исламской религии, исламского мира.
Я на этом настаиваю: в мире относительности романа нет места ненависти: романист, написавший роман, чтобы свести счеты (будь то личные или идеологические), обречен на эстетическую гибель – окончательную и верную. Айша, девушка, которая ведет одержимых видениями односельчан на смерть, разумеется, чудовище, но она при этом соблазнительна, прелестна (в ореоле сопровождающих ее повсюду бабочек) и часто – трогательна; даже в портрете имама в изгнании (воображаемый портрет Хомейни) мы находим почти уважительное понимание; западная современность воспринимается скептически, она ни в коей мере не превосходит восточный архаизм; роман «исследует психологически и исторически» древние священные тексты, но он также показывает, до какой степени они обесценены телевидением, рекламой, индустрией развлечений; может быть, хотя бы леваки, клеймящие безнравственность современного мира, пользуются безраздельной симпатией автора? Ну нет, они до слез нелепы и так же безнравственны, как и все окружающие; никто не бывает прав и никто не ошибается полностью на этом грандиозном карнавале относительности, каким является это произведение.
В Сатанинских стихах искусство романа как такового подверглось осуждению. Поэтому из всей этой грустной истории самое грустное – не приговор Хомейни (который вытекает из жестокой, но последовательной логики), а неспособность Европы защитить и объяснить (терпеливо объяснить себе самой и остальным) самое европейское из искусств, искусство романа, иначе говоря, объяснить и защитить свою собственную культуру. «Сыновья романа» бросили сформировавшее их искусство. Европа, «общество романа», отказалась от себя самой.