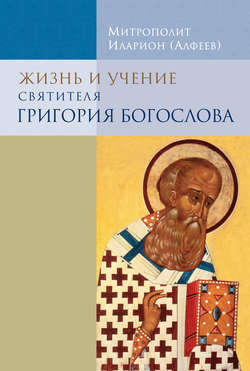Читать книгу Жизнь и учение святителя Григория Богослова - Митрополит Иларион (Алфеев) - Страница 13
Глава I. Жизнь и творения
3. Константинопольский период
Богословская деятельность Григория в Константинополе. Его интронизация
ОглавлениеПосле истории с Максимом-Циником Григорий в очередной раз собрался уходить на покой. Во время богослужения в храме Анастасии он объявил о своем намерении народу, чем вызвал настоящую бурю: все требовали, чтобы он остался, так как в нем видели твердого защитника Православия. Григорий согласился только после того, как услышал крик из толпы: «Вместе с собой ты уводишь Троицу». Имя Святой Троицы всегда вызывало особые чувства в сердце Григория: он сразу же пообещал остаться, но только до созыва Вселенского Собора[154].
Вскоре он уехал в деревню, чтобы собраться с силами и мыслями. Вернувшись, он произнес Слово 26-е, в котором упомянул о «собаках», ставших пастырями, и призвал тех из раскольников, которые не совсем потеряли совесть, покаяться перед Богом и вернуться в церковь[155]. Слово 26-е – одно из самых поэтичных в литературном наследии Григория: в нем много автобиографических деталей, проливающих свет на его личность. Григорий, в частности, говорит о том, почему ему необходимо время от времени прерывать свою публичную деятельность и удаляться в уединение:
Итак, каковы плоды моей пустыни? Хочу я, как хороший купец, отовсюду собирающий прибыль, вынести нечто и вам на продажу. Однажды, когда день уже склонялся к вечеру, прогуливался я наедине с собой вдоль берега моря. Ибо я привык всегда облегчать труды такими передышками; ведь не выдерживает напряжения всегда натянутая тетива, и необходимо немного ослаблять ее на луке, чтобы затем снова натянуть… Так я ходил, и ноги переносили меня, а взор покоился на море… Что же происходило тогда?.. При порывах сильного ветра море волновалось и завывало, а волны, как обычно бывает при таком шторме, одни поднимались вдали и постепенно, то возвышаясь, то понижаясь, достигали берега и разбивались, другие же, ударяясь о ближние скалы и сокрушаясь о них, превращались в пену и высоко летящие брызги. Море выбрасывало на берег камешки, водоросли, ракушки и легчайших устриц; и некоторые опять уносило с отливом волны. Но твердо и неподвижно стояли они (скалы), как будто ничто не беспокоило их, кроме того, что ударялись о них волны. Из этого сумел я извлечь нечто полезное для философии… Не море ли, сказал я, жизнь наша и все человеческое; а ветры – не постигающие ли нас искушения и все неожиданное?.. Что же касается искушаемых, то одни, подумалось мне, как легчайшие и бездыханные уносятся (волнами) и ничуть не противостоят напастям… Другие же суть камни, достойные Того Камня, на Котором мы утверждены и Которому служим, – это все те, кто, руководствуясь философским разумом и возвышаясь над ничтожеством толпы, все переносят с твердостью и непоколебимостью…[156]
Итак, под влиянием размышлений на лоне природы Григорий пришел к мысли о необходимости переносить скорби по-философски: вот для чего нужны ему часы уединения. Это типичный для риторики прием выведения нравственного урока из пейзажной зарисовки; впрочем, несмотря на всю свою тривиальность, образ «житейского моря», написанный Григорием, пленяет своей поэтичностью. В 26-м Слове Григорий жалуется на предательство друзей и одиночество. Он, однако, готов простить раскольников и воссоединиться с ними. Мы видим из его слов, что в нем нет ненависти к Максиму и его сторонникам – лишь глубокая скорбь пастыря, лишившегося части своих овец, и учителя, преданного учениками:
Из друзей моих и ближних одни напротив меня, приблизившись, встали, а другие, наиболее человеколюбивые, вдалеке от меня встали[157], и в ту ночь все соблазнились[158]. Едва и Петр не отрекся от меня, а может быть, и не плачет горько, чтобы уврачевать грех[159]. И явно, что только я один смел и исполнен дерзновения; я один благонадежен среди страха; один вынослив и, восхваляемый всенародно, но презираемый наедине, известен всему Востоку и Западу тем, что против меня идет война. Если ополчится на меня полк, не убоится сердце мое; если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться на Него[160]. Настолько не считаю страшным то, что происходило, что даже, забывая о себе, оплакиваю опечаливших меня. Некогда члены Христовы, члены для меня драгоценные, ныне же оскверненные, члены этого стада, которое вы едва не предали прежде, чем оно было собрано воедино, как рассеялись вы и других рассеяли?.. Как воздвигли жертвенник против жертвенника?.. Как разделением своим вы и себя подвергли смерти, и нас – страданиям?.. Какое лекарство найду для исцеления? Как соберу рассеянное? Какими слезами, какими словами, какими молитвами исцелю сокрушенное? Один лишь остается способ. Троица Святая!.. Ты восстанови для нас снова тех, кто настолько удалился от нас, чтобы самим разделением были научены они единомыслию; а нам за здешние труды воздай небесными и мирными благами, из которых первое и величайшее есть – озариться Тобою совершеннее и чище…[161]
Два других Слова, относящихся к этому периоду, тоже автобиографичны: речь идет о Словах 33-м и 36-м. В первом из них Григорий перечисляет обвинения, выдвигавшиеся в его адрес. Говорили, в частности, что он рукоположен епископом в «пустое, скучное и малолюдное селение», а не в столицу[162]; что у него потертая одежда, невзрачное лицо, лысина, что он говорит с каппадокийским акцентом, что он малообщителен и старомоден[163], что он – провинциал и чужеземец[164]. В Слове 36-м, отвечая на те же обвинения, Григорий рисует собственный портрет, за который его можно было бы обвинить в нескромности, если бы в его словах не было столько искренности и готовности ответить за себя перед Богом:
…Ничто не вызывает у вас такого уважения ко мне, как то, что я не дерзок, не нагл, не театрален и не напыщен, но уступчив, умерен, необщителен даже в обществе и склонен к одиночеству; короче сказать, я – философ, но все это не приобретено мною искусственно и с расчетом, а хранится просто и духовно. Ибо не для того скрываюсь, чтобы меня искали и чтобы удостоили большей чести… но чтобы своим безмолвием показать, что избегаю председательства и не стремлюсь к таким почестям… Ибо если бы я с какими-либо человеческими и ничтожными мыслями или с желанием получить эту кафедру предстал вначале перед вами… то мне было бы стыдно неба и земли, стыдно и этой кафедры и этого собрания… стыдно было бы моих подвигов и трудов, и этой власяной одежды, и пустыни, и уединения, к которым я привык, и этого простого образа жизни и дешевой трапезы, мало отличающейся от трапезы птиц… «Но, – говорят, – не таким кажешься ты многим». Да какая разница мне, для которого быть[165] – важнее всего, лучше же сказать – составляет все… Не таким кажусь многим? Зато Богу кажусь таким, и не кажусь, а весь открыт перед Тем, Кто знает все прежде рождения людей[166]… Человек смотрит на лицо, а Бог – на сердце[167].
Богословская деятельность Григория в период до II Вселенского Собора сосредоточена главным образом вокруг борьбы с арианством в его позднем варианте, получившем название аномейства, или евномианства. Большинство Слов этого периода посвящены изложению учения о Святой Троице. Классическая новоникейская тринитарная доктрина изложена Григорием в Слове 20-м, произнесенном вскоре по прибытии в Константинополь: в нем Григорий опровергает основные постулаты арианства, говорит о равенстве Лиц Святой Троицы, выясняет понятие «начала» (αρχή) применительно к Сыну и говорит о вневременном рождении Сына. Те же самые темы затрагиваются в Словах 22-м[168] и 23-м[169]: первое из них содержит также выпады против аполлинарианства, которое Григорий хотя и не называет ересью, тем не менее считает «братской распрей, бесчестящей и Бога, и человека»[170]. Слово 21-е, произнесенное в этот же период, посвящено Афанасию Александрийскому, великому защитнику Никейской веры в этом Слове также немало страниц, содержащих антиарианскую полемику.
Однако самым известным из всех сочинений Григория на догматические темы, безусловно, являются Слова 27-31, известные под общим именем «Пять слов о богословии» именно это сочинение снискало Григорию бессмертную славу и имя Богослова. В 27-м Слове Григорий поднимает вопрос о необходимых условиях для богословствования: по его мнению, богословом может быть только тот, кто проводит жизнь в созерцании и очищает себя для Бога. В 28-м Слове речь идет о природе Бога: Он непостижим, бестелесен, не является Ангелом; сущность Его непознаваема; Его нельзя описать в категориях места; Он превосходит всякое определение и образ; Он познается человеком исходя из красоты космоса, из устройства человеческого естества, животного и растительного мира. Слово 29-е содержит систематическое учение о Боге Сыне, направленное против арианства. В Слове 30-м затрагивается вопрос о Божественной и человеческой природах в воплотившемся Боге Слове, а также перечисляются имена Сына, встречающиеся в Священном Писании. Наконец, в Слове 31-м Григорий доказывает Божественность Святого Духа и равенство Его двум другим Ипостасям Святой Троицы.
«Слова о богословии» стали тем литературным шедевром, с которым Григорий вошел в историю восточного христианства. С момента их написания в течение всей истории Византии они оставались наиболее авторитетным и широко читаемым сочинением на догматическую тему. Уже при жизни Григория они получили известность в качестве своего рода манифеста Никейской веры. Написанные накануне II Вселенского Собора, они, наряду с другими сочинениями великих каппадокийцев, создали почву для полного разгрома арианства и окончательного торжества никейской партии на этом Соборе.
Подготовка к Собору началась с момента издания императором Феодосием эдикта о Никейской вере в феврале 380 года: целью Собора должно было стать утверждение Никейского исповедания и избрание епископа для Константинопольской кафедры. Однако вопрос о епископе был заранее решен Феодосием: единственным достойным кандидатом представлялся ему Григорий. Феодосий вступил в столицу 24 ноября 380 года, после победоносной кампании против готов. Сразу по прибытии он встретился с епископом Демофилом, главой партии омиев, которому предложил подписать православное исповедание веры. Тот отказался. Феодосий также встретился с Григорием и передал ему в управление базилику Святых Апостолов. 26 ноября ариане были изгнаны из всех столичных храмов. На следующий день, 27 ноября, при участии императора и армии состоялась торжественная интронизация Григория в качестве архиепископа Константинопольского.
День интронизации был апогеем церковной карьеры Григория и остался одним из самых дорогих для него воспоминаний:
Наступило назначенное время. Храм был окружен солдатами,
Вооруженными и построенными в многочисленные ряды.
Туда же стремился народ, непрерывно увеличиваясь,
Волнуясь подобно песку морскому, или облакам, или волнам,
С гневом против меня[171], с мольбами к властям.
Рынки, дороги, площади, всякое место,
Двух- и трехэтажные дома сверху донизу были наполнены зрителями –
Мужчинами, женщинами, детьми, стариками.
Суета, рыдание, слезы, вопли –
Образ города, взятого штурмом.
А я, доблестный полководец,
С этой немощной и расслабленной,
Едва дышащей плотью
Шел между войском и предводителем, смотря вверх
И ожидая помощи с надеждой,
Пока не вступил в храм, сам не знаю как…
Было утро, но над всем городом лежала ночь,
Ибо тучи закрывали собою солнечный диск;
Такое вовсе не соответствовало торжественности момента…
Это доставляло удовольствие врагам,
Говорившим, что совершаемое не угодно Богу,
А мне причиняло тайную печаль в сердце.
Но когда я и носитель порфиры
Были уже внутри почетной ограды,
Вознеслась от всех общая хвала Богу,
Призываемому при помощи голоса и воздетых рук,
Тогда, по Божию повелению, так ярко воссияло солнце
Сквозь разошедшиеся тучи,
Что все здание, прежде мрачное,
Тотчас сделалось молниевидным,
И весь храм получил вид древней скинии,
Которую покрывало сияние Божие;
У всех просветлели лица и сердца.
Осмелев при таком зрелище,
Все стали громко требовать меня…
Крича, что для города самой первой и великой наградой станет…
Если престолу буду дарован я.
Так кричали чиновники и чернь –
Все в равной мере желали этого;
О том же кричали женщины сверху[172],
Почти забыв о требованиях приличия.
Все оглашалось каким-то невероятным громом…[173]
Хотя триумф Григория был полным, ариане предприняли последнюю отчаянную попытку изменить ситуацию в свою пользу: когда епископ был тяжело болен, к нему подослали убийцу. Последний, однако, явился с повинной к Григорию, припав к его ногам со слезами и рыданиями. Узнав о покушении, которое готовилось против него, Григорий был глубоко тронут, расплакался и простил своего потенциального убийцу. Об этом случае сразу же узнал весь город[174].
154
PG 37, 1102–1105 = 2.372–373.
155
Сл. 26, 3, 29–33; SC 284, 232 = 1.374.
156
Сл. 26, 7, 17–9, 20; SC 284, 242–246 = 1.377–378.
157
Пс 37, 12.
158
Мк 14, 27.
159
Ср. Мф 26, 31–35. Намек на Петра Александрийского, который изменил свое отношение к Григорию под влиянием Максима-Циника.
160
Пс 26, 3.
161
Сл. 26, 17, 15–19, 7; SC 284, 268–270 = 2.383–384.
162
Сл. 33, 6, 8; SC 318, 168 = 1.484.
163
Сл. 33, 8, 1–9, 1; SC 318, 172–174 = 1.485–486.
164
Сл. 33, 11, 1 и 33, 13, 1–2; SC 318, 180–184 = 1.487–488.
165
То есть быть, а не казаться.
166
Дан 13, 42.
167
Сл. 36, 3, 13–23; 6, 3–7; 7, 1–20. Ср. 1 Цар 16, 7.
168
Слово 23 рус. пер.
169
Слово 22 рус. пер.
170
Сл. 22, 13, 1-2; SC 270, 246 = 1.343.
171
Имеются в виду, вероятно, ариане или омии.
172
В византийских храмах для знатных женщин строились отдельные галереи.
173
PG 37, 1120–1123 = 2.378–379.
174
PG 37, 1129–1131 = 2.380–381.