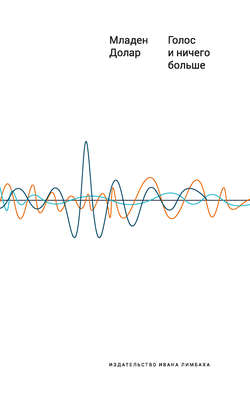Читать книгу Голос и ничего больше - Младен Долар - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава 1. Лингвистика голоса
Голос и означающее
ОглавлениеЯ хотел бы начать изучение голоса таким, каким он появляется в его самом распространенном употреблении и повседневном присутствии: голос как носитель высказывания, как обеспечение слова, фразы, речи, любого вида лингвистического выражения. В первую очередь рассмотрим наш предмет с лингвистической точки зрения – насколько это имеет к нему отношение.
Как только мы начинаем анализировать его более подробно, мы видим, что даже его самое распространенное и обычное употребление скрывает в себе массу ловушек и парадоксов. То, что выделяет голос в обширном океане звуков и шумов, что определяет особенность голоса в бесконечной гамме акустических явлений, – это его интимная связь со смыслом. Голос – это что-то, что обозначает смысл, как будто бы в нем находился некий указатель, вызывающий ожидание значения, голос является вступлением к значению. Мы, безусловно, можем придать значение любому виду звуков, но «сами по себе», независимо от нашей атрибуции, они кажутся лишенными последнего, тогда как голос находится в глубинной связи со смыслом; это звук, который кажется сам по себе наделенным желанием «что-то сказать», собственной интенциональностью. Мы можем производить массу всевозможных звуков с намерением что-то обозначить, но намерение будет внешним по отношению к этим звукам как таковым, или же последние будут функционировать как заместители, как метафорические заменители голоса. Один только голос подразумевает в себе субъ-ективность, которая «выражает себя» и сама по себе обитает в средствах выражения[72]. Но если голос является квазиестественным носителем смыслообразования, то он также проявляет себя и как странно не поддающийся смыслу. Если мы говорим, чтобы обозначить, передать смысл, то голос – это материальное обеспечение смысловыражения, даже если он сам как таковой не делает в него никакого вклада. Он скорее выступает в качестве исчезающего посредника (если заимствовать термин, ставший известным благодаря Фредрику Джеймисону в другом контексте), делая высказывание возможным и исчезая в нем, растворившись в произведенном смысле. Даже на самом банальном уровне повседневного опыта, когда мы слушаем, как кто-то говорит, вначале мы можем прекрасно осознавать его голос и его специфические качества, его тембр и акцент, но мы к ним очень быстро привыкаем и сосредотачиваемся уже только на выражаемом смысле. Голос как таковой – как лестница Витгенштейна, которую мы должны отбросить, как только нам удалось забраться наверх, то есть когда мы смогли завершить наше восхождение на вершину смысла. Голос – это орудие, проводник, средство, а смысл – цель. Последнее рождает спонтанное противопоставление, согласно которому голос возникает как материальная противоположность идеальности смысла. Идеальность смысла может проявиться лишь посредством материальности средств, но сами средства не вносят своего вклада в смысл.
Так, мы можем предложить условное определение голоса (в его лингвистическом аспекте): это то, что не содействует реализации значения[73]. Это материальный элемент, сопротивляющийся значению, и если мы говорим в целях что-то сказать, то голос – это именно то, что не может быть высказано. Именно здесь, в самом акте речи, он не поддается никакому определению, до такой степени, что мы даже можем утверждать, что он является нелингвистическим, внелингвистическим элементом, делающим возможным феномен речи, при этом голос как таковой не может быть выделен лингвистикой. Если говорить о существовании потенциальной телеологии голоса, то последняя должна скрывать карлика теологии внутри себя, так же как в параболе Беньямина. Блаженный Августин предложил на этот счет достаточно привлекательную теологическую интерпретацию. В одной из своих известных проповедей (№ 288) он делает следующее утверждение: Иоанн Креститель – это голос, а Иисус – это слово, логос. И правда, эта идея, кажется, текстуально следует началу Евангелия от Иоанна: в начале было Слово, но, чтобы Слово могло проявить себя, нужен посредник, предшественник в облике Иоанна Крестителя, который, в частности, определял себя как vox clamantis in deserto, голос вопиющего в пустыне[74], тогда как Иисус в этой парадигматической оппозиции ассоциируется со Словом, verbum, logos.
Голос предваряет слово и делает затем возможным его понимание. <…> Что такое голос, что такое слово? Понаблюдайте за тем, что происходит в вас самих, и сами сформулируйте вопрос и ответ. Голос только раздается и не предлагает никакого значения, так, голос, который исходит из уст кричащего, а не говорящего, мы называем голосом, а не словом. <…> Что касается речи, чтобы действительно заслужить это название, она должна иметь смысл и, предлагая звук ушам, должна предлагать еще что-то уму. <…> И теперь внимательно присмотритесь к значению следующего изречения: «Ему должно возрастать, мне же становиться все меньше» (Ин 3, 30). Как, по какой причине, с какой целью, почему голос, то есть Иоанн Креститель, мог сказать, учитывая установленные нами различия между Голосом и Словом: «Ему должно возрастать, мне же становиться все меньше?» Почему? Потому что голос исчезает по мере того, как увеличивается слово. Голос таким образом постепенно теряет свою функцию по мере того, как душа приближается к Христу. Так что Иисус должен возвыситься, а Иоанн исчезнуть[75].
Продвижение от голоса к смыслу – это продвижение от простого, но необходимого посредника к истинному Слову: лишь один небольшой шаг отделяет лингвистику от теологии. И если мы хотим изолировать слово как объект, как отдельную сущность, то мы должны отделить его от этой спонтанной телеологии, которая идет рука об руку с некой теологией голоса как условие раскрытия Слова[76]. Здесь мы вынуждены двинуться в противоположном направлении: начать спуск с вершины смысла к тому, что кажется простым способом; уловить голос как мертвую зону произведения смысла или как отказ от смысла. Мы должны установить другие рамки, чем те, которые спонтанно возникают в связи с некоторым пониманием лингвистики, телеологии и теологии.
Если голос – это то, что привносит смысл, за этим следует ключевая антиномия, дихотомия голоса и значения. Означающее владеет собственной логикой, оно может быть проанализировано, установлено и зафиксировано – зафиксировано с точки зрения своей повторяемости, поскольку каждое означающее является означающим именно по причине своей повторяемой природы, своей воспроизводимости. Означающее – это существо, которое может существовать лишь в той степени, насколько оно может быть клонировано, но его геном не может быть определен при помощи положительных единиц, он может быть установлен только при помощи сети различий, посредством дифференциальных противопоставлений, позволяющих ему производить смысл. Речь идет о странной сущности, которая не владеет своей собственной идентичностью, так как является простым пересечением различий по отношению к другим означающим, и ничем больше. Ее собственное материальное средство и ее специфические качества не имеют никакого значения – необходим лишь тот факт, что она является отличной от других означающих (следуя известной сентенции де Соссюра о том, что в языке имеются только различия без положительных членов системы, и другой, не менее известной, гласящей, что язык есть форма, а не субстанция)[77]. Означающее не имеет никакой положительности, никакого определяемого качества, принадлежащего только ему; его единственное существование – отрицательное (оно существует до тех пор, пока оно «отлично от других означающих»), несмотря на то что эти механизмы могут быть распутаны и объяснены их собственной отрицательностью, производящей действия с положительным значением.
Если мы возьмем де Соссюра в качестве условной отправной точки – хотя общепринятое мнение нашего времени, гласящее, что «в начале был де Соссюр» (очень особенный вид Слова), вызывает скорее сомнения – нам будет достаточно просто увидеть, что соссюровский поворот тесно связан с голосом. Если с полной серьезностью принять во внимание отрицательную природу лингвистического знака, его чисто различительный и противопоставительный признак, то мы будем вынуждены поставить под вопрос голос как предположительно естественную почву, из которой произрастает речь, ее очевидно положительную субстанцию. Он должен быть отброшен как источник воображаемого ослепления, до сих пор мешающего языкознанию открыть структурные определения, делающие возможным сложное превращение голосов в лингвистические символы. Голос является отвлекающим фактором, от которого нужно избавиться, чтобы ввести новую науку о языке. За звуками речи, которые тщательно описывает традиционная фонетика – уделяя много времени технике произведения, попав в ловушку их физических и физиологических качеств, – скрывается совсем другая данность, которую должна открыть новая лингвистика, – это фонема. За голосом «во плоти и крови» (как скажет Якобсон несколько десятилетий спустя) проходит существование без плоти и крови, целиком обусловленное своей функцией – безмолвного звука, голоса без звука. Новый объект называет новую науку: вместо традиционной фонетики фонология вдруг подает большие надежды. Вопрос о природе происхождения различных звуков считается устаревшим; важными становятся дифференциальные оппозиции фонем, исключительно характер их отношений, сведения их до дистинктивных признаков. Они изолированы своей способностью различать единицы значения, но таким образом, чтобы значительные специфические различия были несущественны, единственная их важность заключается в том, что они есть, а не в том, чем бы они могли быть. Фонемы не имеют субстанции, они полностью сведены к форме и лишены какого-либо собственного значения. Они всего лишь квазиалгебраические элементы без смысла внутри формальной матрицы сочетаний.
Правда в том, что «Курс» де Соссюра привел к некоторому замешательству, поскольку его новизна заключалась не в той части, которая непосредственно посвящена фонологии. Мы должны обратить внимание на другую часть:
К тому же звук, элемент материальный, не может сам по себе принадлежать языку. Для языка он нечто вторичное, лишь используемый языком материал. <…> В еще большей степени это можно сказать об означающем в языке, которое по своей сущности отнюдь не является чем-то звучащим; означающее в языке бестелесно, и его создает не материальная субстанция, а исключительно те различия, которые отграничивают его акустический образ от всех прочих акустических образов. <…> И каждый из них [языковых элементов] характеризуется не свойственным ему положительным качеством, как можно было бы думать, а исключительно тем, что он не смешивается с другими. Фонемы – это прежде всего оппозитивные, относительные и отрицательные сущности[78].
Если взять определение де Соссюра во всей его строгости, то получается, что оно полностью применимо только к фонемам (в этом же и заключалась более поздняя критика де Соссюра Якобсоном): они являются единственным слоем языка, который целиком состоит только из отрицательных величин; их идентичность – это «чистая инаковость»[79]. Это атомы, лишенные смысла, которые, сочетаясь, «создают смысл».
Фонология, дефинированная таким образом, была предназначена для того, чтобы занять доминирующие позиции в структурной лингвистике, став очень скоро ее витриной, главной демонстрацией ее способностей и мощи объяснения. Должно было пройти несколько десятилетий, чтобы она смогла достичь своего полного расцвета в «Основах фонологии» («Grundzüge der Phonologie», 1939) Трубецкого и «Основах языка» («Fundamentals of Language», 1956) Якобсона. Она была вынуждена сделать несколько критических замечаний в адрес соссюровских предположений (например, критика Якобсоном соссюровской догмы о линейной природе означающего), отдать должное своим предшественникам (Бодуэну де Куртенэ, Генри Суиту и другим), но выбранный путь был гарантированным. Все звуки языка могли быть описаны с чисто логической точки зрения, они могли быть помещены в логическую таблицу, основанную на присутствии или отсутствии минимальных различительных черт, полностью управляемую элементарным ключом – бинарным кодом. Таким образом, большинство оппозиций традиционной фонетики наконец смогло быть репродуцировано (звонкий/глухой, носовой/ротовой, компактный/диффузный, низкий/высокий, лабиальный/зубной и так далее), но все эти оппозиции были теперь созданы заново в качестве функций логических оппозиций, концептуальной дедукции эмпирического, а не как эмпирическое описание обнаруженных звуков. В качестве последнего примера можно представить фонологический треугольник[80] как простую дедуктивную матрицу всех фонем и их «элементарных структур родства», модель, заполучившую известность в эпоху расцвета структурализма. Разобрав звуки на простые группы дифференциальных оппозиций, фонология могла также объяснить остаточные компоненты, которые вынужденно приплюсовывались к исключительно фонетическим различительным признакам, – просодию, интонацию и акцент, мелодику, излишние элементы, вариации и так далее. Кости, плоть и кровь голоса были полностью растворены в структурной сети, в контрольном листке присутствующих и отсутствующих.
Вступительный жест фонологии заключался в полной редукции голоса как языковой субстанции. Фонология, верная своей апокрифичной этимологии, хотела убить голос – ее имя, несомненно, происходит от греческого «phone», голос, но в данной связи мы вполне могли бы услышать в ней «phonos», убийство. Фонология вонзает в голос кинжал означающего, который устраняет его живое присутствие, его плоть и кровь. Это приводит нас к предварительному заключению: лингвистики голоса не существует. Есть только фонология, парадигма лингвистики означающего.
Фонема – это способ, которым означающее постигло и очертило голос. Безусловно, ее логика достаточно сложна и, в свою очередь, скрывает в себе подводные камни и капканы, ее никогда нельзя будет полностью обуздать при помощи простой прозрачной матрицы дифференциальных оппозиций, о которой грезил де Соссюр (так же, как Леви-Стросс и многие другие) и в которой заключалась главная мечта первого поколения структуралистов. Однако это логика, чьи механизмы могут быть проанализированы и описаны, логика, с помощью которой мы можем производить смысл, или, немного скромнее, логика, которой мы должны довольствоваться, чтобы производить смысл (либо как минимум отсутствие смысла). Чтобы говорить, мы вынуждены продуцировать звуки языка таким образом, чтобы соответствовать ее дифференциальной матрице; фонема – это голос, взятый через призму матрицы, чье поведение чем-то напоминает Матрицу из одноименного фильма. Означающее нуждается в голосе как средстве, так же как и Матрица нуждается в несчастных подданных и их фантазиях, не владея своей собственной материальностью, она лишь использует голос для создания нашей общей «виртуальной реальности». Проблема заключается в том, что после этой операции всегда остается остаток, который не может трансформироваться в означающее или исчезнуть в смысле; остаток, лишенный смысла, излишек, отходы – что-то вроде экскрементов означающего. Матрица сводит голос к тишине, но не совсем.
Каким образом мы можем рассмотреть эту составляющую голоса? Для начала проанализируем три различные формы, в которых мы чаще всего встречаем голос, со всей очевидностью не поддающийся означающему: произношение, интонация и тембр. У нас может возникнуть некоторая идея о голосе, когда мы слышим человека, говорящего с сильным акцентом[81]. Произношение – ad cantum – это что-то, что приближает голос к пению, сильный акцент вдруг позволяет осознать материальное обеспечение голоса, которое мы тут же стремимся отбросить. Он кажется чем-то отвлекающим или даже препятствующим в плавном течении означающих и в герменевтике понимания. Изучение регионального акцента, однако, не представляется сложным, он может быть описан и кодифицирован. В конце концов это всего лишь норма, отличающаяся от доминирующей нормы, – это на самом деле и есть произношение, и то, что делает его назойливым, заставляет его петь – мы можем его описать тем же способом, что и доминирующую норму. Это всего-навсего акцент, который был объявлен как не-акцент и сопровожден жестом, всегда несущим в себе политические и социальные коннотации. Официальный язык вытесан классовым разделением, в основе его лежит непрекращающаяся «языковая классовая борьба», достаточно только вспомнить «Пигмалиона» Шоу в качестве ярчайшего примера.
Интонация – это еще один способ осознания голоса, поскольку особенный тон голоса, его специфические мелодика и модуляции, ритм и изменения интонации могут повлиять на смысл. Интонация может изменить значение фразы, сделать его противоположным. Легкая нотка иронии, и вся серьезность смысла летит кубарем; нотка скорби, и шутка перестает быть таковой. Лингвистическая компетенция фундаментально включает в себя не только фонологию, но и способность охватить интонацию и ее различное применение. Хотя интонация не такая уж неподвластная, как может показаться, ее можно описать с лингвистической точки зрения и проверить ее на эмпирическом уровне. Якобсон рассказывает следующую историю:
Один актер Московского Художественного театра рассказывал мне, как на прослушивании Станиславский предложил ему сделать из слов «сегодня вечером», меняя их экспрессивную окраску, сорок разных сообщений. Этот артист перечислил около сорока эмоциональных ситуаций, а затем произнес указанные слова в соответствии с каждой из этих ситуаций, причем аудитория должна была узнать, о какой ситуации идет речь, только по звуковому облику этих двух слов. Для нашей работы (под покровительством Фонда Рокфеллера) по описанию и анализу современного русского литературного языка мы попросили актера повторить опыт Станиславского. Он составил список приблизительно пятидесяти ситуаций, соотносящихся с указанным эллиптическим предложением, и прочитал для записи на магнитофонную пленку пятьдесят соответствующих сообщений. Большинство из них было правильно и достаточно полно понято носителями московского говора. Таким образом, ясно, что все эмотивные признаки, безусловно, подлежат лингвистическому анализу[82].
Так, все интонационные нюансы, существенно влияющие на смысл, далеко не представляют собой невыразимую бездну и не составляют никакой проблемы для лингвистического анализа; интонация может быть подвергнута такому же рассмотрению, как и все другие языковые явления. Она требует дополнительной нотации, но речь идет лишь о знаке более сложного и разветвленного кода, расширении фонологического анализа. Она может быть эмпирически тестирована – при помощи Рокфеллера (обожаю эту деталь) – то есть объективно и беспристрастно[83]. Тот факт, что «субъектом» этого опыта был актер, – вовсе не случайность, поскольку театр – это огромная практическая лаборатория, призванная снабжать один и тот же текст интонационными оттенками и тем самым давать ему жизнь, эмпирически проверяя это каждый вечер на зрителе.
Другой способ осознания голоса идет через его индивидуальность. Мы почти безошибочно можем распознать человека по его голосу, специфическому индивидуальному тембру, резонансу, тону, ритму, мелодии, особенной манере произносить некоторые звуки. Голос, как отпечатки пальцев, тут же узнаваем и опознаваем. Это качество отличительного признака голоса не содействует смыслу и не может быть описано лингвистически, так как его характеристики, как правило, лишены значения с языковой точки зрения, они представляют лишь небольшие отклонения и вариации, не нарушающие норму, – напротив, сама норма не может быть применена без некой «личной черты», легкого прегрешения, являющегося маркой индивидуальности. Безличный голос, голос, произведенный механически (автоответчик, компьютерный голос и так далее) заключает в себе нечто тревожаще странное, как голос механического создания Олимпии в «Песочном человеке» Гофмана, этот прототип тревожащей странности, чье пение было только слишком точным[84]. Или вспомним бессмертного Hal 2000, встречающего свою смерть в «Космической одиссее 2001 года» Кубрика, эту архетипическую сцену с машиной, не желающей умирать и регрессирующей в детство чисто механическим образом. Механический голос воспроизводит норму без какого-либо побочного эффекта; и кажется, что таким образом он на самом деле ее подрывает, применяя последнюю слишком непосредственно. Голос без побочных эффектов перестает быть «нормальным» голосом, он лишен индивидуальных человеческих черт, которые голос добавляет к сухому функционированию означающего, создавая опасения, что сама человечность может слиться с механической повторимостью и таким образом потерять точку опоры. Но если эти побочные эффекты не могут быть описаны лингвистически, они, по крайней мере, могут стать объектом физической дескрипции: мы можем измерить их частоту и амплитуду, сделать эхограмму, тогда как на практическом уровне они вполне могут войти в поле распознавания и стать предметом симпатии или неприязни. Парадокс состоит в том, что именно механический голос ставит нас перед лицом голоса как объекта, перед его волнующей и странной природой, тогда как человеческие черты помогают нам держать его на расстоянии. Препятствие, которое он, кажется, представляет, в действительности усиливает смыслопроизводящий эффект, видимое отвлечение способствует лучшему осуществлению поставленной цели.
Но если голос не совпадает ни с одной материальной модальностью своего присутствия в речи, то, возможно, нам стоит приблизиться к нашей цели, понимая его как то, что совпадает с самим процессом высказывания: он олицетворяет собой вещь, которую невозможно найти где-либо еще в сообщении, в произнесенной речи и цепи ее означающих, и которая не может быть идентифицирована с ее материальным обеспечением. В этом смысле голос как агент акта высказывания поддерживает означающие и составляет так называемую нить, держащую их вместе, хотя эта нить невидима из-за скрывающих ее бусинок. Если означающие образуют цепочку, то голос вполне может быть тем, кто их нанизывает. И если процесс высказывания указывает на место субъективного в языке, то голос мог бы также находиться в ближайшей связи с самим понятием субъекта. Но какова текстура этого голоса, этой бесплотной нити, и какова природа субъекта, заключенного в нем? Мы вернемся к этому вопросу позже.
72
Во французском языке есть удобная игра слов «vouloir dire»: голос «хочет сказать», что означает, что «vouloir dire» является присущим голосу. Деррида пространно защитил этот тезис в одной из своих первых и лучших книг «Голос и феномен» (1967), в которой, если выразиться коротко, он анализирует определение Гуссерлем голоса как «желание сказать».
73
См. у Миллера: «…все, что из означающего не содействует реализации значения» – «…tout ce qui, du signifiant, ne concourt pas à l'effet de signification» (Miller J.-A. Jacques Lacan et la voix // Fonagy I. et al. La voix. Actes du colloque d’Ivry. Paris, 1989. P. 180). Для наших актуальных задач оставим в стороне разницу между значением и смыслом, к которой мы вернемся чуть позже.
74
Сам Иоанн отсылает это определение к другому месту в Библии (Ис 40, 3), но анализ последнего говорит о том, что известное выражение «vox clamantis in deserto» возникло как следствие ошибки в пунктуации.
75
Святой Августин, цит. по: Poizat M. Vox populi, vox Dei. Paris, 2001. P. 129–130. Можем ли мы зайти так далеко, чтобы утверждать, что Иоанн играет ту же роль по отношению к Иисусу, что и говорящая машина Кемпелена по отношению к думающей машине? Что Иоанн – это спрятанный теологический голос-карлик Слова?
76
Но если голос предшествует Слову и делает возможным его Смысл, то на следующем этапе основной идеей проявления Слова должно быть его превращение в тело. Материальный элемент, который должен был быть стерт, вновь зрелищно проявляет себя как олицетворение Слова в виде тела идеальности как таковой.
77
«В языке нет ничего, кроме различий. Вообще говоря, различие предполагает наличие положительных членов отношения, между которыми оно устанавливается. Однако в языке имеются только различия без положительных членов системы. <…> в языке нет ни понятий, ни звуков, которые существовали бы независимо от языковой системы, а есть только смысловые различия и звуковые различия, проистекающие из этой системы» (Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики / Пер. А. М. Сухотина // Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. М., 1977. С. 152–153).
78
Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. С. 151.
79
Jakobson R. Essais de linguistique générale. Paris, 1963. P. 111, 116.
80
Ibid. P. 138.
81
Представьте себе, что вечерние телевизионные новости читает человек с сильным региональным акцентом. Это будет звучать абсурдно, государство по определению не должно иметь никакого акцента. Человек, говорящий с акцентом, может появиться в ток-шоу, говоря своим собственным голосом, но не как представитель официального качества. Официальный голос – это голос, лишенный какого-либо акцента.
82
Якобсон Р. Лингвистика и поэтика / Пер. И. А. Мельчука // Структурализм: «за» и «против»: Сборник статей. М., 1975. С. 199–200.
83
«Что такое наука, если не отсутствие предрассудков, подкрепленное наличием денег?» – «For what is science but the absence of prejudice backed by the presence of money?» (James H. The Golden Bowl. Oxford, 1999. P. 13).
84
Полная противоположность голосу машины Кемпелена, являющейся тревожаще странной, будучи «человечной, слишком человечной» в своей недостаточной точности.