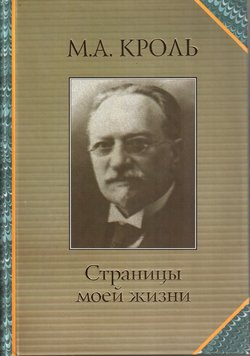Читать книгу Страницы моей жизни - Моисей Кроль - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава 1
Мои первые шаги
ОглавлениеСколько я ни думаю, под чьим воздействием и под влиянием каких обстоятельств я стал принимать участие в русском революционном движении, я не могу этого установить.
Я не помню, чтобы кто-нибудь меня «пропагандировал» или «развивал». В мои отроческие, а позже и в юные годы никто не убеждал меня, что надо освободить Россию от самодержавного гнета и что это возможно сделать только революционным путем.
С десятилетнего своего возраста я имел очень близкого друга – ровесника, Льва Штернберга. Любя друг друга детской, немного экзальтированной любовью, мы проводили вместе очень много времени, мы делились нашими маленькими радостями и печалями. Мы также много читали вместе, и так из года в год мы росли умственно и морально и совершенно незаметно стали революционерами. Это был очень глубокий и интимный процесс, который совершался в нас долго и бессознательно, но который в определенный момент выявился перед нами как большая радость, как своего рода откровение. Лично я пережил этот момент весьма глубоко. Очень уж велико было расстояние между религиозным воспитанием, которое я до двенадцатилетнего возраста получал в хедере, и той новой верой, к которой я приобщился со всем жаром моей прозревшей юношеской души.
Покуда я учился в хедере, весь известный мне мир замыкался в тесных рамках моей семьи. Знал я также десяток бедных евреев, живших на нашей улице. О том, что происходило на белом свете, я не имел ни малейшего представления. Изучая Библию и Талмуд, я, в сущности, жил всеми своими помыслами в давно ушедшем прошлом.
Как звуки из другого, неведомого мне мира, ворвался в мою жизнь спор между двумя моими родственниками, приехавшими к нам на несколько дней в гости. Это был яростный спор по поводу франко-прусской войны. Мои родственники неистово ругали друг друга, и я сильно боялся, что дело закончится дракой. Мне было тогда восемь лет, и из этой немало меня пугавшей ссоры я понял только одно: что где-то существуют два государства, Франция и Германия, и что эти государства ведут между собою очень жестокую войну, вроде той, которую евреи вели в Палестине с амоликитянами.
С таким достопримечательным багажом я прожил до двенадцати лет, когда мой отец решил определить меня в гимназию. Имея в виду, что подготовка займет минимум полтора-два года, отец решил, что я по своему возрасту должен поступить прямо в четвертый класс.
Легко себе представить, какая напряженная работа выпала на мою долю. Пришлось начать чуть ли не с азов – учиться правильно говорить и писать по-русски. А затем надо было взяться за арифметику, географию, историю, изучать языки – немецкий, латинский, греческий. Чтение книг у меня также отнимало много времени – словом, работы было по горло. Но меня это не смущало; более того: мои занятия мне доставляли огромное удовлетворение. Передо мною открывался чудесный мир знания, и каждый день я приобретал что-нибудь новое. Все это мне придавало энергии, и я с большим усердием продолжал свои занятия.
Моя цель была достигнута: через два года я поступил в четвертый класс житомирской классической гимназии.
Переход от хедера к гимназии был слишком резкий и повлек за собою немало неприятных для меня последствий.
Поступи я своевременно в первый класс гимназии, я легко освоился бы с привычками, нравами и психологией моих товарищей, но став сразу гимназистом четвертого класса, я оказался среди своих довольно взрослых товарищей – некоторым из них уже было 15 и даже 16 лет – совершенно чуждым элементом. Я пришел к ним из иного мира, и они это сразу почувствовали. И при всем моем добром желании установить с ними дружеские, товарищеские отношения я внутренне чувствовал себя среди них чужим. Может быть, я был недостаточно гибок, мало уступчив, слишком требователен, но должен с грустью констатировать, что среди 30–35 товарищей моего класса я до окончания гимназии не приобрел ни одного близкого, интимного друга.
Мое настороженное отношение к моим товарищам по классу может быть объяснено и тем, что большинство из них были поляки, которые не скрывали своего презрительно-брезгливого отношения к евреям. Задевали они не раз и меня лично, и я отвечал им холодной сдержанностью. Не знаю, на почве ли специфического антисемитизма, или в силу полной непримиримости моей к их психологии, но у меня по началу бывали с моими товарищами по классу очень серьезные трения, от которых я глубоко страдал.
Припоминаю такой эпизод. Это случилось через два или три дня после начала занятий. Шел урок словесности, и меня поразила тишина, царившая в классе. Чувствовалось, что ученики не только боятся учителя русского языка и словесности, но его уважают. Впоследствии я убедился, что его нельзя было не уважать. Это был хотя и строгий, но прекрасный педагог. Преподавал он превосходно и обнаруживал не только замечательное знание русской литературы, но и страстную любовь к ней. Его подходы к темам для сочинений, его комментарии к произведениям наших великих классиков прямо захватывали нас. Но вместе с тем Шавров – так звали учителя – умел одним взглядом обуздывать самых недисциплинированных учеников. И вот этот учитель свой первый урок в нашем классе закончил небольшим обращением к нам приблизительно такого содержания: «Программа занятий в четвертом классе гораздо серьезнее, чем в третьем классе. Вы вышли уже из отроческого возраста, и от вас требуется сознательное отношение к тем предметам, которые вы будете проходить. Надеюсь, что вы отнесетесь с надлежащей серьезностью к вашим занятиям и, в частности, к предмету, который я преподаю. Желаю вам успехов». С этими словами он покинул класс.
На меня эта маленькая речь учителя словесности произвела очень сильное впечатление; как реагировали на нее другие ученики, я не мог отдать себе отчета.
Это был последний урок. Поднялся обычный шум; спешно укладывались книги в ранцы, и класс быстро пустел.
Направился к выходу и я, но вдруг внимание мое было привлечено перебранкой между двумя учениками. Они ругали друг друга нехорошими словами, и не успел я опомниться от этой поразившей меня ругани, как брань перешла в драку. Дрались неистово, вцепившись друг другу в волосы, затем оба упали и, катаясь по полу, били друг друга куда попало.
Эта сцена была так безобразна, что я смотрел на нее с нескрываемым ужасом. И тут мне пришла в голову несчастная мысль усовещивать их.
«Несколько минут тому назад, сказал я им, вам говорили, что вы уже взрослые и должны вести себя, как сознательные юноши, а вы затеяли такую ужасную драку, перестаньте, успокойтесь».
Эффект мои слова произвели на дравшихся необычайный. Они сразу вскочили на ноги и принялись оба меня бить нещадно. Я с трудом вырвался из их рук и покинул гимназию, нравственно совершенно потрясенный.
Это было мое первое «товарищеское» крещение, но далеко не последнее. В первый год моего пребывания в гимназии я пережил несколько таких «конфликтов», которые оставили в моей юной душе глубокий след.
С течением времени у меня с товарищами установились нормальные, доброжелательные отношения, но не больше.
Единственным близким моим другом остался Лев Штернберг, который оказался классом ниже меня. Он делился со мною своими гимназическими впечатлениями, когда я еще учился в хедере. Позже, когда я стал готовиться в гимназию, он меня снабжал книгами; очень часто мы их читали вместе, и так между нами возникла та нежная дружба, которая нас соединяла неразрывными узами всю нашу жизнь.
Когда я поступил в гимназию, у меня развилась страсть к чтению книг; я чувствовал большие пробелы в своем образовании: надо было наверстать то, что было упущено в годы, когда я учился в хедере.
Я читал и перечитывал русских классиков, штудировал исторические сочинения, книги по естествознанию, увлекался великими русскими поэтами.
Как можно больше знать, как можно лучше понимать то, что происходит на свете, – вот те чувства, которые побуждали меня с жадностью набрасываться на каждую интересную книгу. Помню, какое сильное впечатление на меня произвела книга Бокля «История цивилизации в Англии». Читал я ее во время каникул, когда я перешел из четвертого класса в пятый. Посоветовал мне ее прочесть один великовозрастный ученик последнего класса раввинского училища. И я Бокля не читал, а штудировал, как трудную страницу Талмуда. И должен сказать, что эта книга доставила мне истинное наслаждение. Яркое изображение процесса общественно-политического развития Англии, удивительный анализ причин, вызвавших Великую французскую революцию, – все это было для меня настоящим откровением. Впервые я узнал, как надо подходить к оценке великих исторических событий, и впервые я понял, какую важную роль в человеческой истории играют и идеи, и отдельные выдающиеся личности.
Случилось так, что вскоре после прочтения столь всколыхнувшей меня и расширившей мой умственный горизонт книги Бокля в мои руки попали «Исторические письма» Миртова. Должен признаться, что после ясного, блестящего языка Бокля мне было трудно читать Миртова с его длинными периодами, с его тяжелым, туманным языком; все же внутреннее содержание его книги меня сильно заинтересовало и даже захватило. В то время как утверждение Бокля, что человеческая мораль почти не прогрессирует, вызывало во мне горячий протест, теория Миртова о роли критически мыслящей личности в истории меня совершенно покорила. Она с большой убедительностью формулировала то, что жило в неоформленном виде в глубине моей души и для чего я сам не мог найти надлежащего выражения.
Для меня стало ясно, что каждый человек обязан бороться за свое человеческое достоинство, но это только часть поставленной перед нами историей задачи, так как чем выше данная личность стоит морально и умственно, тем упорнее и энергичнее она обязана бороться за благо всех окружающих, за благо своего народа и, наконец, всего человечества, каких бы жертв эта борьба от нее ни потребовала.
Вот эта мысль, не знаю почему, нашла в моей душе особенно глубокий отклик. Было ли это плодом юношеской экзальтации, или результатом рано во мне развившегося обостренного романтизма, но мысль о красоте подвига самопожертвования мною владела с детских лет. Я помню, что одним из любимейших моих библейских героев был могучий Самсон, и не за то, что он разорвал льва пополам и перебил ослиной челюстью несчетное количество филистимлян, а потому, что, желая спасти евреев от их врагов, он вошел уже слепой в филистимлянский храм и, разрушив его, похоронил под его обломками и врагов еврейского народа, и себя самого.
И не раз, будучи еще полуребенком, я задумывался над тем, как помочь еврейскому народу снова стать великим и сильным. Мне хотелось совершить для евреев что-то необыкновенное, даже если бы мне за это пришлось поплатиться своей жизнью.
Это были, конечно, детские грезы, но что-то от этих переживаний во мне осталось. Миртов, по-видимому, задел эти скрытые струны моей души.
Так, без всякой системы и без всякого плана, я впитывал в себя самые разнообразные знания. Я шел к Истине, которую жадно искал, кривыми, окольными путями. Никто мне настоящего пути не указывал.
Западноевропейские идеи меня атаковывали со всех сторон и ломали, и уничтожали все то, что было мне так усердно привито и внушено с детских лет. Все мои прежние представления о жизни, привычки, суеверия были разбиты вдребезги, и вместо них во мне родились и выросли совершенно новые взгляды на жизнь, новые чувства. С большой болью я вырывал из своего сердца многое из того, что мне было так дорого в детстве, и с необыкновенным энтузиазмом я проникался идеями, которые создал человеческий гений в течение тысячелетий всюду, где только существовала человеческая духовная культура.
В свете этих новых для меня идей я стал совершенно иначе расценивать и ту своеобразную культуру, которую создал еврейский народ. Она в моих глазах не только ничего не потеряла, но даже много выиграла. Известный библейский завет: «Возлюби ближнего, как самого себя», приобрел в моих глазах новый, необыкновенней смысл. Я его воспринимал как высшее веление совести.
Если Бокль и Миртов открыли передо мною широкие политические и социальные горизонты, если они помогли мне заложить фундамент, на котором я позже построил все свое миросозерцание, – все же они меня только ознакомили с абстрактными идеями. Между тем самой трудной для меня задачей было выработать в себе такую психологию, которая соответствовала бы моим новым взглядам на жизнь, моей новой, хотя и весьма незрелой, но все же вере.
Это означало не только желать для людей достойного человеческого существования и счастья, но стремиться всеми силами эти прекрасные вещи осуществить на нашей далеко не счастливой земле.
И тут, в этой трудной, часто мучительной внутренней работе мне помогли Гейне и Бёрне. Могу сказать без преувеличения, что их влияние на меня было очень велико. Оба они научили меня, как надо ценить и любить свободу и, что еще важнее, как надо бороться против всех видов деспотизма. Посвятить всю жизнь благородной и жертвенной борьбе за народную свободу; неустанно разоблачать гнусную сущность всякого деспотического режима; превратить перо поэта и публициста в отравленное копье, бьющее без промаха; всеми способами стараться пробуждать в угнетенных и порабощенных массах надежду на лучшее будущее; внушать им уверенность, что час их освобождения близок и что в их борьбе с угнетателями победят они и только они. Вот этот характер деятельности двух замечательных немецких евреев на долгое время стал моей путеводной звездой.
Я почувствовал, что на мне лежит святой долг принять участие в общей борьбе за «социальную справедливость». Я стал, как это теперь квалифицируется, «утопическим» социалистом: мечтал о всеобщем равенстве, об общечеловеческим братстве, но как осуществить эту прекрасную мечту, я не имел определенного представления. «Позитивным» социалистом я стал, когда я год спустя (мне было тогда 16 лет) проштудировал некоторые сочинения Лассаля и с большим трудом одолел первый том «Капитала» Маркса.
Но эти «достижения» были для моей дальнейшей судьбы не столь важны, как тот факт, что к тому времени я себя почувствовал внутренне готовым принять участие в революционной работе и нести все возможные тяжелые последствия такой работы.
Но за что взяться? К кому пристать? Эти вопросы меня неотступно преследовали. В таком же положении был и мой друг Штернберг.
Мы оба искали ответа на мучившие нас вопросы. Мы образовали кружки самообразования, в которые вошли несколько гимназистов и гимназисток. Но работа в этих кружках не удовлетворяла ни меня, ни Штернберга; мы жаждали иной, более серьезной деятельности. Мы уже знали, что где-то ведется настоящая революционная борьба с царским режимом, что многие революционеры уже томятся на каторге и в ссылке; нам было также известно, что революционеры «идут в народ», но где найти таких людей, как завязать с ними сношения – мы не знали.
Житомир был заброшенным, захолустным городом. Все же микроб революции проник и в это полусонное захолустье. Заразил он также нескольких гимназистов. Чуйко, Пашинский, Немоловский очень недурно учились. Они были уже учениками старших классов. Но вдруг они покинули гимназию и скрылись из города. «Что с ними стало?» – спрашивали друг друга их товарищи и знакомые. И велико было их удивление, когда они узнали, что один из них поступил на работу к кузнецу, а другой к сапожнику. Затем эти бывшие гимназисты совсем исчезли с житомирского горизонта. О них уже стали забывать, когда в городе распространился слух, что они арестованы за революционную пропаганду среди крестьян и сосланы на несколько лет в Вологодскую губернию.
Как раз в период подпольной деятельности этих гимназистов в мои руки стали попадать революционные книжки: «Хитрая механика», «Сказка о четырех братьях» и другие.
В то же время кто-то стал распространять среди гимназистов революционные листки, прокламации. Это, по-видимому, была работа трех упомянутых революционеров.
Я читал эти подпольные издания с огромным интересом и в свою очередь старался их распространять среди моих надежных товарищей и знакомых.
Новых идей я в запрещенных книжках и прокламациях не нашел, но они знакомили меня с истинным положением русских крестьян и фабрично-заводских рабочих, о чем я до этого очень мало знал.
Шел, как я помню, 1878 год. Как известно, революционная идеология тогда находилась на распутье. Бакунинский анархизм уже значительно потерял свою власть над умами революционной молодежи, хотя отдельные весьма видные революционеры оставались ему верны. Бунтарство Ткачева почти никого больше не интересовало. Лавризм, как мирная форма пропаганды социалистических идей среди городских рабочих, себя изжил. Чувствовалась потребность в более энергичных методах революционной борьбы. Партия «Земля и воля» переживала идейный кризис. Революционная мысль искала новых путей.
Я лично, проштудировав Маркса, все же по настроению остался «народником» той формации, которая через год с энтузиазмом приняла программу партии «Народная воля».
Мои первые шаги как революционера были чрезвычайно скромные. Я получал революционную литературу и распространял ее среди тесного круга знакомых: гимназистов, гимназисток и двух-трех интеллигентов.
Ближайшим крупным революционным центром был город Киев, и естественно, что я и Штернберг (все время мы вели работу вместе) завязали связи с киевскими революционерами, которые нам посылали нелегальную литературу и иногда давали кой-какие поручения. Мы же от времени до времени посылали им небольшие суммы денег.
Ни в какой организационной зависимости от киевского центра мы не находились. Мы оказали им содействие лишь постольку, поскольку их поручения соответствовали нашим убеждениям.
Изредка я наезжал в Киев, чтобы запастись свежей нелегальной литературой и осведомиться о том, что делается в революционных кругах других больших городов, с которыми киевляне поддерживали сношения.
Моими непосредственными информаторами были братья Бычковы, Владимир и Александр, горячие, преданные революционеры, но с некоторым киевским привкусом, т. е. немного авантюристически и бунтарски настроенные. Должен признаться, что этот привкус был мне не очень по душе, но нашим добрым отношениям это не мешало.
Один раз между нами, житомирцами, и киевлянами мог разыграться очень серьезный конфликт, но, к великому нашему удовольствию, поднятый нами «бунт» кончился вполне благополучно.
А случилась вот какая история.
Однажды ко мне на дом является юноша весьма таинственного вида и говорит мне, что имеет ко мне поручение. Я его ввожу в отдельную комнату и спрашиваю, в чем дело. В ответ он произносит условленный с киевлянами пароль и заявляет, что «их» приехало в Житомир несколько человек и что «они» нуждаются в нашей помощи.
– В чем дело? – спрашиваю я.
– Придите к нам по такому-то адресу, и вы все узнаете.
Сказав это, юноша простился со мною и ушел.
Таинственность, которой обставил этот юноша свой визит, убедила меня, что киевляне приехали к нам по весьма серьезному делу, и я немедленно отправился к Штернбергу, чтобы сообщить ему о визите и обсудить с ним вместе наши дальнейшие шаги.
Было решено, что я пойду к «ним», чтобы узнать, в чем дело и какая именно от нас требуется помощь.
Без труда я нашел дом, куда меня звал юноша, равно и комнату, в которой он поселился. Постучав из предосторожности в дверь и услышав оклик: «войдите», я отворил дверь и… остановился как вкопанный.
В довольно пространной комнате, окна которой выходили на улицу, я увидел пятерых молодцов в косоворотках и высоких сапогах. На столе и стульях валялись револьверы, кинжалы и много патронов. «Что все это значит» – спросил я себя мысленно.
Как бы отгадав мою мысль, один из молодых людей сказал мне:
– Не удивляйтесь! Мы сюда приехали с особым поручением.
– С каким? – спросил я, чувствуя что-то неладное.
– Видите ли, наша киевская организация задумала одно очень серьезное дело, но чтобы его успешно выполнить, нам нужна крупная сумма денег. Узнали мы, что завтра из Киева в Житомир прибудет почта с большими деньгами, и мы прибыли сюда, чтобы ограбить почту.
– Ограбить почту! – воскликнул я в ужасе.
– Ну да, нам деньги нужны до зарезу.
Все это говорилось в спокойном, деловитом тоне, точно речь шла о самой обыкновенной коммерческой сделке.
Я был вне себя от негодования, и мне стоило огромных усилий, чтобы им не устроить скандала.
С трудом овладев собою, я спросил их:
– Чего же вы хотите от нас?
– Вы должны нам дать товарища, – сказал тот же молодой человек, – чтобы закупить для нас все, что нам нужно. Мы не хотим показываться на улице. Кроме того, нам необходим человек, хорошо знающий окрестности Житомира вдоль киевского тракта.
Я мог бы им сейчас же заявить, что ни на какую нашу помощь им рассчитывать нечего и что такие дела мы считаем простым разбоем, но решил, что лучше такой ответ дать им от имени нашей группы.
Поэтому я им очень сухо заявил, что передам их предложение нашему кружку, который не замедлит им дать свой ответ.
В глубоком волнении я покинул эту компанию. Мне казалось, что за это короткое время, что я провел среди них, я потерял что-то очень дорогое.
«Как, думал я, мы боремся за счастье всех людей, мы считаем, что человеческая жизнь – это величайшая ценность, которую все обязаны оберегать, а они готовы из-за денег убить ни в чем неповинных почтальона и ямщика…»
С такими тяжелыми мыслями я отправился к Штернбергу и рассказал ему все, что я слышал от киевлян. Закончив рассказ, я заявил Льву, что мы к такому грязному делу никакого отношения не должны иметь.
Лев меня слушал бледный, как полотно, я видел, как глубоко взволновал его мой рассказ, – глаза его горели гневом.
На мой вопрос, следует ли созвать нашу группу, чтобы дать ответ киевлянам, он сказал глухим голосом, что нет надобности опрашивать всех, так как совершенно ясно, что члены нашей группы отнесутся к предложению киевлян так же, как и мы.
– Нечего тянуть это дело! – воскликнул он. – Я иду к ним и дам им надлежащий ответ.
С этими словами он выбежал из комнаты.
Я ждал его прихода с беспокойством.
Через полчаса он вернулся бледный, но успокоенный.
– Ну, как? – спросил я его.
– Ну, я сказал им все прямо в лицо. Никакой помощи мы вам в этом гнусном деле оказывать не намерены. Не дело социалистов заниматься грабежом и убийством невинных людей.
К счастью, эта экспроприация не состоялась. Киевские революционеры ошиблись числом и прозевали почту, которую они подстерегали.
Ждали мы больших неприятностей из Киева за наш «бунт», но, к великому нашему удовольствию, киевский центр благоразумно замолчал всю эту историю, как будто ничего не случилось.
Я уже упомянул выше, что наша революционная деятельность носила весьма и весьма скромный характер. Бросить гимназию нам не хотелось, а будучи гимназистами, при драконовских порядках, царивших в житомирской гимназии, мы были крайне стеснены в нашей работе.
Кроме того, в нашем кружке было очень немного активных революционеров. Из 12–15 человек, входивших в состав нашей группы, большинство постепенно выбывали из строя. Фербер увлекся литературой и отстал от нас. Отошел также Розенцвейг, впоследствии очень даровитый журналист. Потерял, еще будучи гимназистом, вкус к революционной работе Флексер, впоследствии писавший под псевдонимом Волынский и прославившийся своей пристрастной и озлобленной критикой Добролюбова, Писарева и Чернышевского.
Продолжали свою революционную деятельность еще многие годы Эсфирь Билинкер, Клара Бромберг, Штернберг и я.
Как гимназисты, я и Штернберг делали то, что мы могли. Но, не имея ни опыта, ни надлежащего руководства, мы с нашими слабыми силами в таком сонном городе, как Житомир, конечно, ничего серьезного свершить не были в состоянии.
Огромное впечатление на меня произвела программа возникшей в 1879 партии «Народная воля». Эта программа попала в мои руки в начале 1880 года, и я ее много штудировал и много над ней думал. Кроме пункта о систематическом терроре, который мне был очень не по душе, я ее принял всю с энтузиазмом. Вот это партия, думал я, которой я готов отдать все свои силы Как только я кончу гимназию и буду принят в университет, я вступлю в ее ряды.
И я мечтал, как о счастье, о том дне, когда я стану членом этой удивительной, героической партии. И эта моя мечта меньше чем через год осуществилась.