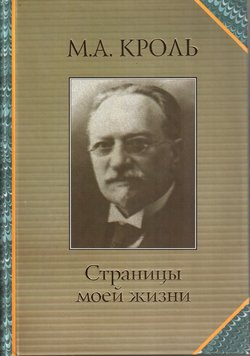Читать книгу Страницы моей жизни - Моисей Кроль - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава 6
Мои тюрьмы
ОглавлениеМесяцы шли за месяцами, а я все еще оставался в полной неизвестности относительно своей участи. Между тем состояние моего горла все ухудшалось. Я совершенно потерял голос и не мог даже говорить шепотом. Когда мне нужно было что-нибудь сказать жандарму, единственному существу, имевшему доступ в мою камеру, я вынужден был выражать свои желания письменно.
Временами у меня показывалась кровь из горла.
Узнав из моих писем, что я нездоров, моя мать приехала в Одессу в надежде добиться моего освобождения из тюрьмы под залог. Но жандармы и слышать не хотели о моем освобождении.
– Мы примем все меры, – говорили они моей матери, – чтобы вылечить вашего сына, но освободить его мы не можем.
И, действительно, вскоре я был вызван в тюремную контору для освидетельствования. Пять врачей меня расспрашивали, на что я жалуюсь, где и что у меня болит. Я им на их вопросы дал письменные ответы. Ни один из врачей не посмотрел, что с моим горлом делается.
Меня увели в камеру, а через пару дней помощник начальника тюрьмы пришел ко мне в камеру и сообщил мне, что комиссия нашла у меня горловую чахотку. Было ли это сделано злостно, или он не отдавал себе просто отчета в том, какую страшную весть он мне принес, но из-за него я пережил несколько чрезвычайно тяжелых недель.
Как безысходно ни было мое положение вообще, умереть мне не хотелось. А я хорошо знал, что горловая чахотка в тюремных условиях – это смерть. И мысль о близкой и неминуемой моей смерти меня мучила чрезвычайно.
Умереть на посту в пылу борьбы – к этому я давно внутренне был готов. Но угасать в тюремной камере – с этим я не мог примириться. Я должен был напрячь все свои душевные силы, призвать на помощь все свое мужество, чтобы не впасть в отчаяние.
В таком тяжелом настроении я находился месяца два, пока жандармы, по настоянию матери, не разрешили известному тогда в Одессе ларингологу Богрову посетить меня и исследовать.
Богров был поражен поставленным комиссией диагнозом. Никакой горловой чахотки он у меня не нашел. Он констатировал только тяжелую форму ларингита и порез голосовых связок.
– Надо полечить ваши связки электричеством, – сказал Богров. – Это сможет делать и тюремный фельдшер. Но предупреждаю вас, что покуда вы не выйдете из тюрьмы, ваш голос вполне не восстановится.
Слушая доктора, я не верил своим ушам – так я свыкся с мыслью о безнадежности моего положения, а когда я вернулся в камеру, меня охватила такая бурная радость, что я долгое время был сам не свой.
Одна мысль мною владела: я жив, я еще буду жить! Какая жизнь меня ждет, меня в этот момент не интересовало. Доктор мне вернул надежду, и этого было достаточно, чтобы я себя почувствовал новым человеком. Камера моя мне вдруг показалась светлой, веселой, приветливой, в сердце мое снизошло давно покинувшее меня спокойствие, и я почувствовал, что после пережитого мною душевного потрясения состояние моего здоровья должно быстро измениться к лучшему.
С этого дня я стал лучше спать, электризация давала медленные, но несомненно благоприятные результаты. Постепенно ко мне возвращалась моя обычная работоспособность.
Шел уже пятнадцатый месяц моего одиночного заключения, а я, равно как и все мои товарищи по делу, все еще оставался в полном неведении относительно ожидавшей нас участи.
Однажды ко мне в камеру явился в необычное время старший жандарм. Это был злой и хитрый человек, профессионал, который с удовольствием нам сообщал всякие неприятные вещи.
– Пожалуйте, – сказал он с какой-то особенной интонацией, – вас переводят в лучшую камеру; соберите ваши вещи.
Это предложение мне показалось очень подозрительным, и я на него посмотрел с явным недоверием. Сказать я ему ничего не мог, так как я был совершенно без голоса. Поймав мой взгляд, жандарм поспешил меня заверить, что он говорит правду.
– Мне приказано вас перевести в большую камеру, в уголовном корпусе.
«Говорит ли он правду, или это какой-нибудь фокус?» – мысленно спросил я себя.
Собрал я свои книги, тетради, завязал в небольшой узелок свои вещи и последовал за жандармом. Вскоре я очутился в изолированной части огромного уголовного корпуса.
Миновав длиннейший коридор, жандарм меня подвел к большой двери, обитой железом, отпер ее, ввел меня в какой-то маленький коридорчик, куда выходили две двери, тоже обитые железом, одну из них отпер с большим шумом и звоном и ввел меня в камеру, поразившую меня своими размерами.
– Вы видите, – сказал жандарм, – какую хорошую камеру вы будете иметь. Здесь много воздуха и немало света. Если вам что-либо понадобится, постучите сильнее в дверь. В большом коридоре постоянно дежурит надзиратель, и он на ваш стук немедленно явится.
С этими словами жандарм удалился, заперев дверь моей камеры снаружи.
Я остался один. Кругом царила полная тишина. Огромные размеры камеры производили жуткое впечатление, – она имела 12 шагов в длину, 10 в ширину и около 7 аршин в вышину. Уголовных арестантов в ней помещалось, наверное, не меньше тридцати человек.
Считая жандармов способными на всякие пакости, я себе прежде всего задал вопрос: «С какой целью меня изъяли из политического корпуса и перевели сюда? Почему это вдруг вспомнили, что мне будет лучше в обширной камере уголовного корпуса? Нет ли тут какой-нибудь ловушки?»
Так размышляя, я вдруг услышал звуки приближающихся шагов. Кто-то снова отпер дверь, ведущую в большой коридор, вошел в маленький коридор, и через минуту кого-то ввели в камеру, смежную с моей.
Захлопнулась дверь, щелкнул замок, затем другой, и гулко раздались шаги человека, приведшего кого-то в соседнюю камеру. Когда эти шаги затихли, я стал прислушиваться.
Сосед мой быстрыми и нервными шагами мерил свою камеру. Порой он останавливался и затихал на несколько секунд, а затем он снова продолжал свой бег.
«Кто бы это мог быть? – подумал я. – Неужели посадили рядом со мною сыщика?»
Но нет, это были шаги узника, давно уже замурованного в стенах тюрьмы. Так мне чудилось; так мне подсказывал взволнованный ритм шагов этого человека, по-видимому привыкшего долгие часы предаваться тюремным думам на ходу.
Когда стены тюрьмы тебя давят, как крышка гроба, когда в душе накипает жгучая ненависть к тюремщикам, то пытаешься это клокочущее чувство смирить движением, долгими прогулками на пространстве нескольких шагов – туда и обратно, от одной стены к другой, туда и обратно, и так целыми часами.
Вот этот печальный тюремный опыт говорил мне, что мой сосед не шпион, а исстрадавшийся по воле узник.
– Попробую спросить его, кто он, – подумал я. – Чем я рискую? В худшем случае карцером.
Я припал к стене и концом чайной ложки выстучал: «Кто вы?»
Мой сосед остановился на секунду, но тотчас же возобновил свой бег. Я повторил свой вопрос. Тогда он кинулся к стене и нервно выстукал:
– Что вам нужно?
– Я хочу знать ваше имя, товарищ, – ответил я. Долгое молчание. Я жду ответа с бьющимся сердцем. Ответа нет.
– Боится ловушки, – подумал я. И вдруг слышу, сосед выстукивает:
– Я – Штернберг.
Трудно передать, что я пережил в этот момент. На меня нахлынул поток невыразимой радости. То, о чем я мечтал полтора года, сбылось. Я получил возможность говорить, хотя бы через стенку, со Львом!
– Но правда ли это? – вдруг ударила меня мысль. – Может быть, это провокация.
– Ваше имя? – стучу я.
– Лев.
– Когда арестованы?
– 27 апреля 1886 года.
Я отлично сознаю, что такие ответы мог дать за Штернберга сыщик, и все же мои сомнения сразу рассеялись.
– Это он, – сказал я себе и, припав снова к стене, выстучал:
– А я – Моисей!
– Не может быть!
– Да, это правда, дорогой Лев, – это не обман. Мы опять вместе, а чтобы тебя окончательно успокоить, я расскажу тебе эпизод из нашего далекого детства, эпизод, о котором никто, кроме нас, ничего не знает.
И я ему напомнил свою шалость, которая его в свое время сильно позабавила.
Как только я кончил свой рассказ, я через стену почувствовал, что Лев успокоился. Рядом с ним не враг, а друг, друг юности.
«Жив Бог Израиля!» – воскликнул бы он в прежнее время при таком случае. Мы перестукивались весь вечер и почти всю ночь. То же повторилось и в следующий день. Никто не нарушал нашего покоя. Вначале мы из предосторожности говорили о невинных вещах: о здоровье родных, книгах и т. д. Когда же мы убедились, что нас не подслушивают, то стали сообщать друг другу то, что нам было известно по делу. Я был арестован на год позже Льва, а потому мог ему сообщить много интересных и печальных вещей о «воле». Он со своей стороны долго мне рассказывал о двух с половиной годах, проведенных им в одиночном заключении. И то, что он мне сообщил, меня взволновало чрезвычайно.
Ему пришлось пережить много тяжелых и мучительных моментов. Первые же допросы жандармов его убедили, что среди нас, в центре, был если не провокатор, то предатель. И перед ним встал страшный вопрос: «Кто?»
– Понимаешь, – говорил он мне, – как невыразимо тяжело подозревать товарищей в такой подлости, как предательство? Кто? Этот вопрос лишил меня покоя. Судя по намекам жандармов, предатель был посвящен во все наши планы, знал буквально все, что мы делали и что собирались делать. Кто же был этот негодяй? Я лишился сна. Затем еще удар. Мой адрес был найден у кого-то из товарищей. Преступная неосторожность. Ты помнишь, мы давали друг другу слово ни в коем случае не записывать ни фамилий, ни адресов, ни паролей; мы обязались их заучивать наизусть, и это обязательство было нарушено! Разве это не возмутительно?