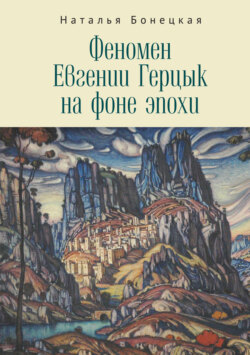Читать книгу Феномен Евгении Герцык на фоне эпохи - Н. К. Бонецкая - Страница 4
Глава 1
Истоки
Крым: обретение духовной родины
ОглавлениеПримерно к началу 1890-х гг. Евгения Герцык уже знала с полной достоверностью: Бога нет[27]. Это был действительно «апофеоз», апогей беспочвенности существования – порвалась последняя ниточка, прикрепляющая душу к бытию. Подобный акт воли, отречение, является началом процесса распада, духовного гниения, атрофии всех способностей, – неотвратимого процесса, захватывающего все существо человека. Сестрам Герцык было дано пройти через духовное умирание, сполна вкусить от плодов нигилизма. «Задыхаюсь. Не метафорически, а вправду. <…> Ночь за ночью провожу сидя. Ни вдохнуть, ни выдохнуть. Холодный пот на лбу, глаза таращатся…»: такие состояния переживала Евгения – абсолютно здоровая четырнадцатилетняя девочка. «Почему ты мертвая? Почему ничем не увлечешься?» – раздраженно приступала к сестре Аделаида. Ее тревожило, что Женя напрочь утратила волю к жизни, – молчит, не ест и не пьет, все больше опускается физически… Ситуация самой Аделаиды, однако, в 1890-е гг. была еще более тяжелой, глубоко патологической. Мучили бессонница и нервность, нарастала глухота; от натиска зла извне и изнутри – фальши, жестокости, уродства, с такой остротой воспринимаемых душой, деваться было некуда. Духовная гибель сделалась реальностью: «Всюду – я, я сама и вместе со мной моя до дна и навсегда мертвая душа», – с отчаянием писала Адя в дневнике. Ей было попущено пережить парализующий, подлинно адский опыт духовного небытия: «Вообще ничего нет и ничего не может быть, потому что ничего не бывает»…[28] Читая мемуарные свидетельства Е. Герцык о том времени и приводимые ею дневниковые записи Аделаиды, с несомненностью осознаешь: в их жизнь вошла злая, лживая и гибельная сила, вошла вратами отречения, лишившего их покрова и заступничества со стороны светлых духовных существ.
На протяжении всего жизненного пути сестрам придется вновь и вновь приобщаться к подобному, страшному опыту: признаки этого мы встречаем в художественных текстах Аделаиды; подобный опыт фиксировала по горячим следам и Евгения в своих записных книжках[29]. Таковы последствия изначальной беспочвенности, бесследно она не проходит; о демонических вторжениях в их жизнь писали и другие «беспочвенники» Серебряного века – П. Флоренский (в «Столпе и утверждении Истины»), Н. Бердяев (в «Самопознании»), Андрей Белый в ряде мемуарных текстов… Однако если поначалу неопытная душа, как парализованная, обмирает перед лицом зла, то впоследствии приходит осознание необходимости борьбы – той «духовной брани», знатоками которой были древние христианские подвижники. Без внутренней опоры жить человеку невозможно; духовные биографии Евгении и Аделаиды Герцык развивались в сторону преодоления «беспочвенности», обретения религиозной веры.
Первый спасительный импульс пришел извне, как протянутая утопающему дружеская рука: она извлекла сестер из александровского болота (именно так было дано воспринимать в общем-то хороший провинциальный городок этим душам) и перенесла в южный цветущий край, богатый древней памятью, экзотическими в глазах жителей Севера традициями, – на таинственную землю Крыма, где сама природная атмосфера обновляет, очищает дух человека. Семья Лубны-Герцыков не была чужой в этих местах: дед Ади и Жени был участником обороны Севастополя в Крымскую кампанию середины 1850-х гг., для переезда туда семьи почва отчасти была подготовленной. Решающим оказался романтизм главы семейства: Казимир Антонович страстно любил море, и случайные обстоятельства службы позволили ему осуществить свою давнюю мечту. Впрочем, Герцыки еще вернутся в Александров, когда отцу поручат возглавить строительство железнодорожной ветки на Иваново; окончательно северные леса они покинут лишь в 1898 г. Однако в мрачном существовании сестер Герцык благодаря открытию Крыма уже в 1891 г. появляется просвет. Более того: в Крыму они обретают духовную родину, от которой не отреклись и впоследствии, когда Европа была изъезжена ими вдоль и поперек, когда своими для них стали Рим, Неаполь, Париж (не говоря уж о Москве)…
В «Воспоминаниях» Е. Герцык замечает, что впервые они с сестрой осознали, что «мир глубок», лишь тогда, когда открыли для себя в начале 1900-х гг. Ницше. Парадоксальным образом именно этот непримиримый борец с метафизикой указал им на существование бытийственной тайны, а его философия, чреватая безумием, спасла от безумия запутавшуюся в своей борьбе с современностью Аделаиду[30]. Об этом мы подробно будем говорить в той главе нашей книги, которая специально посвящена русскому ницшеанству. Пока же заметим, что на самом деле глубину мира Евгения и Аделаида ощутили уже задолго до встречи с Ницше – под влиянием Крыма, – но тогда этот душевный сдвиг до их сознания не дошел. В крымских разделах «Воспоминаний» Евгения мастерски показывает, как Крым, сразу же захвативший сестер своим невиданным пестрым обличьем, шаг за шагом сам вел их к своему сокровенному существу, к своей тайне. Поначалу они упивались тем, что лежит на поверхности, что показывают туристам, – этнографически яркими, броскими крымскими буднями: кипением базарной толпы, горами винограда на телегах, картинными стариками в чалмах и сценками с участием дерзких матросов. Дворцы – но и пещеры, где ютилась беднота, подозрительные трущобы – примета крупного порта (Герцыки поселились в Севастополе), бухты, военные корабли… Смысл всей этой хаотической на первый взгляд жизни сообщало дивное, бескрайнее – опять-таки увиденное впервые! – сине-золотое море. Адю, девушку на выданье, завертела светская жизнь, даже наметился жених – морской офицер. Как и младшая сестра, по натуре она была страстной, жизнелюбивой, спешила «жить и чувствовать» – но быстро испытала опустошение, тоску. Севастопольское – даже и высшее – общество было немногим интереснее александровского; подросток-Евгения поняла это первой и встала к нему в позу «полуискреннего-полупоказного пренебрежения». Вскоре в севастопольской публике разочаровалась и Аделаида, порвав затем, разумеется, и с «женихом», оказавшимся человеком более чем заурядным… Чтобы понять, что же такое Крым, надо было идти глубже социального среза – от мира людей обращаться к природе. Через созерцание природы проникнуть в ноуменальное существо крымской земли: такая работа велась в душах сестер Герцык на протяжении ряда лет.
Надо сказать, что эти девушки формировались в 1880—1890-х гг. отнюдь не как вульгарные нигилистки – стриженые, очкастые, женское дополнение к «реалистам» (Д. Писарев) и позднейшим народникам. В России возник и набирал силу также совсем другой женский тип – тип женщины-артистки, интеллектуалки и поэта, бросающей вызов мужчине в области высокого творчества, ради профессионального роста порывающей с семейными стереотипами. Одной из первых ласточек этого духовного женского движения стала Мария Башкирцева – умершая, не достигнув двадцатипятилетия, талантливая художница, учившаяся живописи в Париже, сумевшая создать себе имя и найти место в кругу французских импрессионистов. «Дневником» Марии Башкирцевой зачитывалась Марина Цветаева; образ гордой и свободной гениальной девушки сделался путеводной звездой и для сестер Герцык. Материализм, эволюционизм надолго удержать их души не смогли, книги Геккеля, Дарвина на их письменных столах быстро вытеснялись сочинениями французов и англичан – братьев Гонкуров, Р. Сизерана и Д. Рескина. Сестры увлекались входившим в моду Ибсеном, и первой философской книгой, прочитанной Евгенией, стал главный труд А. Шопенгауэра «Мир как воля и представление»… Эстетизм мало-помалу одерживал в их душах верх над нигилизмом: зимы в Александрове, а затем в Юрьеве-Польском Аделаида и Евгения проводили в виртуальной «башне из слоновой кости», предаваясь «эстетической аскезе». Им передалась музыкальность родителей: часами разыгрывались Григ и баховские фуги, под влиянием родственницы-консерваторки сестры приобщились к русской опере. А в один из театральных сезонов им довелось прослушать в Москве все «Кольцо Нибелунгов» Вагнера. Не стало ли это событие откровением для них «духа музыки»? Были приобретены партитуры вагнеровских опер, и зимними вечерами за роялем сестры разбирали лейтмотивы героев «Кольца», вживаясь в образы саг, проникаясь атмосферой германского язычества, преломленного сознанием эпохи модерна… Увлечение Шопенгауэром и Вагнером с неоспоримостью свидетельствовало о том, что почва для восприятия идей Ницше в умах Евгении и Аделаиды была полностью подготовлена…
Как же совершалось открытие Крыма этими душами, чьи хаотические, направляемые лишь изнутри искания были подчинены культу красоты? Крымская природа в полной мере захватила их лишь тогда, когда они переехали из Севастополя в Судак: там был приобретен скромный дом с виноградником неподалеку от моря, – окна смотрели на гору Ай-Георгий и на Капсельскую долину. Внешними обстоятельствами обозначались вехи духовного пути сестер Герцык – укоренение семьи в Судаке означало для них нечто большее, чем простая перемена дачного места. Евгения придавала огромное значение в их жизни Судаку, где она впервые пережила «крылатый миг», когда на висячем балкончике их нового дома в звездную ночь ее коснулся «огонек духа»: «…Судак наплывал на нас судьбою. – Кто скажет, что это значит – встретиться со своей судьбой? Быть охваченным счастьем? Нет. Внезапное озарение? Нет, нет. Распознать, в чем твои силы? И это нет. Ни на какой другой язык не перевести это событие – судьбу».[31]
Такой «судьбой» был Коктебель для Волошина, Дорнах для Андрея Белого, Сергиев Посад для Флоренского, Рим для Иванова и Париж для С. Булгакова. В стиле мифотворчества Серебряного века, можно было бы здесь порассуждать о гениях места, притягивающих к себе родственные души; во всяком случае, ясно, что человеку не все равно где жить, – особенно человеку творческому. Судак же побуждал сестер Герцык именно к «творческому труду» – труду по «постижению красоты», созданию, если угодно, эстетики сразу же полюбившихся им обликов, форм тамошней природы. «Судак накрепко врезал нам в душу опыт распознавания прекрасного», – вспоминает Евгения [32]. – Но почему прекрасен пустынный пейзаж долины, плоские, лишенные растительности горы, какое-нибудь искривленное ветрами, почти оголенное деревце, тропинка, бегущая по осыпающимся холмам и приводящая к развалинам Генуэзской крепости? Их красота совсем не очевидна, даже если сравнить эти суровые места с природной роскошью хотя бы южного берега Крыма, не говоря уж об элегантном величии Альп. «Мы с сестрой, – пишет Евгения, – <…> знаем, что эта пустыня и эти столы (т. наз. столовые горы. – Н. Б.), или богатырские могильники, – прекрасны. Но как это показать? Как самим поверить? Еще тяготеют над нами фальшивые каноны, еще не сбросить нам культа условной красивости…» [33]
Очевидно, что, пытаясь через красоту приобщиться к тайной сути окружающей природы, сестры Герцык шли тем же путем, каким следовал их крымский сосед и друг – Максимилиан Волошин. И результат исканий был сходным, – впрочем, вполне вероятно, что крымская «эстетика», представленная в «Воспоминаниях» Евгении, сложилась не без влияния разговоров с Волошиным и чтения его сочинений. Глубокое обоснование «закона красоты» Киммерии – восточного побережья Крыма, подведение религиозной концепции под соответствующие эстетические воззрения, мы обнаруживаем именно в творчестве Волошина. Он был поборником крымского «Магометова рая» – почти уничтоженной при русских культуры татар и турок, этого «цветущего сада», существовавшего в бесплодных землях благодаря уникальной оросительной системе. Чисто эстетически Волошин предпочитал эту крымскую «тысячу и одну ночь» «непристойным императорским виллам в стиле железнодорожных буфетов и публичных домов», «отелям в стиле императорских дворцов», – облику южного берега, сделавшегося курортом российской придворной знати. Не Волошин ли передал сестрам Герцык такую антипатию к «условной красивости» Массандры, Ливадии, Алупки, Симеиза? «Этот музей дурного вкуса, претендующий на соперничество с международными европейскими вертепами на Ривьере, очевидно, так и останется в Крыму единственным монументальным памятником “Русской эпохи”»[34]: подобные суждения Волошина отчасти справедливы потому, что «курортные красоты» заслоняют собой природный облик Крыма, мешают осмыслению его неповторимого «закона красоты», постижению тайны этого края.
Но на каком языке говорить об этой тайне, какие привлекать категории, дабы намекнуть на нее? Е. Герцык касается этих вещей слишком мимолетно; тексты Волошина же позволяют приобщиться к его многолетним медитациям – созерцаниям крымской земли, аккумулируют его опыт мистика, молитвенника, художника. Воспользуемся поэтому его свидетельством: оно поможет нам в поисках родников творчества сестер Герцык.
Исключив из «канона красоты» Крыма почти что средиземноморские картины курортной зоны, Волошин продолжает: «Но что же тогда является памятниками Крыма? – Развалины и пейзаж». Вот увиденный его глазами пейзаж тех мест – южнее Керченского полуострова, который Евгения Герцык, по ее позднейшему признанию, хотела бы уловить последним взором души, в момент смерти отлетающей от тела[35]: «Курганы и сопки унылых берегов Босфора Киммерийского; соленые озера, выветренные коридоры и каменные корабли горы Опук; усыпанные, точно спелой пшеницей, оранжевые отмели широких дуг Феодосийского залива; Феодосия с черным кремлем генуэзских укреплений, Коктебель с венецианским городищем и готическим нагромождением Кара-Дага; Меганом с благородно сухими, чисто греческими очертаниями; Судак с его романтической крепостью; Новый Свет со своими разлитыми можжевельниками – извилистый и глубокий, как внутренность раковины, – вот одно только побережье Киммерии»[36]. Если на южном берегу все приковывает к себе внимание – каждый уместно посаженный кипарис, любой камень живописных скал всем своим видом словно кричит, взывая к праздному взору туриста, то здесь разлита атмосфера молчания, природа ушла в себя, поверхностному глазу просто не за что зацепиться… И, по мысли Волошина, надо быть художником, – но в первую очередь мистиком и мифотворцем, добавим мы от себя, – чтобы войти в глубь этих природных форм, приобщиться к их сокровенной сущности. Волошин, а вместе с ним и сестры Герцык воспринимали край древней Готии как, по сути, живое личностное существо – богиню Гею (Е. Герцык), «Мать-Землю», «мать-невольницу» (А. Герцык, Волошин), – как нерукотворное иконное изображение древнего великого женственного божества, ведомого людям во времена матриархата:
В гранитах скал – надломленные крылья,
Под бременем холмов – изогнутый хребет.
Земли отверженной – застывшие усилья.
Уста Праматери, которым слова нет!
(М. Волошин. Полынь; 1906)
Здесь надо будет напомнить о том, что главной категорией философской эстетики, – и, шире, всего мировоззрения Волошина была разработанная им категория лика[37]. С этой категорией он связывал представление о живой Вселенной – живой как в целом, так и в отдельных мельчайших частях: по Волошину, эта разлитая повсюду жизнь, эволюционно восходящая к духу, имеет тенденцию складываться в лик. С ранней юности Волошин увлекался теософией, впоследствии загорелся антропософией – учениями, претендующими на создание доскональной картины духовного мира. И для него самого наиболее интересным был именно личностный аспект невидимой Вселенной, – те духи и души, чье существование обрело четкую форму, сложилось в лик. Он полагал, что такие лики невидимого мира могут открыться навстречу творческому усилию художника, – именно в этом заключена художническая миссия, полагал мыслитель-символист. Красота же, утверждал он, это не приятность для глаза, а оформленность в лик – присутствие конкретной духовной жизни, достигшей самосознания. Подлинная красота природы, согласно Волошину, не бросается в глаза, но раскрывается навстречу созерцательному взору живописца, поэта, – непременно духовидца: «“Безобразие” – то, что еще не обладает образом. Раз это явление нашло подлинный лик в творчестве художника – оно становится из безобразия новой красотой»[38], – писал Волошин, имея в виду творчество уроженца Феодосии К. Богаевского. По мысли Волошина и в соответствии с общими принципами русского символизма, действительное творчество – оно же и открытие духовной реальности, «реальнейшего», в сравнении с «реалиями» видимого мира, бытийственного плана (Вяч. Иванов), – духови́дение и духове́дение. Открывающиеся перед духовным созерцателем лики бытия – это не порождение его субъективной фантазии, а обличья объективного духовного, хотя и незримого мира: такова, в варианте Волошина, аксиома символистской эстетики. Русские символисты стремились уравнять в теории художественное творчество с медитацией, а также с теургией – деятельностью по преобразованию мира; художник в их глазах – в пределе посвященный, жрец, маг…
Сестры Герцык, равно как и Волошин, остро чувствовали древность крымской земли, ее обремененность исторической памятью, – чувствовали незримое присутствие в крымской культурной ауре следов ушедших цивилизаций. Тавры, скифы, татары, греки и генуэзцы, турки, славяне и армяне: свой вклад в облик Крыма внесли все обитавшие здесь многочисленные народы. С другой стороны, эти утонченные души ясно ощущали: они застали уже закат Крыма, налицо иссякание его жизненных сил, – действительно, перед их глазами – «развалины» древней цивилизации. Некое душевное изнеможение при виде упадка ощущается в передаче Евгенией Герцык даже и детского восприятия их судакского окружения: «Вечер, нет, ущербный день осени… Здешние старожилы то и дело вздыхают о том, что Судак не тот, что был, что сякнут источники, хиреют сады, нет больше сказочных урожаев. Ну, да старичкам и Бог велел так говорить! Но отчего у нас в саду, у самого водоема, ряд могучих пирамидальных тополей – все с засохшими вершинами, отчего ветвистые орешины <…> год от году дают орехи все мельче, и садовник пилит и пилит засохшие ветки? А потрескавшееся от суши русло реки, когда-то питавшей же эту буйную поросль ольхи, лоха, лиан?..»[39] Описывая «вечерний час» крымской земли, Е. Герцык не случайно указывает на пересохшие водоемы: здесь не только детская наблюдательность, но и последующее влияние Волошина, который упадок Крыма, завоеванного в XVIII в. Россией, связывал именно с его обезвоживанием – в результате разрушения русскими татарских ирригационных сооружений. Умолкли знаменитые фонтаны, полопались глиняные трубы водопроводов, пересохли бассейны ханских дворцов, – но не только: нарушилась и жизнь природных рек и ручьев, составлявшая единую систему с искусственными водными артериями. Евгения подхватывает мысль Волошина: Крым лишился своей кровеносной системы, он обречен, – его витальный расцвет – в далеком прошлом, мы же – свидетели его старческого возраста.
Здесь можно было бы вспомнить о «морфологической» культурологии О. Шпенглера, которая пользуется почти мифическим представлением о живом организме культуры (проходящем в своем развитии через ступени зарождения, расцвета, старения и умирания), но остается тем не менее в рамках научно-гуманитарного дискурса. В подходе Волошина к культуре Крыма наблюдается очевидная близость этим воззрениям, – однако коктебельский мыслитель делает и следующий – уже мифотворческий шаг в цепи культурологических рассуждений. За ними стоит миф о древней Матери-Земле – конечно, детально не проработанный, сюжетно не оформленный, – стоит, как гигантская серая каменная глыба, в которой, однако, намечен лик. И вот, тайна Крыма и заключена в древнем – старческом лике Матери-Земли, – к ней были приобщены древние языческие народы. – Но одновременно это и тайна красоты крымской природы, – тайна, в которую ныне можно войти путем углубленного созерцания киммерийских пейзажей. От ви́дения подобных картин вместе с развалинами древних построек, сопровождающегося размышлением о судьбах ушедших культур, созерцатель в какой-то момент восходит к зрению лика: «Никакой показной живописности, ничего ласкающего глаз. Леса вырублены, сады погибли, фонтаны иссякли, водопроводы перерыты, камни церквей и крепостей пошли на стены обывательских домов. В стертых очертаниях холмов огромная историческая усталость. Но лицо этой земли изваяно чертами глубокими и едкими, как древняя трагическая маска. Этой земле есть что вспомнить, и уста ее сжаты вековым молчанием»[40]. Переживания коктебельского отшельника, почти те же, что и у Е. Герцык, переливаются в чувство религиозное. Волошин был адептом «религии красоты», как и сестры Герцык до их христианского обращения на рубеже 1900—1910-х гг. (именно так – «Религия красоты» – назвала А. Герцык свою статью 1899 г. об эстетических воззрениях Д. Рескина, признававшего красоту «высшим законом» бытия: в Рескине она находила родственную себе душу). И эта «религия» – тайная, приватная религия Волошина – означала, с другой стороны, «воскрешение» в его памяти древних языческих богов, импульс к чему он получил в ранней юности от Ницше [41]. Созерцание Волошиным крымской природы – во время горных походов и за мольбертом, при создании знаменитых акварелей – переходило в общение с древней богиней: ведь «пейзаж – это лик родной земли, лицо матери. От созерцания этого лица в душе подымается тоска, жалость, нежность, та надрывающая и безысходная любовь, с которой связано обычно чувство родины» Волошин М. Чувство родины // Волошин М. Коктебельские берега. С. 38.. То, что именуется патриотизмом и профанно относится к бытию социальному, Волошин доводит до религиозных корней – глубоких и почти полностью забытых чувств, которые в эпоху матриархата свободно изливались из человеческого сердца. Акварели Волошина – это подлинно лики земли, а отнюдь не пейзажи с натуры: художник схватывает не внешние физические формы, а скорее намечает кистью силовые линии – контуры формообразующих напряжений, угадывает складки эфирной материи вместе с игрой красок на еще более тонких космических планах. Религиозная глубина присуща и крымским стихам Волошина (циклы «Киммерийские сумерки», «Киммерийская весна»). Многие стихотворения – это почти что молитвы конкретным божествам, причем пантеон преимущественно греческих богов возглавляется, пожалуй, не Зевсом, а Великой богиней, Матерью-Землей, к которой в конечном счете и обращен порыв Волошина:
Моя земля хранит покой,
Как лик иконы изможденный.
Здесь каждый след сожжен тоской,
Здесь каждый холм – порыв стесненный.
Я вновь пришел – к твоим ногам
Сложить дары своей печали,
Бродить по горьким берегам
И вопрошать морские дали…
(Первое стихотворение цикла «Киммерийская весна»; февраль 1910)
Так в своих статьях, стихах и акварелях Волошин дает метафизическое обоснование красоты Киммерии – указывает на ее бытийственную тайну, приоткрывавшуюся древним народам: Крым избрала своим местопребыванием Великая богиня, потому его первозданная природа – не что иное, как ее манифестация. По-видимому, эту свою мифологическую концепцию Волошин неоднократно развивал перед сестрами Герцык (которых навещал, проделав пеший путь по горам из Коктебеля в Судак). Волошинская ключевая идея присутствует в главе «Судак» «Воспоминаний» Е. Герцык, а описание ею вида с Генуэзской крепости – почти что словесный аналог волошинской акварели: «Гряды и гряды холмов, и конусов, и предгорий, бурые, розовеющие, фиолетовые у горизонта, где массив Меганома выдвинулся в море. Никакого покрова – Земля! Гея! И голубая тишь заливами охватывает и нежит ее. Молчишь, восхищенная.
Да, нужно было через десять лет встретиться с Волошиным, с живописью Богаевского, услышать миф о Киммерии, чтобы потом авторитетно утверждать, что у нашей земли свой закон красоты»[42].
Этот «миф» и этот «закон» мы и попытались вскрыть, обратившись к трудам Волошина.
Наш тезис о том, что Крым – точнее, Киммерия, восточное его побережье – сделался для «беспочвенных» дотоле сестер Герцык духовной родиной, не следует понимать в каком-то переносном сентиментальном смысле: когда Евгения признается, что искра духа запала в нее впервые на балкончике их судакского дома (мы уже цитировали эти ее слова), она указывает на весьма важный факт своей внутренней биографии, удержанный памятью на всю жизнь. Не случайно и глубоко и другое ее позднее свидетельство: «Ах, мил нам Судак и тем, что нас, бездомных, он привязал к земле, врастил в эту не слишком тучную – как раз по нас – почву»[43], – «почву», разумеется, экзистенциально-духовную. Намечая вехи духовного пути Евгении, мы опираемся на ее собственное осмысление прошлого, на ее философию собственной жизни, – такая концептуальная канва нет-нет да и обнаруживается в ходе ее вроде бы безыскусного рассказа о событиях. Евгения и Аделаида духовно родились на земле Великой богини; они открыли для себя Мать-Землю, надо думать, с помощью Волошина, но лишь потому, что шли в том же направлении – пытались осмыслить явную для них красоту киммерийской природы. Они интуитивно подступили к бытийственным основам этой красоты – к той духовной реальности, которую знали и почитали языческие народы еще до Христа. «Религия красоты», стихийными адептами которой они сделались в атмосфере эстетизма, культивировавшейся ими в александровской глуши, на крымской земле углубилась и зазвучала совершенно новыми обертонами.
В Киммерии Евгения и Аделаида духовно родились как язычницы. Эти две души уже изначально испытывали влечение к язычеству: вспомним хотя бы их «детские игры» – исступленные экстазы при поклонении деревьям, имитацию пыток, подражание пифиям… Впоследствии Евгения будет беспощадной разоблачительницей своего языческого начала. Она возненавидит столь хорошо ей знакомые «темные, жадные молнии чувственности», сотрясающие все существо[44], с ужасом признает, что и во внешности ее порой мелькает что-то по-язычески непристойное – «хищные кривые зубы, и губы красные, и изгибаюсь, как лоза…»[45] Но порой она принимает свое внутреннее язычество сознательно-волевым актом – даже с неким вызовом, и, сверх того, подводит под него философский фундамент: «Я <…> не люблю дух аскезы, отрешенности, исповедую страстную “верность земле”, – записывает она в дневнике, находясь на “пике” своего “дионисизма”. – <…> Знаю наверно, что на земле, в земном существовании, не тайна познания божества (трансцендентного Бога-Творца христианства. – Н. Б.), а тайна “верности земле” есть сокровеннейшая и высшая. На земле в эту тайну облечено божество, в тайну любви земной»[46]. «Верность земле» – это лозунг Ницше[47], взятый на вооружение Вяч. Ивановым – личностью ключевой в жизни Евгении Казимировны. Почему она с такой готовностью подхватила его, сделав жизненным девизом? Не в силу ли своего собственного, отчасти языческого устроения, поддерживаемого созерцательной жизнью в окружении киммерийских гор? Мистическая «земля» Ницше – Иванова – в рецепции Евгении Герцык, она же земля
Киммерии, а глубинно – «Земля-Гея», «Мать-Земля», херсонесская Дева и Великая богиня тавров. Со всеми этими реалиями и именами соотносился внутренний опыт – целый комплекс чувств и смыслов, – яркая, «земная» сторона жизни. Евгения претерпела нешуточную борьбу этой своей языческой стороны души с действительно христианским началом. О перипетиях этой борьбы, – вообще о собственной глубинной религии Е. Герцык мы детально поговорим впоследствии. А здесь, размышляя о ее духовном рождении в язычество – почитание Матери-Земли, заметим, что и христианство Евгении, даже и после ее сознательного обращения, смешивалось в ее внутренней жизни с языческими представлениями (стоит подчеркнуть, что понятия «язычество» и «христианство» мы не привносим искусственно в ее искания: она активно пользуется ими в переписке и дневниках 1900—1910-х гг., они суть категории ее самопознания и религиозного самоопределения).
В страстном алкании веры Евгению захватывают такие представления, как «образ матери» и «жертва матери». О Боге она рассуждает в духе матриархата, и христианство, на подступах к которому она оказалась в конце 1900-х гг., также выступает поначалу как одна из разновидностей почитания Великой богини: «В самом сердце земли и в тайном центре сердца человеческого – икона Богородицы, и святее нет, и ближе нет»[48]. «Богородица – Мать сыра Земля»: вспоминается вера Хромоножки из «Бесов» Достоевского. Если Иванов сближал Христа с Дионисом, то его ученица Евгения Герцык в своих религиозных переживаниях Богоматерь подменяла «Матерью» языческой. Ее христианство позднее приобретет окраску специфически мистериальной религии, – к интуициям языческим присоединятся эзотерические идеи теософии и антропософии. Этот «магический» уклон позволяет провести параллель между религиозностью «утонченно-культурной» (Бердяев) Евгении и народным православием, сочетающим поклонение Христу с представлениями древнего язычества. Молитва, церковные таинства, – даже сама Христова Личность никогда не играли в ее жизни столь же большую роль, как в случае ее сестры: христианство Аделаиды Герцык, при всей ее мистической гениальности, более традиционно, богомольно, безыскусно[49]. Евгения вообще в большей степени, чем Аделаида, была захвачена неоязыческим вихрем эпохи декаданса и порой приближалась к опасной грани откровенного демонизма. Аделаиду смиряла и удерживала ее роковая ноша «предвечной вины», глухота, болезненность. Но и у цветущей Евгении был, надо полагать, могучий ангел-хранитель, не позволявший ей сделаться «менадой» – утратить свою волю и предаться дионисическому оргиазму, чего бы хотел от нее Иванов. «Вы не менада», – раздраженно бросил однажды мистагог своей строптивой ученице. Внутренняя властная рука всегда удерживала ее, уже готовую встать на гибельный путь греха и саморасточения.
Судакский дом Герцык-Жуковских правомерно рассматривать – наряду с домом-музеем Чехова в Ялте, волошинским «Домом поэта» в Коктебеле, музеем Грина в Старом Крыму – в качестве одного из духовных центров Крыма позднейшей эпохи. В настоящее время это пока еще вряд ли осознано: дом по адресу Судак, улица Гагарина, 21 разделяет в этом отношении участь мемориальных мест, связанных с именем С. Булгакова, друга сестер и духовного отца Аделаиды[50]. «Родина души корнями уходит в очень темную глубь, в очень злые страсти»[51]: эта фраза Евгении очень емкая, она включает в себя все то, что нами было сказано выше о «рождении» сестер Герцык в языческую духовность, совершившемся на киммерийской земле. Но судакский «Адин дом» (как его называли близкие) – свидетель отнюдь не только разлива «злых страстей» в событиях осени 1908 г., сгущения темных сил, приведенных сюда гостями – Ивановым со свитой: с домом связан и расцвет поэтического творчества Аделаиды, и литературные труды Евгении в начале 1920-х гг., и дружеские разговоры, и детский смех… И более того, дом этот – место сокровенного подвижничества сестер в страшное время Гражданской войны, когда Крым, согласно свидетельству И. Шмелева, сделался царством смерти («Солнце мертвых»). Именно тогда Аделаида пишет одно за другим лучшие свои стихотворения. В одной поэтической строфе ей удается охватить в целом все их тогдашнее судакское бытие:
Все строже дни. Безгласен и суров
Устав, что правим мы неутомимо
В обители своей, очам незримой,
Облекши дух в монашеский покров.
(Сонеты. 1; 1919)
Из декадентского салона, подражающего петербургской ивановской Башне, «Адин дом» превратился в монастырь. Опять-таки множество картин тех лет проходило перед внутренним взором шестидесятилетней Евгении, когда она писала одну из завершительных фраз главы «Судак»: «Родина души – не только сладость и отдохновение, но и всегдашний зов к подвигу»…[52]
Завершить размышления о Крыме как духовной родине сестер Герцык нам бы хотелось стихотворением А. Герцык 1918 г. «К Судаку». Оно писалось при вполне конкретных обстоятельствах: разразившаяся Гражданская война не позволила семье Герцык-Жуковских оставить Крым и вернуться в Москву; в сходном положении оказались многие – тот же Шмелев, С. Булгаков. Но Аделаида мифологизирует ситуацию: не разруха и боевые действия мешают ей уехать, но сама владычица Киммерии – Великая богиня, Мать-Земля ради своих неведомых целей удерживает ее при себе. Поэтесса заново воспроизводит в этом стихотворении волошинский «миф о Киммерии» и, привлекая новые образы, указывает на «закон» неповторимой киммерийской красоты.
Ах ты, знойная, холодная
Страна!
Не дано мне быть свободной
Никогда!
Пораскинулась пустыней
Среди гор.
Поразвесила свой синий
Ты шатер.
Тщетны дальние призывы —
Не дойти!
Всюду скаты и обрывы
На пути.
И все так же зной упорен —
Сушь да синь.
Под ногами цепкий терен —
Да полынь.
Как бежать, твой дух суровый
Умоля?
Полюбить твои оковы,
Мать-Земля!
Глубокая христианка к тому времени, «поэтесса-святая» (Б. Зайцев), уже в предчувствии конца своего жизненного пути она как бы с упреком обращается к «гению места» своей духовной отчизны. Стихотворение оказалось пророческим: в 1925 г. Аделаида Герцык умирает, едва достигнув пятидесятилетия, – она перенесла ужас чекистского застенка, голод детей, болезни и смерти близких – но жизненные силы иссякли. Могила ее не сохранилась: старое судакское кладбище, где она была похоронена, было уничтожено в 1982 г.[53]
* * *
Эту главу мы дополним небольшим экскурсом. Глубинная связь культуры Серебряного века (в частности, феномена сестер Герцык) с Крымом проясняется при обращении к интересному современному исследованию – книге культуролога Т. М. Фадеевой «Крым в сакральном пространстве». Богатое содержание книги (оно охватывает «сакральную географию» и «энергетику» крымской земли; крымскую топонимику; описание дохристианских и средневековых «святых мест» вместе с соответствующими мифами, легендами, житиями, а также разнообразную символику, значимую в крымском контексте) в аспекте религиоведения сводится, на наш взгляд, к теме крымского язычества[54]. Т. М. Фадеева идет от глубочайшей древности, – бросает взгляд даже на Атлантиду, мифическую прародину всей европейской цивилизации. Однако центр тяжести ее концепции – это мегалитическая культура и религия тавров, коренных обитателей Крыма (I тыс. до Р. X.). Поскольку Крым всегда был колонией, в крымском язычестве причудливым – но при этом отнюдь не случайным! – образом переплетались верования и культы коренного населения и народов-пришельцев – кельтов, славян, а прежде всего греков. Опираясь на труды античных и средневековых историков, привлекая свидетельства самых разнообразных памятников культуры, Т. М. Фадеева приходит к выводу о том, что верховным божеством на крымской земле всегда было божество женское. В ходе истории особо чтимая таврами богиня Дева, культ которой сопровождался человеческими жертвоприношениями, получала смягчающие «прививки» от греческой Артемиды или ее двойника – жрицы Ифигении. Под разными именами и мифологическими масками на протяжении веков здесь выступала Великая богиня всей Евразии – общая Мать богов и людей. Добавим от себя: не кто иной, как она открывала свой «лик» и навстречу религиозным опытам Волошина (который не раз упоминается Фадеевой); именно о ней вслед за Волошиным размышляли также сестры Герцык, называвшие ее либо Геей – в согласии с греками, либо по-русски – Матерью-Землей.
Свою концепцию крымского язычества Т. М. Фадеева отнюдь не склонна сужать до рамок сугубо академического исследования, адресованного компетенции одних филологов-классиков и медиевистов. Напротив, крымская духовность (используем здесь это не слишком определенное слово за неимением лучшего) в ее представлении – это феномен в высшей степени актуальный, более того, обращенный в будущее. Здесь Т. М. Фадеева, следуя одной из тенденций Серебряного века, опирается на идеи Р. Штейнера, который считал черноморский регион, и в частности Крым, весьма важной, с оккультной точки зрения, областью Земли. «Согласно учению Р. Штейнера, Черноморское пространство – это область мистерий, в которых вырабатывалось будущее Запада и обеспечивалась непрерывность культурного развития всего человечества, – пишет Т. М. Фадеева. – <…> В этом пространстве были основаны все важнейшие мистериальные центры первых трех послеатлантических периодов (этапы истории человеческой культуры по Штейнеру. – Н. Б.) и произошло становление четвертого (греко-латинского); здесь готовился пятый (западноевропейский) и готовится шестой (славянский. – Н. Б.) период»[55]. Центры эти – горный Кавказ (связанный с мифом о прикованном Прометее), кавказское побережье – Колхида (где было святилище Овна – Золотого руна), Синоп на черноморском юге, знаменитый почитанием там Сераписа (он же Озирис), – наконец, Крым на севере: здесь находилось «святилище таврической Артемиды, или богини-Девы, куда была перенесена Ифигения[56] (согласно греческому мифу, дошедшему до нас благодаря трагедии Еврипида “Ифигения в Тавриде”. – Н. Б.)». – Итак, по мысли Т. М. Фадеевой, присоединяющейся в этом к Р. Штейнеру, из черноморского пространства (для нашей темы важно, что из Крыма – с земли, «насыщенной “культурным перегноем”, по меткому выражению Р. Штейнера», или «духовным наследием предыдущих культур»[57]) в души людей, строителей культуры будущего, идут мощные обновляющие импульсы. И особенно это глубинное влияние касается славянства, поскольку именно славяне готовят ныне основу для грядущей великой культурной эпохи.
Как бы ни относиться к учению Р. Штейнера, основанная на этом учении идея Т. М. Фадеевой о «питательности» духовной почвы Крыма для исканий новейшего времени действительно «работает», если речь идет о культуре Серебряного века, к которой принадлежит и феномен сестер Герцык. Если придерживаться концепции, развитой в книге «Крым в сакральном пространстве», то оказывается, что Серебряный век получил от Крыма сильный импульс инспирации. Все построения Т. М. Фадеевой стягиваются к центральному тезису: Крым – это земля Божественной Софии. Но ведь именно София – девиз, символ, а если угодно – дух-покровитель русской культуры той эпохи. И отнюдь не таким уж странным покажется утверждение о том, что ее творцы обретали духовные силы именно на крымской земле, находили именно там собственно софийные смыслы: достаточно назвать Волошина, С. Булгакова, сестер Герцык и сестер Цветаевых, Андрея Белого, Н. Бердяева, И. Шмелева и т. д., в большей или меньшей степени связанных с Крымом.
Но почему правомерно рассматривать Крым в качестве удела Софии, – подобно тому как Афон считается уделом Богоматери? Т. М. Фадеева утверждает, в сущности, что таврическая Дева, затем греческие Артемида и Ифигения, чтимые в Крыму, суть те лики Софии, которые были явлены, каждый в свое время, древним крымским народам. То, что жители языческого Херсонеса считали Деву Тавриды покровительницей своего города, прообразовательно указывает на покровительство Софии всему Крыму. Между тем, оказавшись в настоящее время в районе Качикальона, можно разыскать там пещерную христианскую церковь Св. Софии: усилиями неведомых почитателей она имеет вполне пристойный облик охраняемого древнего памятника[58]. Очевидно, софийные храмы существовали и в других местах Крымского полуострова. – Для Т. М. Фадеевой, однако, решающим обоснованием ее тезиса служит сокровенное указание крымских топонимов (названий географических мест), которое проясняется, если привлечь на помощь символику чисел – пифагорейскую традицию. Софийность Крыма зашифрована в самом слове «Крым», дерзновенно утверждает исследовательница. В самом деле, это слово истолковывается как «страна сорока вершин, сорока замков, сорока крепостей»[59], поскольку корень его – тюркское «кырк», то есть «сорок». Корень «кырк» вообще часто встречается в крымских топонимах; Т. М. Фадеева полагает, что «число сорок устойчиво связано с Таврикой» (с. 232). И ради прояснения смысла этого числа она обращается к пифагорейским представлениям. Согласно этой древней традиции, сорок – число сакральное: «Сорок – это образ Универсума, существующий предвечно как женственное начало. Число символизирует Божественный замысел о мироздании, по “образу и подобию” которого ваялась материальная, проявленная Вселенная. Сорок – сокровенное гисло Софии (курсив мой. – Н. Б.), женского божества, Лунной богини. Лунная богиня Дева, царица “страны сорока вершин”, сорока святилищ…» (с. 229) В результате, согласно концепции Т. М. Фадеевой, «те, кто готовит на Востоке Европы шестую культурно-историческую эпоху», получают (и уже получили в ходе Серебряного века) инспирирующий импульс от Софии – Премудрости Библии и древних гностиков, средневековых мистиков и русских масонов Александровской эпохи, – от «подруги вечной» Владимира Соловьева, от огненного ангела, запечатленного новгородской иконой, о которой вслед за Соловьевым писали Флоренский и С. Булгаков.
Однако здесь может возникнуть закономерный – и, надо сказать, непростой вопрос: кто же такая София – языческое ли божество («Лунная богиня», Гея, Мать-Земля и т. п.) или же духовное существо, чтимое древними иудеями и признаваемое христианами? Софиология – всплеск ли это неоязычества в новейшее время или завершающий этап, некий новый синтез складывавшейся на протяжении двадцати веков системы христианского богословия? Думается, что софиология в самой своей основе двойственна: она заключает в себе представления и интенции религии природы, с одной стороны, но с другой – изначально связана с монотеизмом и христианством. Эта двойственность обусловлена метафизикой самой Софии – границы между Творцом и творением. Остережемся углубляться здесь в этот клубок проблем – в дебри софиологической диалектики, в тайны многообразного «софийного» духовного опыта. Ограничив себя русской софиологией Серебряного века, можно с уверенностью говорить о ее христианском ядре. Не случайно колыбелью русской софиологии сделалась Троице-Сергиева лавра, глубокий и многогранный феномен которой своим истоком имеет опыт преподобного Сергия Радонежского: именно с лаврой были связаны отцы нашей софиологии – Соловьев, Флоренский, Булгаков[60]. Но и языческие оттенки в концепциях и личностных установках русских софиологов подметить нетрудно. Все они были знатоками учений древних и средневековых гностиков, Каббалы, некоторых направлений в новейшем оккультизме; неудивительно, что у Соловьева и Флоренского мы находим немало языческих интуиций[61]. А такие близкие к софиологии фигуры, как Волошин и Андрей Белый, сознательно избравшие для себя оккультный путь, в категориях религиоведения – адепты своеобразного приватного неоязычества. Исследование Т. М. Фадеевой еще и потому весьма ценно, что указывает на языческую колыбель русской софиологии – на Крым как «страну Софии». Во время своего пребывания на крымской земле, в ходе культурологических штудий и медитаций на природе Волошин, Булгаков, Белый погружались в атмосферу древнего тамошнего язычества.
То, что сказано нами о софиологии, правомерно перенести на всю культуру Серебряного века, в которой причудливо переплетаются христианские и языческие тенденции. – Но что же учит классическое христианство о самой Софии? Вправе ли христианин искать, чтить Софию, или же она – действительно богиня Луны или Земли, мать языческих богов и в качестве таковой не подлежит «воскрешению»? Ответить на эти вопросы может помочь трактат св. Иринея Лионского «Против ересей», в котором излагается древнейший гностический миф о Софии. Высочайшее духовное существо, некий эон, София в своей гордыне отпала от Бога Творца, но раскаялась и стремится вернуться к Нему вновь: таков в двух словах этот гностический сюжет. Лик Софии в свете этих представлений двоится: гностики и учили о двух Софиях – Небесной и падшей. И если христиане, опирающиеся на библейские книги Премудрости, искали Небесную, Божественную Софию, то язычники, имевшие дело с непросветленным аспектом природы, надо думать, нередко подпадали соблазнам Софии падшей: право же, в кровожадной таврической Деве – немного от Софии Урании…
В софиологии вообще всегда заключен риск, опасность духовной подмены даже и при благих намерениях: расхожий пример тому – отпочкование Незнакомки от Прекрасной Дамы в сознании Блока. Также можно говорить о присутствии двух Софий в опыте и творчестве Соловьева (в его земной судьбе они воплотились в личностях Софии Хитрово и Софии Мартыновой). Но риск этот, надо думать, в плане эволюции культуры оказывается оправданным, чему свидетельство – открытия Серебряного века, обнаружение скрытых потенций самого христианства, обретение им перспектив развития.
Эту христианско-языческую двойственность Софии, а также опасность, сопутствующую софийной духовности, отчетливо чувствовал С. Булгаков, в чьей творческой судьбе страстная увлеченность образом Премудрости абсолютно органично сочеталась с подлинно христианским – традиционным подвижническим опытом (см. отразивший этот опыт его «Дневник духовный», писавшийся в Праге в 1924–1925 гг.). Будучи женат на крымчанке Елене Токмаковой, Булгаков подолгу жил в имении родителей жены в Кореизе. Он прекрасно знал Крым и его историю, считал крымскую землю (как и сестры Герцык) своей второй (после Орловщины) родиной. О значении Крыма для философского и богословского творчества Булгакова подробно говорится в нашей уже упомянутой статье «С. Булгаков в Крыму» (см. сн. на с. 37). Именно на «земле Святой Софии» он «пережил <…> ряд мистических потрясений (о них он сообщает в письмах и крымских дневниках. – Н. Б.), ставших тем “посвящением”, из которого родилась его поздняя софиология (две богословские трилогии) и которое поддерживало его в борьбе за Вселенскую Церковь»[62]. А в связи с проблематизацией нами пребывания на «земле Святой Софии» сестер Герцык можно вспомнить написанные Булгаковым в Ялте в 1922 г. диалоги «У стен Херсониса», персонажи которых (Беженец, Светский богослов, Ученый иеромонах, Приходской священник), олицетворяющие меняющиеся установки самого автора, рассуждают о Вселенской Церкви, земном образе Небесной Софии. Тексту диалогов предпосылается описание места их действия: «Лунная ночь в Крыму, у Черного моря, близ херсонисских раскопок, в виду Херсонисского монастыря. Вдали очертания мыса Фиолента, по преданию – места жертвенника Артемиды»[63]. Здесь все детали, природные и культурные, указывают на Софию: Луна – это природный аналог таврической Девы, вместе с Артемидой выступавшей в роли языческого двойника библейской Премудрости; затем море, по мысли Булгакова, имеющее софийную природу и символизирующее как раз падшую Софию-Ахамот[64]; Херсонис был городом Девы, а на мысу Фиолент предположительно находилось святилище крымской богини. Булгаков прекрасно отдает себе отчет в языческих обертонах, сопутствующих идее Софии; вместе с тем в его описании крымского пейзажа они как бы снимаются картиной монастыря. В сущности, Булгаков здесь представляет in nuce как бы всю историю крещения св. князя Владимира, – а вместе с тем судьбу русского духа, возвысившегося от кровавого язычества до монашеской святости. Таков и путь Софии: существо духовного мира, она имеет свою неведомую нам «судьбу»; однако для нас очевидно, что образ ее в ходе культурной истории очищается и возвышается от хищного идола дикого племени до Ангела Вселенской Церкви. Кажется, здесь мы не расходимся с тем, что хочет сказать о Софии в своей книге и Т. М. Фадеева.
Обратившись вновь к этому примечательному труду, извлечем из него «сакрально-пространственные» сведения о тех местах Крыма, где довелось жить сестрам Герцык, – это Севастополь и Судак. Из содержания книги прямо-таки следует, что невидимая рука направляла сестер к самым значимым священным центрам древности! – Начнем с Севастополя. Конечно, говорить здесь следует не о позднейшем городе «русского Крыма», а о расположенных неподалеку центрах поселения древнейших народов, – прежде всего о Херсонесе (ныне это район Севастополя). С Херсонесом связана память о храме таврической Девы – главного божества тавров, аборигенов Крыма. Дева считалась покровительницей города (девственность знаменовала его неприступность для завоевателей), а в III в. до Р. X. она была провозглашена царицей Херсонеса. В самом городе находились святилище и статуя Девы, представляющая ее как богиню плодородия. Но совсем неподалеку имелся и другой центр ее почитания, – его-то и упоминает Булгаков в вышеприведенной выдержке. Еще древние авторы – Геродот, Страбон – указывали на то, что храм Девы таврической находится на утесе, выступающем в море: тело принесенного в жертву человека отсюда сбрасывали вниз. В связи с храмом называют мыс Парфенион, и исследователи нового времени предполагают, что речь у древних шла о Фиоленте. Так, французский путешественник начала XIX в. писал о скале близ монастыря св. Георгия: «Вне всякого сомнения, ни одно место на Гераклейском полуострове не подходит культу таврической богини более, нежели это: только здесь можно причалить к берегу; только здесь жестокие тавры могли спешить на помощь терпящим бедствие, чтобы затем принести их в жертву. И каким театром является сама скала, на вершине которой народ, собравшийся на соседних скалах как на ступенях амфитеатра (намек на догреческое трагическое действо – реальное жертвоприношение. – Н. Б.), мог наблюдать за жертвоприношением и падением тел в пропасть!»[65] А в «Письмах с Понта» Овидия имеется описание сохранявшегося вплоть до I в. по Р. X. храма Девы – уже эллинизированной Артемиды-Дианы таврической. Поэт вкладывает его в уста старого тавра: «Есть в Скифии местность, которую предки называли Тавридою. Я родился в этой стране и не стыжусь своей родины; мое племя чтит родственную Фебу богиню. Еще и ныне стоит храм, опирающийся на огромные колонны; к нему ведут сорок ступеней. Предание гласит, что там был ниспосланный с неба кумир; не сомневайся, еще и ныне там стоит подножие, лишенное статуи богини; алтарь, который был сделан из белого камня, изменил цвет и ныне красен, будучи окрашен пролитой кровью. Священнодействие совершала жрица»[66]. Описание храма Девы включено старым тавром в изложение мифа об Ифигении – девственной жрице Артемиды, вынужденной в этом «варварском краю» совершать кровавый «варварский обряд». Именно такой виделась Таврида римскому взгляду – географическими местами, «которых нету жесточе»[67]. Не походили ли эти священнодействия древнего Херсонеса на те «языческие» обряды, которые, играя, выдумывали маленькие Адя и Женя Герцык? Не привела ли их сюда, в самое средоточие почитания Девы тавров, глухая память-судьба, о которой с таким реализмом они рассказывают в своих мемуарах о детстве? Сестры Герцык были беспощадны к себе, когда обращались к тайникам своего бессознательного, этой кладовой языческих импульсов и мотивов. Их духовное рождение на крымской земле означало в плане внутренней жизни не столько актуализацию этого душевного пласта (прорыв «злых страстей», о которых писала Евгения), сколько постепенное осознание и просветление, – христианизацию его содержания.
Однако на Евгению и Аделаиду подспудное влияние оказал не столько Херсонес, сколько Судак – место, судьбоносное для них. Именно с Судаком связаны мифологические смыслы и сюжеты, удивительным образом проявившиеся а биографиях и творчестве сестер. Что же сообщает о Судаке в своей книге Т. М. Фадеева? Название это (его исторические модификации – Сугдея, Солдайя, Сурож), возведенное к санскритскому корню «сур», означает «Солнечный город». Но так именовались в древности сакральные центры, – и, по мнению Т. М. Фадеевой, Сурож находился в преемственной связи с некоей сакральной традицией, а именно – традицией женской инициации.
Обоснованию этой антропософской по своей природе мысли Т. М. Фадеева посвящает два последних раздела книги «Крым в сакральном пространстве». Опираясь отчасти на древних историков, автор ее создает миф о Судаке как центре женского посвящения. Вот этот миф. Примерно в IV в. до Р. X. большую роль в жизни народов Крыма стали играть амазонки. Обитавшие на Дону воинственные «женоуправляемые» племена, у которых девушки обучались военному делу и участвовали в сражениях наряду с мужчинами, двинулись на Крым и захватили город Афинеон, находившийся в окрестностях Судака. «Не хранится ли память об этом и других походах и об основанном амазонками святилище в названии Кыз-куле – Девичья башня, руины которой и сегодня увенчивают вершину Судакской крепости?» – предполагает Т. М. Фадеева[68]. Башня эта, назначение которой – сторожевой дозор, по мнению исследовательницы, была выстроена генуэзцами (XIV в.) на месте архаичного святилища амазонок, где также почиталась Дева. Функцией богини плодородия ее «характер» не исчерпывался: ее херсонесские изображения на монетах отвечают образу Девы-воительницы, что и не слишком удивительно, если вспомнить, что она была мифологической защитницей и правительницей Херсонеса. Очевидно, что в еще большей степени воинственное начало должно было быть присуще божеству амазонок. В Средние века им преемственно наследовали вооруженные отряды фольклорной воительницы Царь-Девицы, чьим местопребыванием был также древний Судак: «Дворец Царь-Девицы, “строенный готфским обычаем, к южной стороне города, на высоком холму, омываемом волнами моря”, окончательно указывает адрес – это Крым, Сурож»[69]. Вновь судакская Девичья башня оказывается связанной с феноменом воинственной царственной девы.
Надо сказать, что женский образ с подобными чертами весьма импонировал сестрам Герцык, не привыкшим пасовать перед мужским началом, чувствовавшим себя на равных в области высокой культуры с лучшими умами своего времени. Примечательно, что их самосознание как женщин нового типа раскрывалось именно через образ «Девичьей башни». Стихотворение А. Герцык «В башне» (1900-е гг.) отнюдь не проходное для ее творчества. Отдельные образы этого стихотворения можно обнаружить в ряде других ее произведений, вплоть до цитированного нами ранее сонета 1919 г. («Все строже дни…»): «незримая обитель» здесь – не что иное, как та же, христианизированная и перенесенная на духовный план, «Девичья башня».
В башне высокой, старинной
Сестры живут.
Стены увешаны тканями длинными,
Пахнет шелками – желтыми, синими,
Душен уют. <…>
Трудно распутать мотки шелковистые,
Путаный, трудный узор…
Сестры, дружные сестры
Строгий держат дозор…
(«В башне»)
Занятие сестер рукоделием побуждает вспомнить о Парках, прядущих нити человеческих судеб; ждут своей судьбы и сестры:
Кто там несется, пылая?
Может быть, рок?..
Эта символика женского повседневного существования могла бы показаться вполне традиционной, если бы эмоциональная атмосфера стихотворения не была, по сути, одним сгущенным ожиданием, если бы помыслы сестер не были развернуты исключительно в будущее:
…мы с тобой
Будем играть судьбой,
Песни слагать небывалые…
Если же говорить о Евгении, то она откровенно примеривала себе маску амазонки, – совершенно естественно чувствовала себя на коне в доспехах Царь-Девицы. Вот ее единственное сохранившееся стихотворение, написанное в начале Первой мировой войны:
Дочь я вышнего царя,
Кесаря-Огня.
Пурпуровою фатой
Всколыхну земли покой.
Я в невестиной алчбе
Выезжаю на коне,
Выкликаю жениха,
Попаляя небеса.
Где ж ответный, где бессмертный?
Топчет смертных конь несметно,
Шпорой жадной обожжен,
Духом крови опоен.
Чу, ударами копыт
Зерна смутные дробит.
Миг – и долог век проходит:
Смерть бессмертием восходит.
Но, незряча, мчится дале,
В дымно-утренние дали,
Темной брагою пьяна,
Государыня-Война.
В свете идей Т. М. Фадеевой, это стихотворение Е. Герцык видится насквозь судакским-сурожским, – кого бы ни подразумевала его автор под «дочерью вышнего царя» (скорее всего, это олицетворенная война). Но царственность – тот атрибут, который иногда придавала своим собственным поэтическим ликам и смиреннейшая Аделаида. Вот ее загадочное стихотворение, датированное февралем 1908 г., с посвящением «В. И. и А. М.», – инициалы, впрочем, раскрываются сразу: это Вяч. Иванов и Анна Минцлова, с которыми как раз в это время Аделаида вела напряженные мистические разговоры[70].
Правда ль, Отчую весть мне прислал
Отец, Наложив печать горения?
О, как страшно приять золотой венец,
Трепеща прикосновения!
Если подан мне знак, что я – дочь царя,
Ничего, что опоздала я?
Что раскинулся пир, хрусталем горя,
И я сама усталая?
Разойдутся потом, при ночном огне,
Все чужие и богатые…
Я останусь ли с Ним? Отвечайте мне,
Лучезарные вожатые!
«Я в первый раз принята и признана в мире Духа»[71]: это скромное по форме свидетельство Аделаиды о себе в письме подруге поэтически зазвучало как весть о ее царственном достоинстве. Образ богатырского пира, на который заявляется, опоздав, царская дочь, опять-таки, возможно, всплыл в сознании поэтессы из контекста сурожских легенд. Во всяком случае, «лучезарные вожатые», т. е. Иванов и Минцлова, ничего не говорили Аделаиде о ее «царственном» происхождении, – ни в прямом, ни в переносном, духовном смысле. Однако если мы вспомним характер родословной сестер Герцык, то их поэтические фантазии на тему Царь-Девицы обретут очень реальное звучание. Ведь их предками действительно были властители небольших феодальных государств-городков типа древнего Сурожа, по виду – крепостей, похожих на генуэзскую в Судаке, с такими же башнями и «готфскими» дворцами, как Девичья башня. По происхождению Аделаида и Евгения – действительно царские дочери. И не потому ли они так глубоко вжились в атмосферу Судака, что кровно ощутили в этой атмосфере нечто созвучное себе – флюиды царственной женственности?..
Рискнем сделать еще один шаг в сторону поиска мотивов киммерийской мифологии, проявившихся в судьбах и самосознании наших героинь. С Судаком связан прекрасный женский образ древности – это Феодора, последняя греческая царица Сугдейи. Христианская вера, которую исповедует Феодора, не препятствует ей сохранять облик царицы-воительницы, роднящий ее с амазонками. И в легенде о Феодоре, защищавшей мечом свой город от генуэзцев и павшей от руки врага, – легенде, излагаемой Т. М. Фадеевой, не было бы ничего нового для нашей темы – разговора о сестрах Герцык (в сравнении с сюжетом о Царь-Девице), если бы не один момент, специально выделенный и обсужденный автором «Крыма в сакральном пространстве». Мы имеем в виду присутствие возле юной Феодоры двух мужских образов: это братья-близнецы Константин и Ираклий, которые воспитывались вместе с ней, а повзрослев, полюбили ее. Феодора, давшая обет безбрачия, относилась к юношам как к друзьям, – и Константин смирился с решением Феодоры, сделавшись помощником и смиренным рыцарем царицы. Между тем Ираклий затаил на нее злобу и задумал расправиться с ней с помощью врагов. Предав свой народ и царицу, он впустил генуэзцев в крепость, а затем в замок-монастырь на горе Кастель, куда бежала Феодора. В последней ожесточенной битве с генуэзцами царица убивает изменника мечом, а после гибели в бою Константина также обагряет своей кровью скалы Кастели. – Т. М. Фадеева усматривает в образе Феодоры с ее двумя почитателями глубоко архаические черты, возводящие этот образ к языческому ритуалу сакрального брака Лунной богини с символическими королями, олицетворяющими сменяющие одна другую половины года: брак означал жертву, и на смену одному королю избирался второй. Мотив этот имел кельтское происхождение и, секуляризировавшись, получил впоследствии широкое распространение в культуре средневековой Европы (почитание Прекрасной Дамы). Т. М. Фадеева детально анализирует смыслы древней триады и делает далеко идущие выводы, на чем мы останавливаться не станем. Нам важна эта триада как таковая – женский образ с двумя мужскими фигурами слева и справа, – важна потому, что в ней можно распознать одну из ключевых парадигм судьбы Евгении Герцык.
Пока мы ограничимся лишь предварительным указанием на этот судьбоносный для Евгении треугольник, намереваясь в дальнейшем основательно проследить за развитием отношений внутри него. Речь идет о ее дружбе с Вяч. Ивановым (с 1905 г.) и Н. Бердяевым (с ним Евгения познакомилась в 1909 г.), которая была осложнена страстной влюбленностью Евгении в Иванова. Перипетии этой влюбленности, вообще детальное осмысление треугольника мы отложим на будущее. В данном же месте нашего исследования, – в связи с крымской тематикой и легендой о Феодоре, – отметим то, что Евгения, как и Феодора, имела дело с другом верным и другом – тайным врагом. Во-вторых же, в судьбе Евгении Бердяев и Иванов как бы знаменовали языческий и христианский полюса ее двойственного мировоззрения: Бердяев указывал ей на Христа, попутно отводя от чуждых соблазнов, – скажем, антропософии; Иванов же тянул в язычество собственного извода – прельщал Дионисом, вовлекал в спиритизм, гадания и хлыстовщину, смущал ее ум собственными планами религиозного реформаторства. – Но могут спросить: при чем же здесь тайная вражда? В сложных отношениях Иванова с Евгенией, ученицей и влюбленной в него женщиной, был один задевающий его амбиции момент: безграничное, казалось бы, его влияние внезапно наталкивалось на ее сопротивление – решимость, вопреки воле друга, отстаивать себя до конца. «Вы не менада», – раздраженно бросил однажды Иванов Евгении; он имел в виду то, что Евгении не было свойственно до конца отказываться от своей воли и разума (мы выше уже упоминали о данном эпизоде осени 1908 г.). Это случилось в ту пору их отношений, когда обоим надлежало открыть все карты, ибо ставились последние точки над i. И вот эта-то независимость, бытийственное самостояние Евгении и были причиной скрытой враждебности к ней Иванова. Манеры змея-искусителя (кстати, отмеченные многими, кто знал его) прекрасно маскировали действительные чувства Иванова к ближнему, но не смогли обмануть сердце любящее. Аделаида, воспринимавшая боль сестры как свою собственную, дала точнейшее определение Иванова в отношении Евгении – «злой друг». Мы имеем в виду ее стихотворение 1916 г., однозначно указывающее на Иванова воспроизведением и его внешнего облика:
Рифма, легкая подруга,
Постучись ко мне в окошко,
Погости со мной немножко,
Чтоб забыть нам злого друга.
Как зеленый глаз сверкнет,
Как щекочет тонкий волос,
Чаровничий шепчет голос,
Лаской душу прожигает
Едче смертного недуга.
Рифма, легкая подруга,
Все припомним, забывая,
Похороним, окликая.
Евгения знала о присутствии в ее судьбе данной триады. Размышляя о своем высшем призвании, она также возводила собственную жизненную ситуацию к объективному образцу. Однако для этой цели она привлекала, естественно, не легенду о судакской царице Феодоре. Сделавшись христианкой, она стала рассматривать в качестве ключа к собственной жизни, как это принято, житие своей святой покровительницы – преподобномученицы Евгении. И вот в сюжете этого древнего жития святую Евгению на ее пути неизменно сопровождают двое друзей – Прот и Гиацинт, которые в конце разделяют и ее мученичество. Анализ Евгенией Герцык жития святой Евгении содержится в ее интереснейшем автобиографическом и одновременно философском сочинении (повести? эссе?) «Мой Рим» (1914–1915). Однако Прот и Гиацинт, безликие в житии, и в интерпретации Евгении Герцык не обретают никаких этических и характерологических примет. Автор «Моего Рима» знает, что Прот и Гиацинт прообразуют Иванова и Бердяева, но она не склонна как-то противопоставлять их роли в ее судьбе. Подобно своей святой покровительнице, она одинаково относится к обоим – как к друзьям, «милым братьям»[72]. Глубокая христианка в середине 1910-х гг., она простила Иванову его соблазны, ложь и измену. Позади остался крымский разгул «злых страстей»; римское настроение пронизано лучами «солнца невидимого». Впоследствии эта настроенность на подвиг определит и судакскую жизнь сестер – когда «волей Бога» у людей будет отнят «насущный хлеб» (А. Герцык. Хлеб; 1922) и наступит совершенно новая для них экзистенциальная ситуация.
27
См.: Герцык Е. Воспоминания. С. 38.
28
Там же. С. 38–39, 57, 59 соотв.
29
Это сугубо относится к записям Е. Герцык лета 1908 г., отразившим ее общение с Ивановым в Судаке.
30
См.: Герцык А. Мои романы. С. 409.
31
Герцык Е. Воспоминания. С. 43.
32
Там же. С. 46.
33
Там же. С. 45.
34
Волошин М. Культура, искусство, памятники Крыма (1925) // Волошин М. Коктебельские берега. Симферополь: Таврия, 1990. С. 216.
35
См.: Герцык Е. Воспоминания. С. 48.
36
Волошин М. Культура, искусство, памятники Крыма. С. 218.
37
Подробно об этом говорится в нашей работе «Эстетика М. Волошина» (ВФ. 2007. № 1. С. 115–130).
38
Волошин М. К. Ф. Богаевский – художник Киммерии (1927) // Волошин М. Коктебельские берега. С. 220.
39
Герцык Е. Воспоминания. С. 45.
40
Волошин М. К. Ф. Богаевский – художник Киммерии. С. 220.
41
Проблема неоязыческих исканий в эпоху Серебряного века, вызванных феноменом Ницше, поставлена в нашей статье «Боги Греции в России» (ВФ. 2006. № 7. С. 113–128).
42
Герцык Е. Воспоминания. С. 46.
43
Там же.
44
Письмо Е. Герцык к В. Гриневич от 3 июля 1914 г. из Судака // Сестры Герцык. Письма. С. 536.
45
Герцык Е. Записные книжки (запись от 13 августа 1908 г.) // Герцык Е. Воспоминания. С. 206.
46
Герцык Е. Записные книжки (запись от 7 января 1909 г.). С. 215.
47
«Оставайтесь верны земле, братья мои, со всей властью вашей добродетели! Пусть ваша дарящая любовь и ваше познание служат смыслу земли! <…>
Не позволяйте вашей добродетели улетать от земного и биться крыльями о вечные стены! <…>
Приводите, как я, улетевшую добродетель обратно к земле, – да, обратно к телу и жизни, чтобы дала она свой смысл земле, смысл человеческий! <…>
Да послужит ваш дух и ваша добродетель, братья мои, смыслу земли; ценность всех вещей да будет вновь установлена вами! <…>
Все еще не исчерпаны и не открыты человек и земля человека…» (Ницше Ф. Так говорил Заратустра ⁄ Пер. Ю. М. Антоновского // Ницше Ф. Соч.: В 2 т. М.: Мысль, 1990. Т. 2. С. 55–56).
48
Герцык Е. Записные книжки (запись от 7 января 1909 г.) // Герцык Е. Воспоминания. С. 215.
49
Интимная, «приватная» религия Аделаиды Герцык подробно обсуждается в нашей книге о поэтессе.
50
См. нашу статью «С. Булгаков в Крыму», поднимающую данную проблему («Серебряный век» в Крыму: взгляд из XXI столетия. М.; Симферополь; Судак, 2005. С. 46–58).
51
Герцык Е. Воспоминания. С. 47.
52
Герцык Е. Воспоминания. С. 47.
53
См.: Иванова-Шипова О. И. Снос старого судакского кладбища: (Из воспоминаний директора заповедника «Судакская крепость») // «Серебряный век» в Крыму… С. 204–206.
54
Христианство, в логике книги Т. М. Фадеевой, не столько взрывает язычество, сколько наследует ему. В старые символы с приходом христианства вкладывается новое содержание; на местах древних святилищ строят церкви и монастыри, которые духовно питаются все от тех же природных источников энергии; языческий культ Великой богини трансформируется в почитание Богоматери. Такая авторская установка, с одной стороны, сближает книгу Т. М. Фадеевой с позитивистской мыслью, а с другой – придает ее концепции натурфилософский колорит. Однако методология исследовательницы достаточно органична и философски глубока. Местами уровень ее рассуждений приближается к некоторым квазиискусствоведческим построениям мыслителей Серебряного века (работы М. Волошина, П. Флоренского, Е. Трубецкого и т. д.).
55
Фадеева Т. М. Крым в сакральном пространстве. Симферополь, 2000. С. 34–35.
56
Там же.
57
Там же. С. 39.
58
Мне удалось побывать в этом горном святилище осенью 2006 г. Конечно, почитание Софии в Крыму никогда не опиралось на софиологическое богословие типа того, что было разработано русскими мыслителями. Думается, с одной стороны, здесь надо признать всплеск матриархальных религиозных интуиций, с другой – увидеть естественную ориентацию на Константинопольскую Софию: не станем забывать о том, что христианство пришло в Крым из Византии. – Но в мысли о том, что идея Софии все же как-то носится в крымской атмосфере, действительно что-то есть! Поделюсь с читателем одним наблюдением из своей практики крымской отдыхающей. На протяжении нескольких лет я проводила время своих крымских каникул в Кореизе, останавливаясь у благочестивой старушки Марии Ефимовны Банько – просфорницы одного из красивейших храмов Южного берега, пришедшей к вере не на волне перестроечной моды, а в самые глухие годы советчины. В лучшей комнате квартиры, что мне предоставлялась, был красный угол – нечто вроде иконостаса от пола до потолка, состоящего из бесчисленных, разных размеров и форм икон, иконок, картин, открыток, благочестивых изображений, крестов и крестиков, пасхальных яиц и т. д. Никакой особой системы в выборе и расстановке святынь хозяйка не соблюдала, кроме помещения в центр Христова образа. – И вот, вся эта постройка, как пирамида к вершине, сходилась к современной, кустарно оправленной в рамку цветной репродукции (стиль «постсоветский примитив»): огромная, во весь рост мученица София в голубом одеянии, распростертыми руками укрывающая под этой накидкой трех девочек – неестественно маленькие фигурки словно принадлежат существам иной природы, нежели их житийная мать. Приобретенная, по всей вероятности, где-то в глуши, икона святых мучениц, празднуемых 30 сентября, выглядит как изображение Софии Премудрости Божией. Увенчивая им свой пантеон (заметим еще, что икона Веры, Надежды, Любови и матери их Софии стоит в иконостасе М. Е. на образе Св. Троицы), добрая эта душа уж никак не вдохновлялась софиологической концепцией: не софийные ли духи тамошних мест управляли ее рукой, – точнее же, сердцем?
59
Фадеева Т. М. Крым в сакральном пространстве. С. 223.
60
Сошлюсь в связи с этим на некоторые свои работы по всегда занимавшей меня проблеме: это «Колыбель русской софиологии» (статья опубликована только по-немецки: Bonezkaja N. Die Wiege der russischen Sophiologie // Novalis. 1997. N 5. S. 13–17) и «София: метафизика и мифология» (ВФ. 2002. № 1. С. 112–116).
61
См.: Бонецкая Н. К. П. Флоренский: русское гетеанство // ВФ. 2003. № 3. С. 97–116.
62
Бонецкая Н. К. С. Булгаков в Крыму. С. 48.
63
Булгаков С. У стен Херсониса//Символ (Париж). 1991. № 25. С. 169.
64
Ср. слова С. Булгакова в письме к П. Флоренскому от 26 июля 1916 г. из Кореиза о том, что море «софийно. Но <…> морское волнение есть дурная бесконечность, и дурная бесконечность есть существенно женское начало (Ахамот)» (Переписка священника П. А. Флоренского со священником С. Н. Булгаковым. Томск, 2001. С. 112).
65
Дюбуа де Монпере Ф. Несколько слов о географии и древней истории крымского побережья ⁄ Пер. с фр. Т. М. Фадеевой // Фадеева Т. М. Крым в сакральном пространстве. С. 299.
66
Там же. С. 238–239.
67
Овидий. Письма с Понта. Кн. 3. П. Котте Максиму ⁄ Пер. 3. Морозкиной // Овидий. Элегии и малые поэмы. М.: Художественная литература, 1973. С. 455.
68
Фадеева Т. М. Крым в сакральном пространстве. С. 247.
69
Там же. С. 259. Автор цитирует фольклорную повесть о «Хищении венца Русова» – источник сведений для нее о Царь-Девице.
70
См. письма А. Герцык к В. Гриневич этого периода (Сестры Герцык. Письма. С. 99—106). Особенно важно для понимания данного стихотворения письмо от 6 февраля 1908 г. (с. 102–103), в котором Аделаида передает подруге разговор с «В. И. и А. М.», раскрывшими ей ее мистическое призвание.
71
Письмо А. Герцык к В. Гриневич от 9 февраля 1908 г. // Сестры Герцык. Письма. С. 104.
72
См.: Герцык Е. Мой Рим // Герцык Е. Воспоминания. С. 291.