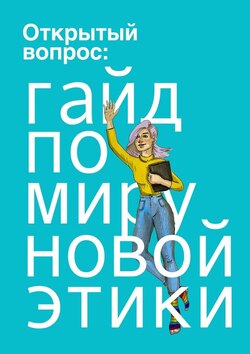Читать книгу Открытый вопрос: гайд по миру новой этики - Н. М. Горшенина - Страница 4
Часть 1. Эксперты о «новой этике»
Глава 2. Каковы особенности «новой этики» и ее языка?
ОглавлениеОксана Мороз, доцент Департамента медиа Факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ; кандидат культурологии. Автор «Блога злобного культуролога»
– Один из важнейших столпов «новой этики» – это интерсекциональность, то есть понимание того, что разговоры об уважении к другим и равенстве возможностей должны опираться на представления о множественностях разнообразия и о множественностях подходов к инклюзии. «Новая этика» – это в какой-то степени продолжение большой критической теории, только критическая теория была политико-академическим проектом, а сейчас все больше смещается в сторону активизма.
Здесь существует такая проблема: для того, чтобы практиковать интерсекциональный подход, нужно, что называется, «выйти из своей коробки». К примеру, у меня есть гендерная и этническая идентичности, которые, я точно знаю, могут являться причиной для дискриминации. И я понимаю, что могу уловить сочетание этих дискриминаций, когда я их вижу, даже по отношению к другому человеку. Но я не особо сталкиваюсь, допустим, с эйджизмом, соответственно, он выпадает из моего интерсекционального взгляда. Или, например, я, как и очень многие российские граждане, имплицитно не сталкиваюсь с расизмом как он есть, скорее, с этнофобией и ксенофобией, поэтому вещи, связанные с ним, я тоже могу не видеть. Это естественные ограничения, которые проистекают из того, что у нас есть и привилегированность в каких-то элементах, и потенциал для дискриминации нас самих в других.
Для того чтобы стать по-настоящему интерсекциональным, нужно нарастить чувствительность в тех сегментах, в которых ты привилегирован. Это дико тяжело, потому что наше воспитание, социализация и все предрассудки базируются на имеющихся привилегиях. Даже если мы знаем, что они сильно мешают нам действовать по отношению к другим равным образом, у нас все еще есть когнитивные искажения, которые смещают наше поведение. Поэтому каждый раз, когда я наблюдаю споры вокруг чего-то, что называется «новая этика», я вижу, как люди, только что стоявшие на либеральных или леволиберальных позициях, внезапно превращаются в людоедов по какому-то параллельному вопросу.
Есть хороший пример из реальной практики. Люди выступали против реновации в определенных районах, потому что им казалось это отчуждением их права на распоряжение частной собственностью (в общем-то, часто это так и есть). По сути, это гражданская ответственность за городское пространство и признание себя политическими субъектами, что хорошо укладывается в новые этические параметры. А потом в эти районы пришла питерская «Ночлежка», которая захотела открыть свой штаб в Москве. И те же самые люди, которые вели акции против реновации, теперь выступили против того, чтобы вот эти – дальше цитата – «вонючие бомжи» ходили рядом с садами, школами и кварталами, где живут люди.4 Удивительная история, потому что если ты уже чувствителен к соблюдению прав, то по-хорошему ты должен понимать, что субъектами права по умолчанию являются все. Этот случай показывает, что невозможно быть выразителем «новой этики» на сто процентов: в каких-то моментах ты всегда будешь смещаться, потому что у тебя есть bias [«предубеждения» – прим. ред.], которые не дают возможности посмотреть на все абсолютно отрешенным и инклюзивным взглядом.
Если говорить о каких-то терминах «новой этики», то, наверное, нет смысла углубляться в частные понятия, которые работают в разных видах дискриминации. Достаточно сказать, что само слово «дискриминация», и, например, слово «угнетение» – это понятия из «новой этики». «Толерантность», «инклюзия», «инклюзивное поведение», «инклюзивный язык» – это все тоже оттуда.
Дальше начинаются различные нюансы. Если мы говорим, к примеру, о дискриминации, то она бывает «позитивная», «обратная», «косвенная» и так далее. Эти понятия можно идеологически не принимать и спорить, есть ли вообще штуки, которые ими описываются, но сами-то слова существуют. Если же мы говорим про инклюзию, то к ней тоже существуют разные подходы: вы можете делать ставку на то, что нужно максимально видеть различия, а можете, наоборот, использовать blind подход [«слепой подход» – прим. ред.] и за счет этого строить принятие всех. Кроме того, есть вещи частного порядка, например, какие-то типы поведения, которые связаны с борьбой за «новую этику», вроде «кэнселинга», «cancel culture» [«культура отмены» – прим. ред.].
Мне кажется, что базовым словарем «новой этики» оказывается словарь современной фем-оптики, причем далеко не всегда исследовательской, а чаще активистской. Допустим, есть понятие «культура силы», у которого нет академического расширения, но оно настолько часто встречается, что действительно кажется концептуально важной штукой. Также в словаре «новой этики» появляются какие-то элементы современного левого и, скорее, американского дискурса, в большей или меньшей степени радикального. Само по себе это не хорошо и не плохо, но необходимо понимать, что это работает в определенном контексте. Условно говоря, те слова, которые можно найти в манифестах Black Lives Matter5, контекстуальны, то есть они произносятся в связи с определенными событиями. Их перенос, скажем, на российскую почву кажется довольно проблемным, потому что наши реалии сложно перекодировать в эти понятия.
Тем не менее составить общий словарь «новой этики», кажется, довольно сложно, в том числе потому, что он будет постоянно обновляться ровно до того момента, пока мы не успокоимся и не скажем: «Окей, давайте уже перестанем называть этой „новой этикой“, давайте, например, назовем это программами по наращиванию инклюзивного отношения и пойдем дальше». Как в свое время мы договорились, что у нас был проект мультикультурализма, и пошли дальше.
Дарья Литвина, научный сотрудник факультета социологии (программа «Гендерные исследования») ЕУСПБ
– Здесь стоит спросить, понимаем ли мы с вами одно и то же под «новой этикой». Мне кажется, что «новая этика» – это требование вокализации проблем, которые испытывают на себе группы с определенными конфигурациями гендера, возраста, этничности, класса. То есть это интерсекциональная история про власть и различия (классический проблемный конструкт – «молодая женщина в подчинении и немолодой мужчина – начальник, которые вступили в сексуальные отношения»). А сексуальность – это та сфера, в которой очень подвижны границы приватного и публичного, допустимого и недопустимого, «аморального» и «нравственного». Именно в этой плоскости дискуссии принимают особенно острые формы, и поэтому «новая этика» часто становится синонимом обсуждения харассмента и ассоциируется с интересами молодых женщин образованного среднего класса. Однако это не совсем справедливо: например, поднимаемые проблемы могут быть близки людям с «привилегированными позициями» и непонятны тем, кто рутинно проживает подобный опыт.
«Новая этика» – это во многом про идентичность и субъектность: насколько мы, как нам кажется, можем устанавливать границы и нормы, насколько мы чувствуем себя агентными в их определении или, наоборот, подчиняемся внешним правилам и власти, которая за нас их устанавливает.
Анастасия Новкунская, доцент факультета социологии и научный сотрудник программы «Гендерные исследования» ЕУСПБ; PhD in Social Sciences
– Здесь есть концепция терапевтического поворота и есть категория «эмоционального капитализма», которую прекрасная исследовательница Юлия Лернер дополнила концептуально и контекстуально, введя категорию «эмоционального социализма». Я не специалист в этой теме и, наверное, не могу хорошо и логично объяснить, почему существует такой поворот, но я могу предложить объяснительную модель с точки зрения своей профессиональной перспективы.
В рамках социологии медицины и социологии профессий, которыми я занимаюсь, есть такое понятие как «медикализация» – процесс, при котором какие-то явления, ранее описывающиеся исключительно как социальные или религиозные проблемы, в определенный момент начинают рассматриваться как медицинские патологии. Как я понимаю, психологизация – это приблизительно тот же процесс в историческом измерении, когда мы начинаем объяснять некие социальные феномены чаще с точки зрения психологии.
Это может быть связано с влиянием и ростом экспертизы сообщества психологов: их становится больше, они эффективнее работают и постоянно пытаются обозначить свою профессиональную юрисдикцию. И чем активнее это сообщество будет прикладывать усилия, чтобы какой-то комплекс проблем назывался именно «психологическим», тем они будут успешнее как профессиональная группа. Возможно, это одна из причин терапевтического поворота, но далеко не единственная.
Елена Омельченко, профессор Департамента социологии и директор Центра молодежных исследований НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге; доктор социологических наук. Редактор книг «В тени тела» и «PRO тело. Молодежный контекст»
– Как таковые этические нормы и преставления о допустимом и недопустимом, приличном и неприличном, возможном и невозможном всегда были очень подвижными. Сейчас неписаные правила, которые рассматриваются в определенных кругах, отвоевывают себе право на то, чтобы стать некой рамкой в отношении гендерного фокуса. Одним из центров обсуждения или попыток достижения какого-то компромисса становятся особенности взаимоотношений мужчин и женщин (женщин и женщин; мужчин и мужчин), в основе которых лежит представление о нормативности и предписанных правилах, закрепленных в культуре того или другого народа, страны, класса и так далее во временном разрезе.
На мой взгляд, особенно у нас, в России, на фоне консервативного поворота происходит определенная революция, когда гендерные изменения становятся чрезвычайно важными для самоопределения в отношении своего круга, компании, близких. По крайней мере наши исследования показывают, что для молодежи это очень важный момент разграничения своих и чужих.
Я, конечно, не психолог (хотя вольно или невольно какие-то психологические вещи мы затрагиваем), но могу сказать, что психологизация языка – это следствие возрастающей значимости субъектности, которая подогревается многими вещами у всех участников процесса коммуникации. Одна из причин – широкое развитие информационных сетей, в которых все более значимым и востребованным становится голос человека. Где голос, там и субъектность. Это ведет к популярности саморепрезентации, эксклюзивности, особости, непохожести – все это тренды уже не первого поколения молодежи.
Субъектность сразу же ставит вопрос о телесных и интеллектуальных границах. Одни из ключевых слов здесь – «обесценивание» и, конечно, «травма». Если человек чувствителен к обесцениванию, то любой намек на это вызывает травму.
Мы наблюдаем, например, что та же молодежь достаточно сложно переживает пандемию: она чувствительна к испытаниям и больше готова реагировать на требования контроля и безопасности. Вопросы здоровья, экологии, субъектности, личной агентности и права на изменение очень важны для них, и если что-то или кто-то мешает и не признает этих вещей, то они переживают это крайне болезненно.
4
«Нравственный провал»: как активисты не дали открыть прачечную для бездомных // svoboda.org
URL: https://www.svoboda.org/a/29472862.html
5
«Афроамериканцы, я люблю вас»: Кто основал движение Black Lives Matter // wonderzine.com URL:
https://www.wonderzine.com/wonderzine/life/life/250857-black-lives-matter