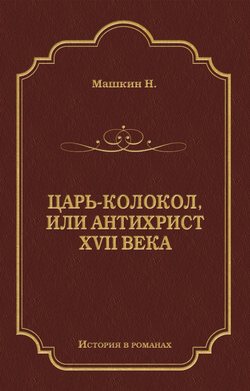Читать книгу Царь-колокол, или Антихрист XVII века - Н. П. Машкин - Страница 2
Часть первая
Глава первая
ОглавлениеТяжко страдало во времена междуцарствия любезное русским отечество, угнетенное самозванцами, нашествием чужеземцев и боярскими смутами. Нужен был мудрый кормчий, чтобы государство, погибавшее в волнах безначалия, как корабль в бурном море, вошло в безопасную гавань и уврачевало свои раны. Таким кормчим избрало Провидение и глас народа Михаила Федоровича Романова. Он защитил Россию от набегов иноплеменных, смирил боярские распри и восстановил гражданский порядок. Мудрый преемник его, Алексей Михайлович, следуя во всем по стопам своего родителя, еще более скрепил узел благоденствия нашего отечества.
В его царствование селившиеся в Москве во множестве иностранцы теснее сблизили русских с Европою, и россияне начали мало-помалу, незаметно для самих себя, не только заимствовать от иноземцев просвещение, но и перенимать самые обычаи. Во второй половине царствования Алексея Михайловича Россия, огражденная извне, уврачеванная внутри, наслаждалась бы полным спокойствием, если бы не тревожили еще ее война с Польшей, раскол, явившийся в нашей церкви и вслед за тем неудовольствия, возникшие между боярами и патриархом Никоном, вследствие которых последний вынужден был удалиться от своей паствы во вновь построенный им Воскресенский монастырь.
Москва, стольный град царства русского, принимавшая на себя всегда, как нежная мать, раны, наносимые отечеству, и вытерпевшая столько осад, пожаров и разрушений, отдыхала в эту эпоху от прежних треволнений, заселялась, ширилась, украшалась множеством зданий и церквей. Она не была уже, как прежде, частичкой Суздальского княжества, не дробилась на трети, не делилась своей знаменитостью с городами Владимиром и Киевом, а Великий Новгород не заглушал славы ее своим вечевым колоколом, и всякий видел тогда, что это был уже стольный град огромного царства русского! Сорок сороков златоверхих церквей московских были всегда полны народом; «купецкие» ряды и рынки завалены товарами, привезенными из всех стран света; по улицам скакали, с утра до вечера, царские гонцы; тянулись величественные процессии; стройно проходили стрелецкие полки…
1665 года, мая в восьмой день, с раннего утра Красная площадь и примыкавшие к ней улицы Ильинская и Тверская, вплоть до Тверских ворот, залиты были народом, который едва могли сдерживать стрельцы, расставленные по обеим сторонам улиц и наблюдавшие, чтобы середина их оставалась свободною для проезда гонцов и царских сановников. Толпы сжимались теснее по мере приближения к посольскому дому, величественно возвышавшемуся над прочими смежными зданиями. Чтобы судить о значительности этого дома, нужно знать, что он был каменный, а это в эпоху, когда начинается настоящий рассказ, считалось делом большой важности. Посольский дом этот был не более как обширное двухэтажное здание с маленькими, узкими окнами, с крутой крышей и пространной деревянной светлицей, возвышавшейся над его серединой, без всякой, впрочем, затейливости. Единственным наружным украшением дома были два огромных крыльца из белого камня, с навесами, поддерживаемыми фигурными столбами. Впрочем, и этими украшениями нельзя было любоваться постоянно, так как оба крыльца выходили на двор, а ворота посольского дома были почти всегда заперты, по крайней мере смотреть за этим составляло обязанность особой стражи. В настоящее время ворота эти были отворены настежь, и любопытные зрители могли видеть не только крыльца, но и множество всадников в богатых одеяниях, наполнявших двор и окружавших великолепную колесницу с балдахином, украшенным страусовыми перьями, заложенную шестернею белых лошадей в вызолоченной сбруе.
– Экая теснота, народу словно пчел в улье набралось, – сказал, отдуваясь и покрякивая, видный собою купец суконной сотни Иван Степаныч Козлов, вырвавшись из толпы на более просторное место и обтирая полою охабня лицо, увлажненное обильными каплями пота. – Федор Трофимыч, здравия и благоденствия желаю, – продолжал он, обращаясь к стоявшему невдалеке худощавому человеку в запачканном однорядке. – Вот уж подлинно справедливо говорит пословица: «Гора с горой не сходится, а человек с человеком сойдется!» Давно я тебя не видал, родимый.
Худощавый человек, к которому относились слова Козлова, не мог похвалиться, чтобы природа щедро одарила его наружною красотою: желтое от рождения лицо его, несмотря на нестарые лета, было покрыто множеством мелких морщин, что придавало ему сходство с высохшим спелым огурцом, оставленным для семян дозревать на солнце; а огромное количество веснушек, рассеянное по этим морщинам, поставило бы в тупик любого школяра заиконоспасской академии, если бы заставили его сделать им хотя приблизительный счет. Серые зрачки глаз этого господина, беспрестанно перебегавшие во все стороны, выражали чрезвычайную хитрость, несмотря на привычку поминутно щурить глаза, вероятно с намерением, чтобы посторонний не мог прочитать в них никакого выражения. Наконец, рыжие всклокоченные волосы на голове и жиденькой бородке довершали его безобразие. Это был дьяк Федор Трофимыч Курицын. Услышав голос Козлова, он, вероятно, изъявил намерение улыбнуться, потому что рот его с тонкими посинелыми губами, имевший обыкновенно форму защипанного пирога, растянулся при этом почти вплоть до ушей и, таким образом, открыл два ряда искривленных зубов болотного цвета…
– А, и ты, Иван Степаныч, пожаловал сюда, – отвечал дьяк, обращаясь к Козлову.
– Как же, родимый, не без того. Да уж, правду сказать, насилу добрался, до сих пор еще локтей распрямить не могу. Что, кормилец, здесь за невидаль такая, и к чему народ бежит со всех концов Москвы, словно на пожар? Уж не ведут ли пленных из Польского царства?
– Каких пленных. Сегодня выезжает из этого дома Яков Борель, «Посол от высокомочных господ штатов генерал, славных, единовладетельствующих вольных соединенных Нидерландов», кажись, так он был назван в отпускной грамоте от царя. А приезжал сюда Борель вот, видишь ли, зачем…
– Э, знаю. Сказывал мне батька, что он хлопотал в большой думе, чтобы она позволила их голландским купцам торговать в Москве всеми товарами, а наш брат, купец суконной сотни, чтобы в ряды и глаз не показывал. Еще говорила братия, что поганым голландцам хотелось выстроить в Кремле еретическую их церковь, а Успенский и Архангельский соборы срыть до основания. Да нет, не удалось чернокнижникам! Наш великий государь хоть и во многом золит немцам, а на это не хотел дать своего царского слова. Они, окаянные, думали, ехавши сюда, что им поможет патриарх Никон, который впал в их еретичество, а того не знали, что ему самому туго приходится: недаром послал он из своего Воскресенского монастыря грамоту к цареградскому патриарху Дионисию…
– Что ты, какую грамоту? Отойдем-ка, Иван Степаныч, немножко в сторону, вот хоть в тот переулок, а то здесь больно людно, нельзя ничего расслышать. Ну так про какую ты грамоту начал говорить? – спросил Курицын, когда они отдалились несколько от толпы.
– Эх, Федор Трофимыч, – сказал Козлов с замешательством, оглядясь кругом, – начал я тебе рассказывать, да и не рад: дело-то это больно тайное! Ну да тебя я давно знаю, ты ведь у нас из избы сору не вынесешь. Только все бы мне надобно быть повоздержаннее, а то наткнешься на другого ненароком, да как примут к допросу: от кого-де узнал, так тут и не развяжешься? И то мне раз батька при всей братии наказывал, чтобы я придерживал язык, а то-де доведешь, говорит, и себя и нас до плахи. Ну так вот, видишь ли, Никон-то думал все, что царь помирится с ним, а теперь, как проведал, что зовут в Москву вселенских святителей судить его, так он и вздумал послать к цареградскому патриарху Дионисию грамоту, в которой просят, чтобы тот заступился за него пред Алексеем Михайловичем, зная, что царь питает к Дионисию большое уважение. Да ведь уж теперь Никону ничего не поможет: видно пришла волку и волчья смерть! Батька говорит, что не позволят довести грамоту Никона в Царьград.
– Экие чудеса делаются на свете, – сказал с удивлением дьяк, покачав головою и смотря своими рысьими глазами прямо в лицо Козлову. – Подумаешь, как тебя наградил Господь Бог талантом красно рассказывать: слушаешь тебя, так словно медовая сыта в сердце льется! Только вот что, Иван Степаныч, – прибавил он, будто в размышлении, – о каких это братьях и батьке ты все говоришь? Я что-то в толк не возьму?..
– Эка, проклятый язык у меня! – вскричал Козлов, всплеснув руками. – Ничего-таки не удержится! Уж когда-нибудь доведу себя до петли. Ладно, что еще тебе проболтался, а то, чего доброго, – прошептал он взглянув исподлобья на стороны, – подслушал бы какой-нибудь дьяк из Тайного приказа, тогда и поминай, как звали, замучили бы на пытке.
– И впрямь бы тебе, Иван Степаныч, об своей родне-то не говорить встречному и поперечному. Что греха таить перед тобой: ведь я сам теперь служу дьяком в Тайном-то приказе.
Если б удар грома разразился вдруг возле Козлова, он бы испугался менее, нежели услышав эти ужасные слова. Он побледнел как полотно и затрясся всем телом.
– Батюшка, не погуби! – вскричал купец, упав в ноги Курицыну. – Заставь за себя Богу молиться.
– Добро, добро, встань, Иван Степаныч, лежачего не бьют, а виноватого и Бог простит, – сказал с хитрой улыбкой Курицын. – Мы с тобой сызмала знакомы, так для тебя можно и покривить душой; только в другой-то раз ты держи язык за зубами. Нынче, брат, других слушай, а сам смалчивай. Вот хоть бы, к примеру сказать, попался бы мне теперь вместо тебя кто-нибудь другой? Как попробовал бы его в застенке Тайного приказа горячими клещами поразгладить, либо за ногти иголки загнать, али суставцы повыправить, так хоть бы отродясь немой был, разговорился бы, словно на пиру веселом. Да ты что дрожишь, Иван Степаныч?
– Та-ак, батюшка, что-то прозяб, кажись, – отвечал, заикаясь, Козлов, с которого пот катился градом.
– Экая беда! Опять прореха, а однорядок, почитай, совсем новый, – сказал как будто про себя Курицын, рассматривая рукав своей поношенной одежды, и потом, обращаясь к купцу, спросил: – А что, Иван Степаныч, ты по-прежнему тонкими сукнами торгуешь? Чай, и английские водятся?
– Как же, родимый, – отвечал Козлов, поняв, о чем шла речь, – есть и английские. Остался у меня один кусок кармазинного цвета, ну хоть сейчас на боярскую ферязь! Коли позволишь принять, так челом тебе бью им, батюшка!
– Спасибо, спасибо, Иван Степаныч, я всегда считал тебя за доброго человека; только язычок-то у тебя больно того, слабенек. А что ты по-старому живешь в своем доме здесь, в Китай-городе?
– Там же, кормилец. Да я, если прикажешь, сам занесу тебе поминок-то мой, на дом…
– Ладно, ладно. Вот и видно, что старый друг, а такой друг лучше новых двух, говорит пословица. Ну, прощай, Иван Степаныч. Порастабарил бы с тобой, да дел больно много. Вот и теперь, видишь ли, там, на углу улицы, разговаривают два немца-нехристя и о чем-то ухмыляются: смешно, видно, больно показалось. Одного из них, что повыше, я знаю: он служит аптекарем в царской аптеке и прозывается Иоганном Пфейфером; а другого, кажись, не видывал. Пройти мимо них да прислушаться, будто ненароком: авось что-нибудь путное набежит.
И Курицын, распрощавшись с Иваном Степанычем, пошел кошачьей поступью к немцам, а полумертвый от страху Козлов, едва только оставил его дьяк, бросился опрометью бежать по переулку.
В некотором отдалении от толпы стояли два иностранца, оба приятной наружности. Один из них высокого роста, лет двадцати трех, был особенно хорош собою. В больших голубых глазах его выражалась какая-то необыкновенная привлекательность, а маленькие усики и густые темно-русые волосы, выбегая пышными кудрями из-под черного бархатного берета, придавали еще больше приятности лицу иноземца. Коротенькая цветная епанча, накинутая на одно плечо, ловко драпировалась над атласным полукафтаньем, спускавшимся до колена и стянутым кожаным поясом. Другой молодой человек, пониже своего товарища, был смуглее его лицом, но правильность лица и какая-то задумчивость, выражавшаяся во всех чертах, располагали в его пользу. Они громко говорили по-голландски, не обращая внимания на подкравшегося к ним Курицына, который, послушав их несколько минут, плюнул с досадой и пошел дальше, проворчав сквозь зубы:
– Уж и видно, что нехристь поганая: прах их знает, по-каковски говорят! Чай и сами друг друга не понимают, а только вот так, будем-де язык ломать, назло православным христианам.
– Обнимемся еще раз, любезный Брандт, – сказал по-голландски мужчина, сжимая своего товарища в объятиях. – Мог ли я предполагать, – продолжал он, что увижусь когда-нибудь с тобою здесь, в холодной Московии, чуть не на краю света. Смотрю на тебя и не верю своим глазам: как? ты, лучший корабельный мастер амстердамской верфи, с малолетства занимавшийся постройкою кораблей, хлопотавший только о планах и моделях их, бросаешь вдруг свои любимые занятия и являешься сюда, передо мной, как выходец с того света! Сужу, по крайней мере, так по тому, что вижу тебя здесь, в московитском государстве, где не только не умеют строить кораблей, но и не имеют в них надобности, довольствуясь своими дрянными судами и барками…
– Правда, – отвечал Брандт, – что жители Московии не научились еще строить кораблей, но из этого не следует, чтобы они не нужны были для них, и в доказательство того ты видишь меня перед собою.
– Как! – вскричал с удивлением Пфейфер. – Так поэтому ты не бросил своего корабельного мастерства.
– Напротив, – отвечал его товарищ, – пристрастился к нему более, нежели когда-нибудь, и приехал сюда затем, чтобы учить ему других. Нынешний московитский государь понял очень хорошо, сколько теряет такое могущественное государство, как его, не имея морской силы; и вот я призван сюда, чтобы положить ей основание. Русские переимчивы и упорны в достижении своих целей. Почему знать, может быть, первый построенный мною бот будет дедушкой русского флота! Меня звали сюда не для мелких судов: правительство здешнее требует, чтобы я построил корабль, которому уже дано имя. Первенец мой будет называться «Орлом»…
– Желаю, от души желаю тебе успеха, хотя признаюсь, не поверил бы, если бы не видел своими глазами, чтобы ты мог оставить когда-нибудь наше прекрасное отечество! Каким образом тебя отпустили мать, сестра?
– Мать моя умерла вскоре после твоего отъезда, – отвечал Брандт с тяжелым вздохом, – а сестра переехала на житье к дяде в Саардам.
Оставшись один как перст в Амстердаме и получив приглашение от русского посла ехать в Московию, я мигом собрался в дорогу. Русские, сколько я успел с ними познакомиться, народ добрый и принимают с охотою нас, иностранцев. У них много серебряных рублей, а у нас умения и искусства: что же, поменяемся тем и другим и разойдемся. Тогда Бог даст, и у моей сестры Маргариты будет хорошее приданое!
– Правда, – сказал Пфейфер, – русские охотно принимают к себе иностранцев, полезных для них своими знаниями, но зато нужно иметь лукавство самого демона, чтобы получить позволение выехать из московитского государства и возвратиться в отечество. Иноземцев, которые им не понравятся, они попросту выпроводят сейчас же из Московии; но кто из нас успеет оказать услугу, тот приобретает здесь все: богатство, уважение… но теряет свободу. За то и нужно быть хамелеоном, чтобы уметь держать себя, потому что подозрительность русских к иностранцам превосходит всякие границы. Я расскажу тебе, кстати, анекдот, случившийся здесь с врачом Стефаном фон Гаденом, из которого ты увидишь, до чего простирается их недоверчивость. В числе пленных, привезенных из Польши, был здесь польский генерал Гозиевский, который, сделавшись больным, просил, чтобы ему прислали медика. Фон Гаден явился и, расспросив о болезни, велел ему принимать известное медицинское средство – кремортартар. Офицер, стерегший генерала, услышав название лекарства, повторенное несколько раз, вообразил, что между врачом и пленником идет речь о крымских татарах, с которыми тогда воевали русские, и донес о том боярину Милославскому, управлявшему аптекарским приказом. Фон Гадена немедленно засадили в Тайный приказ и приступили к допросу, и хотя несчастный успел как-то доказать, что говорил только о лекарстве, а не о враге московитов, но тем не менее остался с того времени под всегдашним присмотром здешней полиции.
– Анекдот этот довольно забавен, – отвечал Брандт, – но доказывает только одно, что всем иностранцам нужно вести себя здесь осторожно, чтобы не возбуждать подозрения русских…
– Да в том-то и дело, – прервал Пфейфер, – что они не отличают иностранцев одного от другого и называют всех одним общим именем: немец. Я сам, при всей моей осторожности, был замешан, вскоре по приезде, в нескольких историях, подобных рассказанному мною анекдоту, и умел выпутаться только благодаря покровительству некоторых сановников, которым успел оказать врачебную помощь. Особенно расположен здесь к иностранцам царский любимец, думный дворянин Матвеев, человек весьма умный и сведущий, которого за его доброту и я готов называть вместе с прочими «благодетелем народа». Даже посланники не пользуются здесь никаким доверием, и с ними обходятся еще с большей строгостью, нежели с другими иностранцами. С самого приезда в Москву и до выезда держат их взаперти, едва дозволяя прогуливаться по улицам, и то под строгим караулом, который запрещает им малейшие разговоры с кем-либо посторонним. Поверишь ли, что вот теперь, с января месяца, то есть с самого приезда нашего посланника, я ищу случая увидеть его, чтобы попросить переслать к дяде в Саардам это письмо, которое нарочно всегда ношу с собою и, несмотря на все усилия мои, не мог до сих пор найти к тому случая. Вот разве сегодня при выезде успею передать ему, хотя и тут вперед уверен, что без какой-нибудь истории не обойдется. Да вот и теперь уже мимо нас прогуливается один молодец, которого приятное ремесло заключается в подслушивании народных толков и потом в клеветах на невинных, которых ему вздумается очернить для своей пользы. Это дьяк Тайного приказа Курицын, имеющий честь исправлять, сверх своего ремесла, у боярина Семена Лукьяныча Стрешнева обязанность ищейной собаки…
Раздавшийся у ворот посольского дома барабанный бой, дававший знать о скором выезде посланника, прекратил разговор наших знакомцев и принудил Пфейфера оставить своего товарища, чтобы пробраться поближе к дому. По этому сигналу стрельцы стройно выровнялись в рядах, а окольничие, стольники и несколько бояр, назначенных для почетных проводов посланника из города и разъезжавших до того без порядка по улице на лихих своих аргамаках, собрались у ворот дома в ожидании выезда.
Шествие открылось посольскими людьми в сопровождении двух трубачей. За ними следовал отряд боярских детей и придворных чинов, сидевших на красивых конях персидской породы, которые были обвешаны серебряными цепочками; на придворных чинах и боярских детях были надеты богатые одежды по образцу польских кафтанов. Далее ехало несколько бояр в великолепнейших нарядах из золотой парчи и бархата, с украшениями из жемчужных кистей, в высоких бобровых шапках. Дорогие кони, красовавшиеся под ними, имели на головах алые и белые страусовые перья и были покрыты разноцветными попонами. Наконец показалась посольская карета, на серебряных цепях, с вызолоченными колесами, в которой сидел посланник с двумя приставами и переводчиком. Шествие замыкалось посольскими служителями и трубачами.
– Господин посланник, удостойте выслушать просьбу подданного вашего государя! – громко вскричал Пфейфер, едва только карета поравнялась с местом, на котором стоял он.
Борель велел остановиться, несмотря на усиленные просьбы приставов продолжать путь, и, подозвав Пфейфера, спросил, что ему надобно. Аптекарь объяснил причины, заставившие его просить об остановке, рассказав, сколько времени он тщетно старался увидеть его, и, получив уверение посла в доставлении письма по адресу, вручил его Борелю.
Поезд двинулся.
– А что это, сиречь, за цедулу отдал ты в руки послу? – вскричал Курицын, вдруг, будто из-под земли, явившийся перед Пфейфером.
– А для чего бы, например, нужно было это тебе ведать? – спросил с улыбкой Пфейфер по-русски, потому что, проживая несколько лет в Москве, успел уже хорошо освоиться с русским языком.
– А хоть бы для того, чтобы на случай знать, – отвечал дьяк.
– Эх, любезный, – возразил Пфейфер с усмешкой, – вспомни вашу пословицу: много будешь знать, скоро состаришься. И без того ты не больно красив, а как появятся еще у тебя на лице морщины от старости, так тогда, голубчик, хоть сейчас же станови тебя на горох, вместо чучела!
– Слово и дело! – закричал Курицын неистовым голосом, порываясь схватить Пфейфера за руку, но тот преспокойно, отвернувшись от него, скрылся в толпе, которая, видя неистовство дьяка, нарочно сжалась, чтобы не допустить его до преследования.
– Счастлив ты, немец, что за тебя есть кому заступиться, а то бы я показал тебе, что значат застенки в Тайном приказе, – проворчал сквозь зубы Курицын, спеша избавиться от преследования мальчишек, которые кричали ему вслед, бросая комками грязи:
– У! Красный таракан! Что, взял?