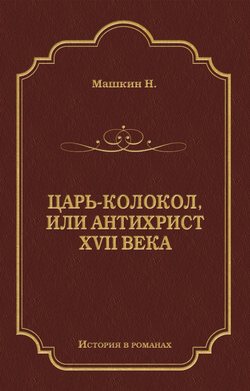Читать книгу Царь-колокол, или Антихрист XVII века - Н. П. Машкин - Страница 4
Часть первая
Глава третья
ОглавлениеСолнце давно уже скрылось с небосклона, и на улицах московских царствовала совершенная тишина, нередко только прерываемая лаем собак и голосами решеточных приказчиков, принуждавших гасить огни, которые мелькали еще в иных домах через напитанные маслом холстины; но яркий свет, падавший на землю из небольших окон довольно обширного дома в одной из улиц Китай-города, и отворенные обе половины ворот доказывали, что в нем происходило что-нибудь особенное. В самом деле, хозяин дома, купец суконной сотни Иван Степаныч Козлов праздновал день своих именин.
В пространном покое, окруженном со всех сторон лавками, покрытыми коврами, беседовало человек десять друзей Ивана Степаныча. Несколько пустых фляжек, стоявших на столе, а всего более разрумяненные лица некоторых из посетителей доказывали радушие хозяина и вежливость собеседников, которые, вероятно из угождения имениннику, не отказывались от заздравных кубков, и хотя беседа шла пока еще чинно, но шуточки и веселые поговорки, возбуждаемые хмелем, уже начинали проскакивать у более усердных поклонников старого меду и романеи. Особенно словоохотлив был на рассказы один из гостей небольшого роста, но необъятной толщины, которого нос, принявший форму и цвет махрового мака, доказывал, что такого рода препровождение времени было для него весьма обыкновенно. Маленький рост его и довольно простоватое лицо делали большую противоположность с важною миною, которую он старался себе придать. Занимаемое им под самыми образами место и внимание, оказываемое прочими собеседниками к его словам, доказывали уважение, которым он пользовался: это был жилец, Никита Романыч Кишкин, бывший два года назад в числе прочих при посольстве боровского наместника Лихачева во Флоренции. По правую руку, несколько в отдалении от него, сидел худощавый, высокий мужчина, пользовавшийся также, по-видимому, немалым уважением хозяина. Стоявший перед ним недопитый кубок с взварцем показывал, что он менее прочих собеседников был виновен в опустошении хозяйских сулей и фляг; зато в нем и не видно было обыкновенных последствий вина – говорливости. Но, несмотря на молчание, черные проницательные глаза худощавого мужчины, как будто в противоположность с неподвижностью языка, обращались беспрестанно с большею внимательностью во все стороны, а короткие ответы, которые он подчас давал вопрошавшим его иногда вдруг с разных сторон собеседникам, доказывали отличный его слух, различавший в общем шуме, о чем идет речь во всяком отдельном кружке. Узкий однорядок черного цвета, сшитый по особому покрою, и широкий кожаный кушак давали знать, что этот худощавый гость принадлежал к числу бывалых людей. Бывалыми людьми назывались у наших предков люди, ходившие на поклонение в отдаленные места, славившиеся своими святынями, и преимущественно в Иерусалим, за что они пользовались особым уважением своих сограждан, как лица, видевшие свет и приобретшие более житейской опытности в многотрудных своих странствованиях. По обеим сторонам описанных нами гостей Ивана Степаныча заседали по лавкам прочие друзья его, вероятно, уже не столь значительные в глазах хозяина. Наконец, возле двора, в самом углу, противоположном образам, сидел молодой человек с несколько, по-видимому, болезненным, но чрезвычайно приятным видом. Бледное лицо его, на котором только по временам вспыхивал нежный румянец, разительно отличалось от большей части собеседников, лица которых уподоблялись цвету зрелой малины, а большие голубые глаза молодого человека, не выражавшие никакого участия к окружающим, и частое склонение на грудь головы, осененной темными густыми кудрями, доказывали, сколь неприятна была для него беседа, в которой он находился. По всему видно было, что молодой человек, погруженный в собственные размышления, мало обращал внимания на рассказ жильца Кишкина, который слушали все прочие с крайним любопытством, но некоторые долетавшие до него слова рождали на лице юноши какую-то горькую улыбку. По временам, однако, глаза его вспыхивали и все внимание напрягалось, чтоб вслушаться в рассказ; тогда он весь обращался в слух; но проходила минута, и он снова погружался в задумчивость.
– Ну исполать тебе, Никита Романыч, – вскричал хозяин, когда Кишкин окончил рассказ о кораблекрушении, которое претерпело посольство близ Ливорно, – натерпелся ты, мой батюшка, в поганой басурманской земле, как еще косточки-то свои вынес. Что если бы тебе, Алексеюшка, – продолжал он, обращаясь к молодому человеку, – пришлось ехать каким-нибудь образом к басурманам? Что бы сталось с тобой, если ты и к крестному-то отцу раз в год ленишься зайти?
– О, если б это было возможно! – вскричал вдруг юноша, вспыхнув и схватясь одною рукою за голову.
– Что ты, что ты? Господь с тобой, загорелся вдруг, словно в огневице? – сказал с беспокойством Иван Степаныч. – Не болен ли ты чем, Алеша? – проговорил он с участием, подойдя к юноше.
Но краска, на мгновение разлившаяся по лицу молодого человека, снова пропала, и он, не отвечая ничего, опять принял прежнее положение.
Между тем разговор снова завязался о путешествии, и Кишкин с важностью продолжал рассказ о чудесах, им виденных, прерываемый беспрестанными возгласами слушателей, выражавшими удивление.
– Много чего натерпелись мы, – сказал Кишкин, махнув рукою, – да все прошло, а как приехали в главный-то город басурманский, Флоренск, так уж видели такие дивы, что и описать не уметь, потому что кто чего не видал, то ему и в ум не приходит. Град безмерно строен, огражден палатами превысокими, а столбов преогромных, сажени по пятидесяти и больше, с шесть. Кирки зело стройны, одну делают уже лет двадцать, а еще делали лет двадцать, трут пилами все камень-аспид. Во дворце, где живет великий герцог, нижних палат с пятьдесят, а в них устройство и вещи предивные: однозолотные и хрустальные, а столы аспидные, навожены дорогими травами с золотом, во всякой палате стекла хрустальные, в виду весь человек аршина на полтора. А в иных палатах проведена вода прехитрым делом: отвернул шуруп, и всех людей в палате омочит; а идет вода на разные капли из камени, из решеток железных, и капли идут на конское побежище; а шуруп завернут, и воды станет только. Особливо дались мы диву в палатах у великой герцогини.
– Как так? – вскричал один из гостей в недоумении. – Да неужели вам и в палаты герцогини дозволили войти?
– Экая ты головушка, – отвечал Кишкин, – да по приказу великой герцогини мы к ней и приходили, видели ее и сто две девицы, и сенных боярынь, одетых по их обычаю в личинах всяких цветов, а у жен груди голы и на головах нет ничего.
– Ну уж подлинно, басурмане, – вскричал хозяин, плюнув на пол, – да как это их Господь Бог терпит на земле?
– И не введи нас во искушение, – прошептал Бывалый, осенясь крестным знамением.
– Были мы и в герцогском саду: взведена там вода вверх сажени на четыре, и устроен Иордан[2], и выше Иордана сажени с две вверх беспрестанно вода прыгает на дробные капли, а к солнцу, что камень хрусталь. Около крыльца древа Кедровы и кипарисны, и благоухание великие, яблоки великие и лимоны родятся по дважды в год.
– За чтой-то их Господь милует и награждает, – вскричал толстый купчина с окладистой бородою, облизнувшись губами. – Уж пусть бы были православные, а то еретики проклятые, страшно вымолвить, круглый год, говорят, поста не держат и в Страстную седмицу едят молоко да яйца…
– Эко диво, чудеса, полно, правда ли? – раздалось между гостями, и взоры всех устремились на Кишкина, как будто спрашивая, действительно ли может Бог терпеть таких людей на земле. – Воистину так, – с важностью сказал Кишкин, сделав утвердительный знак головою. – Только, видно, им в этом свете и веселиться, – прибавил он, – а потом пойдут все в тартарары, в когти нечистому. Каждый из вас ведает, что басурмане знаются с лукавым, который их руками творит все, к соблазну православных?
– Правда, правда, как не знать, – вскричали все, кроме Алексея, который только улыбнулся, бросив сострадательный взгляд на своих собеседников.
– В палатах великого герцога, – продолжал рассказчик, – видели мы такие чудеса, что когда бы это не было волшебство, то каким же бы образом могло произойти? В то самое время, как мы находились у великой княгини, принес туда герцог в золотой миске шелк и бумагу и велел их сначала жечь на огне, потом и совсем бросить на огонь. Какому же диву дались мы, когда бумага и шелк не только не сгорели, но сделались еще чище и белее! Показывали нам также черный камень, видно волшебством сделанный, который притягивал к себе железо, словно живой человек руками. Называли его магнитом, – видно, какое-нибудь чародейское слово. Видели мы еще шкатулы, присланные в дар от испанского короля, прехитрым делом устроенные: как их отомкнут – и начнут в них люди ходить, как бы живые. А в городе их Пизе стоит башня вся на боку, так что подойти страшно, не знаешь, так кажется, того и смотри, что свалится; а ее заколдовали так, потому что она так же крепка, как наш батюшка Иван Великий…
– Подлинно дьявольское наваждение! – раздался вдруг громкий голос, незнакомый собеседникам.
Все вздрогнули и обратились глазами к дверям. У порога стоял почтенный дьяк Федор Трофимыч Курицын, прихода которого не заметил ни один из гостей, занятых рассказом жильца. Трудно представить то неприятное впечатление, которое произвел на собеседников приход Курицына: все знали достохвальную должность его, и хотя не имели прямой причины бояться, однако всякий опасался, чтобы при таком госте не сказать чего-нибудь лишнего. Но в особенном страхе был сам хозяин, предполагавший, что явление дьяка имело связь с утренней беседой перед домом голландского посла. Впрочем, он старался принять на себя спокойную мину, хотя бледность лица его и свидетельствовала о его внутреннем волнении.
– Милости просим, дорогой гость, – закричал Иван Степаныч прерывающимся голосом, – просим покорно садиться. Вот уж не ожидал такой радости. Сюда, батюшка, ко столику-то поближе: да не прикажешь и фряжского?
После поздравления Курицыным хозяина и взаимных приветствий почтенный дьяк выпил стопу вина, поднесенную ему именинником, и, усевшись за стол, поднял снова прежнюю нить разговора.
– Эко, подумаешь, – начал он, – проклятое семя эти немцы! Недаром сказано в Писании: сеющий злое и пожнет злое, а они ведь все происходят от Хамова колена. Видно, их нечистый и по земле-то расселяет только на пагубу христианства. Вот хоть и в Москве, примером сказать, разве на добро поселились они? Соблазняют только честной люд своим беспутством да заговорами. Уж кому об этом знать лучше, как не мне: я был сам у немцев в переделе, да еще у главного их звездочета, Адама Омария. Приезжал он в Москву, прах его знает зачем, только случилась мне нужда зайти к нему в жилище по посольским делам. Я был тогда еще в Посольском приказе. Пошел я к нему в праздник, прямо от обедни, авось, думаю, побоится ладана. В переднем покое никого не было. Вот я постоял, да перекрестясь и подкрался к другой двери, которая была немного недотворена; смотрю, в другой хоромине темно, хоть глаз выколи. Я подался назад, а из темного покоя раздался голос самого Омария: «Поди, говорит, сюда, я тебе покажу некую хитрость». Ну, думаю, куда ни шло; двух смертей не будет, одной не миновать, дай войду, что он мне там покажет. Омарий припер дверь и долго что-то колдовал в темноте, потом подошел к окну, наглухо заделанному доской, провернул в ней щелку и поставил меня перед какой-то белой холстиной, повешенной на стене; взглянул я на нее, да и обмер. Господи ты боже мой! На всей холстине явились живые люди, кто в телеге, кто верхом, кто с чем идет, только все не ногами, а на голове ходят. Смотрю, воз везут: лошадь скачет на спине, копытами вверх, воз-то навыворот, а сено не валится… Так меня словно обухом по голове и ошеломило: хочу перекреститься, да рука не поднимается, а колдун хохочет во все горло. Не знаю, как до дому живой добрался. Так вот они как морочат, немцы-то! Эх, была бы воля, так всем бы им разом дать карачун да по осиновому колу вбить на могиле, чтобы не ходили по ночам пугать православных. Уж какие же это, прости господи, люди, коли в Бога не веруют, а поклоняются какому-то волшебнику Лютеру да вместо Святого Причастия пьют кровь от малых детей своих…
Во все продолжение рассказа дьяка лицо Алексея выражало попеременно то презрение, то сожаление, но при последних словах Курицына он не мог скрыть своего негодования и сказал, едва скрывая свое волнение:
– Не личит тебе, господин честной, порицать так немцев, хоть они и не нашей веры. Если их и государь наш батюшка жалует и награждает за их труды, стало быть, они приносят не вред, а пользу; а что они больше нашего науки ведают, за это им честь, а не бесчестие. Они, как и мы же, поклоняются единому Богу, и что ты говоришь об их вере, не прогневайся, просто бабьи сплетни…
– Не прытко, не прытко, молодец, – закричал с запальчивостью дьяк, – имени и отчества твоего не знаю, а по словам твоим ведаю, что и тебя, видно, отвлекли от православия и соблазнили в свою поганую веру окаянные еретики, от которых, по толкованию Апокалипсиса, явится сам Антихрист.
Как раненый зверь, быстро поднялся Алексей с места и, стремительно подбежав к дьяку, занес над ним кулак свой. Несчастный Курицын побледнел как полотно и в смертельном страхе отшатнулся к стене, выставив пред собой руки, как бы прося о помощи.
Вся фигура его выразила такое забавное смешение трусости и унижения, что Алексей, за мгновение перед тем готовый раздробить ему череп, взглянув на лицо его, забыл весь гнев и сказал только, обратясь к дьяку с улыбкой:
– Антихрист уж явился, и разве только слепой не распознает его в твоей дьячьей шкуре. – После этих слов он взял шапку и, поклонясь своему крестному отцу, медленно вышел из хоромины.
– Ах ты, молокосос! – вскричал дьяк, выждав, когда Алексей уже скрылся за дверями. – Да слыханное ли это дело, обижать так государственных людей? Да о двух, что ли, ты головах, голубчик, али и одной тебе не жалко стало? Погоди, мое красно солнышко с изъянчиком, ужо я тебя доеду когда-нибудь, на дне морском сыщу! Что это у тебя был, Иван Степаныч, за храбрый богатырь, Полкан Королевич?
– Не прогневайся, батюшка, – отвечал хозяин с низким поклоном, – это мой крестник…
– Алексей? – вскричал Курицын. – Так это об нем-то, по рассказам Семена Афанасьича, во сто труб трубят! Ну, Иван Степаныч, заморское диво твой крестник. Научил ты его, родимый, вдоволь уму-разуму…
– Отступаюсь от него, окаянного, – сказал скоро Козлов, – видит Бог, отступаюсь, чтобы он у меня в доме и носу не показывал, если взял продерзость оказать неуважение к твоему лицу именитому…
– Счастлив, Иван Степаныч, что я имею до тебя нужду, – сказал Курицын тихо Козлову, отведя его в сторону, – а то бы я твоего крестничка-то за такую обиду на одну ладонь положил, а другой прихлопнул, да и тебе бы хлопот не миновать. Право, счастлив; видно, ты уж так в сорочке родился… Выйдем-ка в особую светлицу, словцо-другое перемолвить.
Поставив перед гостями трепещущими руками по фляжке романеи и наливки, Козлов вышел неприметно с Курицыным за дверь и, пройдя сени, ввел его в другую хоромину, несколько меньшую против первой.
– Нечего греха таить, Иван Степаныч, – начал Курицын, осмотрясь кругом и видя, что они были одни, – хоть ты меня не видал до сего дня и целый год, да я-то за тобой смотрел в оба глаза. Знаю всех твоих и старших, и братий…
– Помилуй, отец родной, – сказал Козлов умоляющим голосом.
– Да вот и сегодня-то, – продолжал дьяк, – как быты за своим крестником получше присматривал, так этого бы не случилось. Ведь уложенье-то гласит: понеже отец крестный…
– Не погуби, родимый…
– То-то, не погуби. Ну да ладно; я не злопамятен, все забываю; сослужи же и ты мне службу, Иван Степаныч.
– Что прикажешь, кормилец, все будет исполнено. Только не выдай…
– Скажи по правде, дружен ли ты с Семен Афанасьичем Башмаковым?
Этот вопрос поставил в тупик Козлова. Не зная, для чего спрашивал об этом Курицын, он замялся, придумывая, что ему отвечать. Наконец произнес протяжно:
– С Семен Афанасьичем, батюшка?
– Ну да!
– Вот, что возле государева-то сада живет?
– Да кто же другой? Он только здесь один на Москве…
– Как бы тебе сказать, мой батюшка… Приятели-то мы приятели, да не то чтобы в большой дружбе были… Уж мы с ним сызмала вместе… один к другому не ногой… Не прогневайся, родимый, как тебе будет угодно!
– Кой черт, что ты от меня, Иван Степаныч, словно заяц от охотника, петли кидаешь? Я тебя, кажись, только спрашиваю?
– Уж если тебе правду сказать, так мы с ним поразмолвились на прошлой неделе.
– Ой ли, эка беда! Да неужто ты с ним в ссоре?
– Кто, я, батюшка? Да этаких приятелей, как мы, днем с огнем, а ночью с фонарем поискать. Да еще как ребятами-то мы были, так нас двумя голубями звали, полвека прожили в одну душу…
– Ну так, Иван Степаныч, челом тебе бью: выручи, родимый. – С этими словами Курицын поклонился до земли Козлову.
– Прости и ты меня, батюшка, – вскричал хозяин, не понимая, в чем дело, и повалясь на землю перед дьяком.
– Что ты, что ты, Иван Степаныч, да теперь я тебя прошу: будь отцом родным, помоги мне…
– Чем, мой батюшка? Рад служить верой и правдой. А коли суконца нужно, так я тебе обещал самого преотличного. Только теперь оно в лавке лежит, так уж разве позволишь оставить до завтра…
– Нет, Иван Степаныч, теперь мне не до сукна: а пришел тебя просить высватать за меня единородную дочку Семена Афанасьича. Быть не могу без нее! Так вот меня и подмывает, жизнь не в жизнь! Давеча утром, как увидал я ее, так словно варом меня и обкатило: вот и теперь еще шишка на лбу. Видишь, над правым глазом.
– Понимаю, батюшка. Сиречь дочка Семена Афанасьича тебе сердечушко зазнобила; только, воля твоя, не возьму в толк… от чего же у тебя шишка-то?
– Экой ты какой! Ну да ведь я тебе говорю, что как я посмотрел на нее, так в глазах мурашки запрыгали, и уж я не знаю обо что я ударился лбом и как у себя дома на постели очутился! Только как дурь-то у меня прошла, я и вспомнил, что мне говорил Семен Афанасьич о твоей к нему дружбе и что ты именинник сегодня. Хотел было обождать до утра, да нет, не утерпел, ну бежать к тебе скорее… Уладь, родимый, свадьбу-то нашу, так я себя по смерть закабалю к тебе…
Курицын опять упал в ноги Ивана Степаныча.
– Ладно, Федор Трофимыч, быть по-твоему, – отвечал Козлов, – буду твоим сватом. Только ведь Семена Афанасьича скоро не уломаешь: любит он, видишь, все водиться с почетными да богатыми, а ты хоть и дьяк, да киса-то у тебя не туга. Торопиться в этом деле не надобно: тише едешь, дальше будешь. Тебе бы пообождать хоть до Петрова дня…
– Не могу, родимый, видит Бог, не могу.
– Ну хорошо. Ужо я при первом случае, как удосужусь побывать у него, намекну о тебе, а там на другой раз и все выскажу. Ведь не мудрено поспешить, только чтобы людей не насмешить, как говорит пословица. Сукнами торговать мое дело, а сватом быть прежде не приводилось. Однако, пойдем-ка к гостям, они уж и невесть что о нас думают.
2
Фонтан.