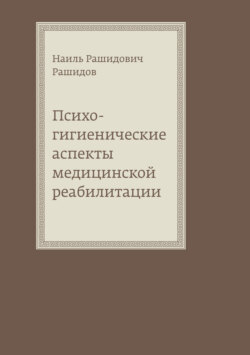Читать книгу Психогигиенические аспекты медицинской реабилитации - Н. Р. Рашидов - Страница 5
Глава 3. Психогигиена мышления
ОглавлениеОтправления человеческой головы – это еще не мышление.
Г. П. Щедровицкий
Хайдеггер указывает на Gerede – «болтовню», как на возможность понимать все без предварительного усвоения сути. Хорошо известно выражение Хайдеггера: «Наука не мыслит». Действительно, наука выводит некоторые положения используя определенную методологию, и это вполне механистический, машинный метод, но использование метода, с греческого: «мето-годос» – «путь за кем-то», «колея», «однолинейность», а мышление, напротив, это «годос» – «прокладывание пути» и это всегда – ручная работа, и уже потом, с помощью той же науки – создание копии созданного вручную, именно поэтому мир техники вторичен. Наука, по Хайдеггеру, все же постоянно и своим особым способом имеет дело с мышлением, но этот способ только тогда становится верным и плодотворным, когда становится видимой пропасть, существующая между мышлением и наукой, причем такая пропасть, через которую невозможно перекинуть мост, а возможен только прыжок.
Хайдеггер отмечает, что как разумное существо, человек должен уметь мыслить, если только он этого захочет, но, оказывается, что, например человек хочет мыслить, но, однако, он этого не может, возможность мыслить не гарантирует способности мыслить, и тут Хайдеггер указывает на важнейший элемент вхождения в мышление: «Мы можем только то, что нам желанно». Inter-esse – быть среди вещей, или между вещей, но Хайдеггер напоминает, что «для сегодняшнего интереса интересно лишь только интересное, которое в следующий миг становится безразличным и замещается другим интересным». Похоже на гипертимный стиль восприятия, в без достаточной глубины и проработки, поверхностное скольжение, вполне характерное, кстати, для юношеского периода развития.
И вот, помимо «желанного», Хайдеггер вводит неожиданное: «Данное для мысли отворачивается от человека, но это отворачивающееся тянет и нас за собой, независимо от того, ощущаем мы это или нет, и человек, попавший в это оттягивание похож на перелетную птицу «дающую тягу на юг», и именно человек, находящийся в тяге и есть, впервые, и прежде всего – человек и, поскольку, этот человек и сам указывает на оттягивание, Хайдеггер определяет его как «знак» и переходит к Гельдерлину, к одному из его набросков к гимну: «Мы знак, без значения». Среди заглавий к этому наброску: Мнемозина – «память» с греческого, в мифологии – дочь Неба и Земли, и Хайдеггер предостерегает от поспешного заключения, что Miphos разрушается через Logos, он говорит, что «религиозное никогда не разрушается логикой, но всегда только тем, что Бог сам ускользает (оттягивается)».
Мнемозина становится матерью муз: пения, музыки, танца и поэзии, и, конечно, это нечто совсем другое, чем просто память, удерживающая прошедшее в представлении. Но к чему это указание на Гельдерлина, по какому праву мы упоминаем поэта, и именно этого? И Хайдеггер отвечает: «Пусть будет ясным уже сейчас то, что мы привлекаем слово Гельдерлина не как цитату из области поэтического сказывания, дабы посредством этого освежить и приукрасить сухую поступь мышления. Это было бы обесцениванием поэтического слова. Его сказывание покоится в его собственной истине. И она называется красотой. Красота – это судьба истины и это раскрытие сокрывающегося, и прекрасное – не то, что нравится, а то, что подпадает под эту судьбу истины. Сказанное поэтически и сказанное мышлением никогда не тождественны, но и то и другое могут быть тем же самым именно тогда, когда проявится пропасть между поэзией и мышлением, а это возможно когда поэзия высока, а мышление глубоко».
«Можно много говорить о вине, но никогда не быть пьяным». Эта суфийская метафора о влюбленности относится и к мышлению. Мышление – это не предмет рефлексии, однако, Запад поддался этой иллюзии и, развивая мышление о мышлении, создал логику, и, как отмечает Хайдеггер, логические построения оказались востребованными новой наукой – логистикой, и на Западе логика начинает, как некая философия будущего, господствовать над духом и образуя общий каркас с современной психологией, психоанализом и социологией, она образует нечто отлаженное до машинного совершенства, но при этом это нечто не соотносится с самим, а имеет корни гораздо более древние, а именно – ариманические корни, ариманическое в человеке хочет, чтобы человек «думал ногами».
Так мы подходим к Ницше и Шопенгауэру. «Закат Европы» – это звучит уже вполне тривиально, но когда Ницше говорит: «Пустыня наступает», это, прежде всего, относится не к Европе и миру, а к человеку, и опустынивание намного ужаснее, чем разрушение, оно тотально препятствует и блокирует любое развитие. Ницше добавляет: «Горе тому, кто таит в себе пустыню». Шпенглер вводит другую, не менее мощную метафору, когда говорит о «феллашестве».
Ницше, великий и оболганный, в те времена, когда вера в прогресс не допускала возражений в т. н. «цивилизованных странах», выкрикнул: «Пустыня растет», он хорошо знал, что учитель, передавая информацию, может интонировать, и там, где это уместно, может и прикрикнуть. Там же он сетует: «Неужели нужно сперва разодрать им уши, чтобы научились они слушать глазами!»
Но парадокс жизни таков, что то, что было криком сегодня, завтра превращается в общее место, забалтывается, и во многом, благодаря записанному: записанный крик легко подавляется, уступая место законам повествования. Хайдеггер называет эту книгу записанного крика Ницше: «Так говорил Заратустра». Именно в эту книгу, в ее последнюю часть, он вписывает: «Пустыня растет». В этой книге, важнейшей для гигиены мышления, предстает перед нами единственная мысль Ницше – мысль о вечном возвращении. Ницше уже знал о троице: открытии, отыскании и потере. Вот он пишет Георгу Брандесу: «Другу Георгу! После того как ты открыл меня, невелико было искусство найти меня. Трудность теперь заключается в том, чтобы потерять меня. Распятый».
Необозримая литература о Ницше не может продвинуть нас к мышлению Ницше, напротив, то тут, то там, мы видим ангажированные толкования в угоду публике, как будто у критиков не формируется орган, способный переваривать идеи Ницше: о сверхчеловеке, о вечном возвращении, о воле к власти, о последнем человеке. Для понимания пророческого мышления Ницше приведем две его метафоры:
1. Человек – это больное животное.
2. Человек – это еще не установленное животное.
В. В. Бибихин в книге «Лес» цитирует Аристотеля, который метафорически отказывает человеку в прямохождении и указывает на человека как на четвероногое существо: «Молоко имеется до нового зачатия, после чего оно прекращается и угасает, равно у людей и прочих живородящих четвероногих». А вот еще: «Прочие животные единообразно совершают роды, ибо всем назначен один срок для родов; только у человека, единственного из животных, таких сроков несколько: он родит и на седьмом, и на восьмом, и на девятом месяце».
И когда Ницше говорит, что «человек – это еще не установленное животное», он указывает, что человек еще не полностью осуществлен в своем развитии, и вот здесь кроется весьма значительное: в психиатрии личность человека никогда не описывается в терминах «чтойности», а определяется как прогредиентное («шагающее») состояние развивающегося или деградирующего человека. Именно об этом говорит Ницше: «Человек – это только возможность человека», именно об этом – и его «последний человек», или т. н. «человек без комплексов», который и не может, и не находит мотива к изменению, и, напротив, того, кто преодолевает в себе последнего человека, он, Ницше, и называет «сверхчеловеком», и это, согласитесь, существенно отличается от расхожего образа нового Ставрогина, ницшеанца, отбрасывающего этические принципы за ненадобностью.
Вот отрывок из «Так говорил Заратустра».
«И так говорил Заратустра к народу:
Горе! Приходит время, когда человек уже пустит стрелы тоски своей выше человека и тетива лука его разучится дрожать!
Горе! Приходит время, когда человек больше не родит звезды. Горе! Приходит время самого презренного человека, который уже не может презирать самого себя.
Смотрите, я показываю вам последнего человека. «Что такое любовь? Что такое творение? Что такое страсть? Что такое звезды?»» – так вопрошает последний человек и моргает. Земля стала маленькой, и по ней прыгает последний человек, делающий все маленьким. Его род неистребим, как земляная блоха, последний человек живет дольше всех.
«Счастье познано нами», – говорят последние люди и моргают при этом».
Подмигивание – это квинтэссенция всей тварности мира последнего человека, Сверхчеловек Ницше превозмогает этот мир подмигивающих и открывает нам в образе Заратустры одну тайну: в мире воли, куда он устремлен, бытие формируется как вечное возвращение, и только попав туда, он замечает, что попал домой.
Мы можем сказать, что мышление Ницше многозначно, и стихия мышления – в многозначности. Хайдеггер приводит в пример диалоги Платона, которые оценивают с «точки зрения здравого смысла» и приходят к выводу, что Платон был «большой путаник». Но с «точки зрения здравого смысла» невозможно почувствовать, что диалоги Платона неисчерпаемы. Неисчерпаемость можно назвать свойством творящего, но это творящее расположено только к тем, кто наделен способностью к благоговению и удивлению. И признанию. Признание необходимо для того, чтобы открылась дверца к мышлению, и тогда, возможно, мышление может передать драгоценный подарок такому идущему – оно передаст ему «немыслимое». И для обычного рассудка немыслимое, непонятное, может толковаться в излюбленном для обычного рассудка стиле, как, например некорректность, и подобное может происходить когда нет признания. Признание позволяет каждый раз отбрасывать собственные мыслительные попытки при встрече с немыслимым. Кант в таких случаях говорил об «опрокидываниях», но опрокидываться могут только те, кто в пути, кто двигается, или стоя, или ползком. Есть и еще одна важная предварительная процедура: увеличивать величие в мыслителе, и когда это не происходит, и мы идем против, без признания и благоговения, мы низводим величие в мыслителе и прячем его в шкатулке здравого смысла. И когда мы потом говорим, что, например, Иоганн Готлиб Фихте, несмотря ни на что, все-таки великий мыслитель, мы не замечаем того, что подобная похвала снизу звучит как оскорбление.
«Ибо, да будет человек избавлен от мести: вот для меня мост, ведущий в высшей надежде…» Переход через мост – это вершина метафизики Ницше, прикладное значение этой могущественной метафоры очевидно: это возможность сопротивления внутреннему опустыниванию. И действительно, избавление от мести – это избавление от последнего человека, в котором месть, как лейтмотив, прокладывает свой специфический способ бытия. И поостережемся пока произносить такие термины как «профилактика» или «психогигиеническая процедура», и именно потому, что, во-первых, корневые системы метафоры плохо усваивают частные приложения, а во-вторых, это вопрос о границах уместного.
Мост и переход создают возможность становления сверхчеловека Ницше, и это связано с волей. Шеллинг проникновенно указывает: «Воление есть пре-бытие». К предикатам воли принадлежат вечность и независимость от времени. Но не каждая воля такова. Волей может быть объявлена та воля, которая вечно хочет вечности воления, так она становится независимой от времени, они уже никогда не смогут встретиться.