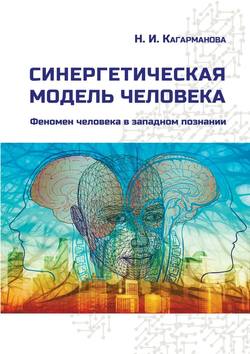Читать книгу Синергетическая модель человека. Феномен человека в западном познании - Надежда Ивановна Кагарманова - Страница 5
I. Синергетический подход в современном познании
2. Структурно-функциональная
модель человека
Оглавление2.1. Тело как отдельная часть системы
Приступая к построению модели человека, еще раз отметим, что создание системы исследуемого объекта представляет собой отдельную и, что немаловажно, совершенно произвольную задачу для исследователя.
Начнем с напоминания о том, что речь идет о живой системе, следовательно, она должна удовлетворять в первую очередь требованиям функциональности. Свойство функциональности предполагает активность всех взаимно влияющих друг на друга частей системы. Каждая часть, выполняя определенную, свойственную только ей функцию, составляет целое, особым образом поддерживая существование системы с какой-то одной из ее сторон. И лишь неповторимое сочетание совершенно особых, не схожих друг с другом составляющих обеспечивает наличие системы, уникальность которой проявляется в образовании эмерджентных свойств, не выводимых из знания отдельных ее частей и способа их соединения.
Отличительной особенностью живых систем, в том числе и человека, является наличие организма. С одной стороны, организм представляет собой структурно-функциональную систему органов, специализирующихся на выполнении отдельных функций и в совокупности обеспечивающих жизнедеятельность человека. С другой стороны, обладающий определенной морфологией и конечными границами, организм представлен в мире телом, которое выполняет функцию защиты и обусловливает пространственную целостность системы. По замечанию М. Мерло-Понти: «Собственное тело в мире занимает то же место, что и сердце в организме: оно постоянно поддерживает жизнь в видимом нами спектакле, оно его одушевляет и питает изнутри, составляя с миром единую систему» [118, с. 261].
Человек как живое существо представляет собой отдельную целостность, но в то же время функционирует по принципу открытой системы, осуществляя активный обмен веществом и энергией с окружающей средой, что является необходимым условием его существования.
Круговорот органических веществ в живом организме представлен в основном процессами синтеза и распада – ассимиляции и диссимиляции. Процессы ассимиляции способствуют поглощению организмом из окружающей среды различных веществ, которые вследствие целого ряда сложных химических превращений трансформируются таким образом, что становятся подобны веществам живого организма, из которых и строится этот организм. Процессы диссимиляции, напротив, обусловливают распад сложных органических соединений на более простые, в результате чего утрачивается их сходство с веществами организма и выделяется энергия, необходимая для реакций биосинтеза.
Обмен веществ в живой материи обеспечивает неизменность химического состава и строения всех частей организма, вследствие этого достигается постоянство функционирования организма в целом.
Но обмен веществ – это лишь одно из условий существования живой системы. Кроме этого имеется целый ряд других органических параметров, отражающих взаимосвязь организма с окружающей средой (уровень содержания кислорода в крови и клетках мозга, температура тела, уровень кровяного давления и др.), нарушение которых также ведет к прекращению функционирования организма. Собственно говоря, работа организма и направлена на то, чтобы поддерживать интенсивность физиологических процессов в зависимости от условий внешней среды.
В связи с тем, что природные изменения носят непрерывный характер, они служат источником множества факторов, которые так же непрерывно влияют на состояние живого организма. Отметим лишь самые очевидные из них – те, которые обусловлены процессами природных ритмов, – это обращение Земли вокруг Солнца, проявляющееся в смене времен года; вращение Земли вокруг своей оси, отражающееся в смене дня и ночи; обращение Луны вокруг Земли, сопровождающееся полусуточными изменениями приземного атмосферного давления; периодические увеличения солнечной активности, влияющие на возникновение магнитных бурь и усиление ионизации газов в атмосфере, и т. д.
Все изменения, происходящие в Солнечной системе, чутко улавливаются живыми организмами, все они оказывают непосредственное воздействие на их функционирование. Так, смена времен года и суток фиксируется организмом сменой разновременных периодов подъема и спада активности; колебания атмосферного давления и возмущения магнитного поля Земли регистрируются закономерными перепадами состояний организма; периодически возникающие солнечные бури сопровождаются повышением психической напряженности и т. д. Необходимость согласования параметров организма с параметрами окружающей среды заставляет живые существа выстраивать свои биоритмы в соответствии с ритмами природы.
В связи с этим, сколько бы мы ни обсуждали деятельность организма как деятельность живой биологической системы, мы непрерывно будем возвращаться к способности организма к самоорганизации и саморегулированию в его стремлении гармонизировать свое состояние с состоянием окружающей среды.
Человеческое тело, организм – это такое целое, которое включено в более широкое целое, из которого оно происходит: природа человека едина с природой мира и подчиняется общим его закономерностям. Тот факт, что наш организм включен во всеобщую связь мировых процессов, предполагает непосредственное влияние этого целого на наше состояние и поведение.
Таким образом, роль тела в жизнедеятельности человека представляется вполне очевидной, и ввиду этой очевидности его можно считать отдельной, самостоятельной частью создаваемой нами системы.
2.2. Роль информации в развитии системных образований
Влияние внешних факторов на функционирование живых систем настолько велико, что принцип связи между ними считается определяющим в организации последних. Под принципом связи здесь следует понимать информационный принцип существования биологических объектов.
Адаптация живых существ к окружающей среде есть не что иное, как результат их взаимодействия с этой средой. Изменение состояния, а затем и поведения, включающего ориентационную и двигательную активность по отношению к причинам воздействия, возникает тогда, когда живые организмы приобретают способность воспринимать, хранить и перерабатывать поступающую к ним информацию. Поэтому функционирование живых систем самым непосредственным образом зависит от того, насколько эффективно в них протекают процессы приема и преобразования информации.
Поднимая вопрос об информационном принципе функционирования живых систем, необходимо подчеркнуть, что заслуга разработки этого принципа принадлежит отечественным ученым – и в первую очередь известному советскому физиологу Петру Кузьмичу Анохину. «Отражательный процесс, – писал он еще в 1969 году, – развертывается таким образом, что внешний объект через непрерывный ряд физических и физиологических процессов как бы ассимилируется организмом, т. е. отражается в его структурах, а потом и в сознании. Такой порядок развития процессов отражения приводит к естественному выводу, что по сути дела этот процесс от этапа к этапу формируется в соответствии с теорией передачи информации» [11, с. 111]. По словам П. К. Анохина, привлечение теории информации к объяснению жизнедеятельности живых существ позволяет понять процессы перехода образа объективного мира через материальные физиологические явления в субъективный образ реальности.
С точки зрения П. К. Анохина, передача информации в живых системах происходит посредством исключительно большого количества специфических звеньев, но подчиняется одному важному закону: «Между начальным и конечным звеном этой передачи существует точная и адекватная информационная эквивалентность» [11, с. 112].
Информационные свойства внешнего мира сохраняются в различной форме на всех уровнях их отражения живым организмом, а «информационный эквивалент объективной реальности на уровне головного мозга, как совокупности информации, поступающей по разным каналам, является решающим фактором построения субъективного образа объективного мира» [172, с. 22].
На основании этого положения П. К. Анохин представил жизнедеятельность живых существ как процесс, направленный на получение и упорядочение поступающей из внешней среды информации для того, чтобы адаптировать собственное поведение в соответствии с изменениями условий этой среды.
П. К. Анохин утверждал, что «вся история развития живой материи до ее самого высшего этапа – мыслящего человека, подчиняется одному и тому же закону: приспособительное поведение организмов, сохраняющее им жизнь и ведущее к их прогрессу, возможно только потому, что внешний мир через разнообразнейшие параметры своего воздействия входит в организм в форме тончайших информационных процессов, весьма точно отражающих параметры этого объективного внешнего мира» [11, с. 136].
Напомним, что при всем разнообразии теорий, которые были созданы в психологии и психофизиологии, их можно условно разделить на две группы. В первой группе в качестве основного методологического принципа, определяющего подход к исследованию закономерностей поведения, рассматривается реактивность, во второй группе – активность.
Использование принципа реактивности базируется на идеях Р. Декарта, который полагал, что организм может быть изучен как относительно простой механизм, поскольку в основе его лежит рефлекс, обеспечивающий связь между внешним стимулом и ответом.
С рефлекторной точки зрения поведенческие акты, составляющие основу деятельности живого организма, представляются как линейная последовательность, которая начинается с действия стимулом на рецепторные аппараты и заканчивается ответным действием. В ходе исторического развития науки рефлекс неизменно выступал в качестве универсальной элементарной единицы организации психических процессов. Несмотря на целый ряд изменений, сопровождавших эволюцию взглядов на процесс отражения, он традиционно оставался центральным инвариантным звеном психофизиологических теорий.
Однако, исходя из рефлекторного принципа, оказалось весьма затруднительным объяснить механизмы сложного поведения животных, например их поведение в естественной среде, где они успешно удовлетворяют свои ведущие потребности иногда путем преодоления весьма внушительных препятствий и преград. С помощью рефлекторной теории невозможно объяснить и многие проявления психики человека, такие как мотивации, эмоции, целенаправленный характер реакций, включая сложную инструментальную деятельность, связанную с освоением орудий труда, а также возможность исправления ошибок и т. д. Этим важнейшим элементам психики просто не нашлось места в структуре рефлекторной дуги и рефлекторного кольца, которые служат основой для интерпретации разнообразных рефлексов, осуществляемых по схеме «стимул – реакция».
В отличие от принципа реактивности, утверждающего, что первопричиной поведения является внешний стимул, принцип активности постулирует значимость внутренних, эндогенных факторов жизнедеятельности живых организмов.
Исходя из анализа многочисленных экспериментальных данных, П. К. Анохин пришел к выводу, что приспособительное поведение животных носит активный характер. Причем с точки зрения приспособления организма к внешней среде его активность в каждый данный момент времени – не ответ на прошлое событие, а подготовка к будущему. Идея об активной, целенаправленной деятельности живых организмов существенно изменила методологию системного подхода, в рамках которого П. К. Анохин пытался найти решение проблемы функционирования животных и человека.
Напомним, что в отечественной литературе термины «система» и «системный подход» стали появляться в 1940—1950-х годах. Разработка системных идей на этапе их становления осуществлялась преимущественно в двух направлениях.
Первое направление ориентировалось на раскрытие философского смысла и определение объема системного подхода, развиваясь в русле поиска гносеологических инноваций, которые могли бы обеспечить качественный рост и эффективность познания [37—39; 146—148].
Второе направление занималось изучением характеристик процесса функционирования систем, точнее говоря, разработкой проблем математической формализации системного подхода [94—95; 111—112].
В силу новизны познавательной ситуации оба направления носили исключительно поисково-теоретический характер и были далеки от запросов исследовательской практики.
Что касается собственно психологии, то идеи о системном характере психических явлений появились еще в начале XX века, на самых ранних этапах ее развития. Инициаторами внедрения представлений о психике как системном образовании заслуженно считаются И. П. Павлов, И. М. Сеченов и Г. Эббингауз. Значительный вклад в развитие системной стратегии изучения человека внес В. М. Бехтерев. Вместе с тем почва для детального рассмотрения психических явлений как системных по своему характеру также была еще не подготовлена.
В связи с этим особенно интересно проследить эволюцию понятия «система» в рамках отдельной научной школы, поскольку именно это понятие явилось концептуальным ядром теории, разработанной академиком П. К. Анохиным.
Обычно термин «система» применяется для того, чтобы указать на собранность, организованность определенной группы элементов. П. К. Анохин, детально рассмотрев различные варианты системного подхода, пришел к выводу, что изучение взаимодействия элементов само по себе не имеет смысла, поскольку не дает исследователю ничего нового. Более того, действие множества элементов без понимания механизма их согласованности друг с другом воспринимается как хаос, а не как их организованность в рамках целого.
Исходя из этого, главным препятствием для использования системного подхода в конкретных исследованиях П. К. Анохин назвал отсутствие системообразующего фактора, способного детерминировать образование и функционирование системы; фактора, который: 1) являясь неотъемлемым компонентом системы, ограничивал бы степени свободы ее элементов, создавая упорядоченность их взаимодействия, и 2) был бы изоморфным для всех систем, позволяя использовать систему как единицу анализа в самых разных ситуациях [12].
Сам ученый в качестве такого фактора обозначил конечный результат системы, понимая под этим полезный приспособительный эффект, которого данная система достигает в ее взаимоотношениях со средой. Примечательно, что приспособительную активность организма П. К. Анохин связывал не с «функциями» отдельных органов или структур мозга, а с формированием системных организаций, захватывающих множество разнородных морфологических образований, элементы которых взаимодействуют друг с другом для получения общего результата.
Определив способность системы к достижению необходимого ей результата как функциональность, П. К. Анохин добавил к понятию «система» определение «функциональная» и предложил следующее определение системы: «Системой можно назвать только такой комплекс избирательно вовлеченных компонентов, у которых взаимодействие и взаимоотношение приобретает характер взаимоСОдействия компонентов, направленного на получение полезного результата» [12, с. 126].
Функциональные системы в теории П. К. Анохина выступают в качестве универсальных элементарных единиц анализа целостной деятельности организма. Они лежат в основе любого поведенческого акта, формируясь на стадии появления той или иной потребности и прекращая свою деятельность с момента ее удовлетворения.
П. К. Анохин утверждал, что в организме слаженно взаимодействуют множество функциональных систем самого различного уровня: метаболического, гомеостатического, поведенческого, а у человека – еще и социального характера. Взаимодействие функциональных систем в организме осуществляется на основе принципов иерархии и последовательного взаимодействия. Множество функциональных систем различных уровней организации взаимодействуют своими центральными аппаратами на уровне нейронов мозга. В этом взаимодействии ведущим является принцип доминирования функциональных систем, в основе которого лежит открытый А. А. Ухтомским принцип доминанты [176].
С точки зрения теории функциональных систем принцип доминанты означает, что во все моменты жизнедеятельности организма создаются условия, при которых выполнение какой-либо одной функции становится более значимым, чем выполнение всех остальных. Реализация данной функции подавляет осуществление всех других функций, то есть в каждый момент времени деятельностью мозга завладевает наиболее важная в плане повышения адаптации организма функциональная система. Это позволяет рассматривать мозг и психику уже не как совокупность специализированных нервных центров, а в каждом отдельном случае как интегративное целое, обеспечивающее достижение доминирующей потребности.
Анализ взаимодействия функциональных систем различных уровней привел к пониманию того, что даже нейрон осуществляет свою интегративную деятельность в качестве отдельной целостности [12]. Позднее было установлено, что он реализует собственную, свойственную только ему, генетическую программу и одновременно взаимодействует с другими клетками [196]. В связи с этим последовательность актов деятельности нейрона стала выглядеть аналогичной той, которая характеризует активный целенаправленный организм, а его импульсация – аналогичной действиям индивида.
Принцип активности, отличающий теорию функциональных систем от других вариантов системного подхода, был закреплен введением нового понятия «опережающее отражение действительности» [13]. Анализ проблем происхождения и развития жизни позволил П. К. Анохину утверждать, что опережающее отражение действительности возникло одновременно с зарождением жизни на Земле и является уникальным свойством последней. В качестве условия, определившего возможность появления жизни, ученый рассматривал существование так называемых предбиологических систем, которые, по его мнению, должны были обладать свойствами, обеспечивавшими их устойчивость при периодических возмущающих воздействиях внешней среды.
Согласно теории функциональных систем, опережающее отражение связано с активным отношением живой материи к изменениям пространственно-временной структуры мира и заключается в опережающей, ускоренной подготовке к будущим трансформациям среды. Было выдвинуто предположение, что принцип активного опережающего отражения представлен на всех уровнях организации живой материи.
По мнению П. К. Анохина, если рассматривать живой организм как систему, целенаправленно приспосабливающуюся к изменениям условий внешней среды, то формирование поведенческого акта любой степени сложности можно представить как процесс интеграции целого ряда последовательно сменяющих друг друга системных механизмов, в число которых входят:
• афферентный синтез;
• принятие решения;
• акцептор результатов действия;
• эфферентный синтез
• формирование действия;
• оценка достигнутого результата.
В процессе афферентного синтеза на основе доминирующей потребности, а также при учете обстановочных факторов и прошлого опыта создаются условия для принятия решения о том, что и как сделать. Это решение устраняет избыточные степени свободы системы, чтобы получить полезный приспособительный результат. Принятие решения завершается формированием акцептора результатов действия, который играет роль аппарата прогнозирования параметров предполагаемых результатов и их сличения с параметрами реально полученных результатов. Затем происходит интеграция возбуждений, идущих на эффекторы – исполнительные органы, и осуществляется сам акт действия. В тех случаях, когда параметры достигнутых результатов не соответствуют параметрам предполагаемого действия, возникает ориентировочно-исследовательская деятельность. На этой основе происходит перестройка афферентного синтеза, принимается новое решение, осуществляется коррекция акцептора результата действия, и деятельность человека направляется на достижение скорректированного результата.
Представленная таким образом психическая деятельность начинает выглядеть как динамическое развитие информационных процессов, которые разыгрываются на основе структур мозга. Характерно, что все эти процессы на каждом этапе смены физико-химических носителей осуществляются посредством информационных эквивалентов действительности без потери информационного смысла.
Положение о том, что живое существо не реагирует на стимулы, а реализует активность, направленную в будущее, связано у П. К. Анохина с положением о «пристрастности» отражения живыми системами внешней среды. Это следует понимать так, что прежде, чем информация будет усвоена и реализована живым организмом в поведении, она подвергается оценке с точки зрения ее субъективной значимости для его развития. При этом эмоции выступают в качестве своеобразных пеленгов внутренних и внешних воздействий на организм [10].
Эмоциональный уровень психической деятельности генетически детерминирован и не требует специального обучения. Отрицательные эмоции, возникающие при появлении каких-либо потребностей, играют мобилизующую роль и способствуют тем самым быстрому удовлетворению этих потребностей. Достижение необходимого результата характеризуется появлением положительных эмоций. Все пережитые эмоции закрепляются в памяти и в дальнейшем выступают в качестве мощного фактора мотивационного процесса, влияя при этом на выбор способа, которым будет удовлетворена та или иная потребность. В случае рассогласования результата с намеченной ранее программой действий появляется эмоциональное беспокойство, которое способствует поиску новых, более успешных, способов достижения желаемой цели. По словам П. К. Анохина, «ведущие эмоции участвуют в формировании функциональной системы, определяя вектор, то есть направленность поведения, постановку цели, формирование акцептора результата действия. Ситуативные эмоции, возникающие при оценке отдельных этапов действия, позволяют корректировать поведение и достигать поставленной цели» [14, c. 175].
Работы по исследованию роли субъективного фактора в отражении мира живыми системами продолжил ученик и последователь П. К. Анохина академик К. В. Судаков. По его мнению, мозг человека и животного при взаимодействии с окружающей средой постоянно строит отпечатки действительности. При этом каждый акт взаимодействия оценивается живыми существами обособленно, то есть образующиеся при этом динамические стереотипы – адаптивные реакции – содержат в себе одновременно и информацию о действительности, и отношение к этой действительности. Иными словами, для живых существ информация о мире всегда окрашена эмоционально.
В настоящее время считается установленным, что способность живых организмов к субъективной оценке зависит от уровня развития их сознания. У одноклеточных организмов это происходит на уровне раздражимости, у рыб и рептилий имеется уже специальный аппарат эмоций – лимбические структуры мозга [217]. На следующем этапе эволюционного развития возникает эмоциональное сознание, которое позволяет животным непрерывно оценивать свое внутреннее состояние, потребности и их удовлетворение, соотнося этот процесс с действием разнообразных факторов внешней среды [138].
Согласно утверждению К. В. Судакова, субъективная информационная оценка человека осуществляется аналогично оценке животного. Он пишет: «На генетической основе и запечатлении действительности в процессе развития и обучения человека у него формируется интеллект, своеобразная интеграция многочисленных динамических стереотипов. Основу интеллекта составляет эмоциональное сознание – оценка действительности с помощью отрицательных и положительных эмоциональных реакций. Возможно, что этот уровень сознания одинаков у человека и животных. С помощью эмоционального сознания создаются эмоциональные стереотипы действительности – эмоциональное отношение субъекта к разнообразным внешним воздействиям» [172, с. 98—99].
Отличительной особенностью человеческой субъективности является то, что наряду с эмоциональным компонентом в оценке информации существенную роль играют словесные символы. В процессе освоения речи словесные символы у человека тесно связываются с субъективными эмоциональными ощущениями, в результате его эмоциональное сознание трансформируется в словесно-эмоциональное сознание. По замечанию К. В. Судакова, «на базе эмоциональных стереотипов… формируются языковые информационные стереотипы, характерные для каждого языка» [172, с. 99]. В связи с этим, подчеркивает ученый, программы поведенческой и психической деятельности индивида, организуемые функциональными системами, имеют эмоционально-словесную основу.
В ходе дальнейшего развития теории функциональных систем П. К. Анохин и его сотрудники пришли к выводу, что на самых ранних стадиях онтогенеза формируются те элементы организма, которые необходимы лишь для его выживания. В дальнейшем каждый акт взаимодействия индивида с внешней средой выступает очередной единицей опыта, обогащающей его новыми эмоциями и поступками. В связи с этим «мир воспринимается человеком в интегралах опыта, в которых отпечаталась бывшая деятельность организма». Опыт в целом «принадлежит прошлому, поскольку он возникает в ходе предшествующей деятельности, используется и закладывается в настоящем, но осваивается и накапливается для решения проблем будущего» [25, с. 7—8].
Вместе с тем было обнаружено, что даже простые акты поведения являются «повторением без повторения» [34], не говоря уже о сложных актах, которые могут обнаруживать тенденцию к устойчивому совершенствованию в течение бесконечного числа реализаций. Это происходит потому, что любой акт есть одновременная активизация множества функциональных систем. Осуществление поведения обеспечивается реализацией не только старых систем, формируемых при проявлении актов, составляющих это поведение, но и новых систем, формируемых с учетом изменившихся условий [5—6; 195—196]. Более ранние функциональные системы относятся к тем элементам опыта, который является общим для разных актов.
С этой точки зрения процесс развития индивида представляет собой последовательный переход от одного уровня интегрированности функциональных систем к другому, т. е. вновь сформированные системы не сменяют предшествующие, а как бы «наслаиваются» на них [34; 217]. При этом первые не вступают со вторыми в отношения доминирования – подчинения, а взаимодействуют на паритетных началах [207].
Исходя из этого, опыт человека можно представить как совокупность отдельных, сугубо индивидуальных, сочетаний функциональных систем – отсюда и неповторимость восприятия событий внешнего мира каждым человеком [5]. Ю. И. Александров отмечает: «Функциональные системы, реализация которых обеспечивает достижение результата поведенческого акта, формируются на последовательных стадиях индивидуального развития, поэтому системная структура поведения отражает историю его формирования. Иначе говоря, реализация поведения есть… реализация истории формирования поведения, т. е. множества функциональных систем, каждая из которых фиксирует этап становления данного поведения» [5, с. 130—131].
При этом индивидуальный опыт человека содержит своеобразные инварианты общественного опыта, которые по механизму своей реализации оказываются тождественными стереотипам личного опыта. Как отмечает К. В. Судаков: «Функциональные системы социального уровня по своей архитектонике в общей форме подобны таковым, обнаруженным в живых организмах. В функциональных системах социального уровня просматривается общий для всех функциональных систем принцип динамической саморегулирующейся организации по конечному результату…» [172, с. 86].
Таким образом, опыт человека, совмещающий в себе как личное, так и общественное, существенно отличается от опыта животного, который определяется преимущественно историей его индивидуального развития. В рамках такого описания сам человек выступает как совокупность функциональных систем различного уровня, из которых состоит его видовая и индивидуальная память и на основе которых строится его поведение.
2.3. Душа – энергоинформационная сущность живого
Теория функциональных систем П. К. Анохина – это принципиально новая, детально разработанная и наиболее завершенная системная теория, которая позволяет изучать и оценивать сложнейшие процессы в жизнедеятельности организма. Только в последние годы отечественные и зарубежные ученые подошли к пониманию необходимости комплексного исследования физиологических явлений. А между тем, творчески развивая научное наследие И. М. Сеченова, И. П. Павлова и А. А. Ухтомского, П. К. Анохину и его школе еще в прошлом столетии удалось разработать и успешно реализовать интегративный способ познания живых объектов.
Можно сказать, что системный подход, предложенный П. К. Анохиным в физиологии, стал последним шагом на пути к пониманию психических процессов. Ученым было убедительно показано, что смысл психического заключается в непрерывном процессе формирования функциональных систем, направленного на достижение результатов, необходимых живому организму для выживания и развития.
До этого времени основным препятствием объединения психологических и физиологических знаний о человеке считалась эмерджентность психического, то есть появление на уровне психического таких специфических свойств и качеств, которые не свойственны физиологическим явлениям [6]. Решение проблемы привело к пониманию системного эффекта, когда для реализации поведенческого акта организуются частные, локальные физиологические процессы, но сам акт оказывается не сводимым к сумме последних. В связи с этим неразрешимая с рефлекторной точки зрения психофизиологическая проблема с позиции системного подхода получила свое принципиальное решение.
Ю. И. Александров отмечает: «Суть системного решения психофизиологической проблемы заключена в следующем. Психические процессы, характеризующие организм и поведенческий акт как целое, и нейрофизиологические процессы, протекающие на уровне отдельных элементов, сопоставимы только через информационные системные процессы, т. е. процессы организации элементарных механизмов в функциональную систему. Иначе говоря, психические явления могут быть сопоставлены не с самими локализуемыми элементарными физиологическими явлениями, а только с процессами их организации. При этом психологическое и физиологическое описание поведения и деятельности оказываются частными описаниями одних и тех же системных процессов.
Психика в рамках этого представления рассматривается как субъективное отражение объективного соотношения организма со средой, а ее структура – как «система взаимосвязанных функциональных систем». Изучение этой структуры есть изучение субъективного психического отражения» [5, с. 121—122].
Таким образом, оказалось, что разгадка психического напрямую зависит от методологии его познания. Познаваемое, как серия отдельных физиологических явлений, дробится на части, а потому не может быть понято и объяснено целостно. Только прослеживание процессов организации этих явлений в их непрерывной последовательности дает возможность представить единство и целостность психического [6].
Если же говорить о сущности сводимого к системным процессам психического, то основой системных процессов является информация, а с учетом субъективного фактора в отражении мира – еще и эмоции.
Согласно теории эмоций П. К. Анохина, субъективность отражения среды, формируемая на основе эмоциональных реакций живого, есть продукт биологической эволюции. Ученый отмечал, что эмоции следует рассматривать как своеобразный приспособительный инструмент, который удерживает процесс адаптации организма в оптимальных для него границах. В своей теории П. К. Анохин называл их движущей силой любого и прежде всего целенаправленного поведения [14].
Если говорить о более общих концепциях человека, то в них связь эмоциональной сферы с энергетической составляющей психических процессов, как правило, учитывается априори. Несмотря на сугубо теоретический характер этих концепций, соотношение эмоциональных процессов с энергетическими ресурсами человека (начиная с концепции «психической энергии» З. Фрейда) выглядит вполне убедительным и принимается во внимание большинством ученых.
Исходя из сложившегося понимания указанных понятий, представляется вполне допустимым заменить специальный термин «эмоция» на общенаучный термин «энергия». Эта замена дает основание говорить о том, что сущностью системных процессов, образующих психику человека, являются не просто информационные, а энергоинформационные процессы.
С точки зрения категоризации понятий информация и энергия относятся к идеальным аспектам нашего мира, и в этом своем отношении и единении они противостоят другому, материальному, аспекту. Играя ведущую роль в восприятии и поведении человека, энергоинформационные процессы лишь развертываются на структурах мозга, который выступает в качестве их материального субстрата, проводника и носителя. Из чего следует, что процесс формирования психического есть процесс формирования идеального. Признание этого факта открывает возможности для установления связи физиологии не только с психологией (которая была реализована благодаря появлению нового направления исследований – системной физиологии), но и с философией.
Энергоинформационный характер функционирования психики, а также неразрывная целостность ее структуры позволяет представить ее как своеобразную субстанцию идеальной природы. И как субстанция она является деятельным и относительно независимым началом человека, поскольку не мозг инициирует активность сознания, а сознание инициирует активность мозга. В связи с этим можно вполне уверенно утверждать, что русские физиологи, раскрыв смысл понятий «психика» и «сознание», подготовили все необходимые условия для возвращения в сферу научного знания традиционного философского понятия «душа», которое считалось навсегда утраченным в ходе развития психологии.
Думается, что все вышесказанное является достаточным основанием для того, чтобы общую совокупность функциональных систем человека, представляемую в виде целостного энергоинформационного образования, которое с точки зрения психологии трактуется как психика, а с точки зрения философии – как сознание или душа, считать второй частью создаваемой модели человека.