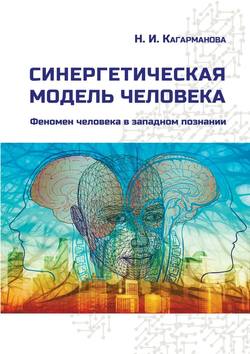Читать книгу Синергетическая модель человека. Феномен человека в западном познании - Надежда Ивановна Кагарманова - Страница 6
I. Синергетический подход в современном познании
3. Специфика структурно-функциональной организации человека
Оглавление3.1. Труд или созерцание создало человека?
В связи с тем, что одна часть модели человека была обозначена как тело, а вторая как душа, можно предположить, что третья часть будет определена как дух.
Необходимо заметить, что для понимания человека эта часть имеет особое значение, так как рассмотренная выше теория функциональных систем П. К. Анохина в своем объяснении организации живых систем не акцентирует внимание на проблеме специфики человека, то есть не отвечает на вопрос: в чем заключается принципиальное отличие человека от животного?
По этой причине именно третья часть должна сыграть ключевую роль в осмыслении уникальной по своему характеру природы человека. Данное условие требует несколько иного подхода к описанию заключительной части формируемой модели. Речь идет о необходимости привлечения к рассмотрению интересующего нас вопроса антропологической проблематики, то есть обращения уже не к естественнонаучной, а к гуманитарной сфере научного знания.
Согласно сложившимся в науке представлениям, роль фактора, выделяющего человека из мира животных, играет социальный фактор. Наиболее фундаментальной и влиятельной теорией в области антропосоциогенеза является теория марксизма. Доказательством социально-биологической эволюции человека служит выдвинутая Ф. Энгельсом гипотеза о роли труда в процессе исторического развития человека, согласно которой человек трактуется как существо разумно-деятельное, а факт становления человеческого общества – как продукт трудовой деятельности всех предшествующих поколений. По мнению Ф. Энгельса, труд является основным фактором человеческой эволюции [116, т. 20].
Однако XX век, заметно ускоривший процесс развития человечества, заставил усомниться в том, что именно трудовая деятельность служит основой человеческого в человеке. Так, например, немецкий философ культуры А. Швейцер, отмечавший высокий уровень активизма стран западного мира, писал, что все убыстряющееся движение трудовых и социальных процессов не только не способствует прогрессу человека, но и действует на него крайне отрицательно. По мнению ученого, интенсификация труда и резкое увеличение темпов общественного развития приводят к тому, что многие люди начинают чувствовать себя просто рабочей силой и жить, не испытывая потребности проявлять себя в качестве самодостаточной, творческой личности. Ставшая обычной сверхзанятость приводит к тому, что человек теряет способность задаваться вопросами, выходящими за рамки его повседневных дел и потребностей. Он стремится лишь «не выпасть» из непрерывно ускоряющегося потока социальных событий. В результате, делает вывод А. Швейцер, собственно человеческое начало в человеке мелеет, скудеет, деградирует [194].
Русский философ Н. А. Бердяев, анализируя причины этого явления, писал: «Исключительный динамизм, непрерывный активизм или растерзывают человека, или превращают его в механизм <…> человек должен периодически приходить к моментам созерцания, испытывать благодатный отдых созерцания» [32, с. 223]. Позднее советский психолог и философ С. Л. Рубинштейн также отмечал, что «величие человека, его активность проявляются не только в деянии, но и в созерцании, в умении постичь и правильно отнестись ко Вселенной, к миру, к бытию» [143, с. 339—340].
Итак, оба мыслителя при характеристике человека упоминают слово «созерцание». «Философский энциклопедический словарь» (1989) трактует это слово следующим образом: созерцание – это «непосредственное отношение сознания к предмету. Психологически созерцание описывается как целостно-интуитивное, не дискурсивное погружение в предмет, вплоть до эмпатического слияния с ним» [180, с. 596].
Из этого следует, что созерцание – это установление прямой, непосредственной связи человека с природой, людьми, со всем, что его окружает. Переживаемое как интимное, глубоко сокровенное чувство, созерцание напоминает тайный диалог, в котором участвуют только двое: человек и мир. По словам А. Экзюпери, «тот, кто возвысился до созерцания, становится зерном. Тот, кому открывается некая истина, тащит другого за рукав, чтобы посвятить в эту истину и его… Мы слишком долго обманывались относительно роли интеллекта. Мы пренебрегали сущностью человека…» [162, с. 321].
С. Л. Рубинштейн объяснял этот феномен всеобщего заблуждения тем, что «отправной пункт открытия бытия, реального существования – в чувственности, а не в мышлении (мышление производно, и оперирует оно сущностями, а не существованием как таковым). Первоначальное открытие бытия человеком – это прерогатива чувственного» [141, c. 283].
По мнению ученого, чувство связи с миром и ощущение себя частью этого мира, более того, частью, осознающей это, – величайшее переживание, доступное только человеку. С. Л. Рубинштейн считал данный факт принципиально важным в понимании человеческой природы. Он отмечал: «Человек выступает как часть бытия сущего, осознающего в принципе все бытие. Это капитальный факт в структуре сущего, в его общей характеристике: осознающий – значит, как-то охватывающий все бытие, созерцанием его постигающий, в него проникающий, часть, охватывающая целое. В этом своеобразие человека и его место и роль во Вселенной, включающей человека» [141, с. 276].
С. Л. Рубинштейн определил созерцание как способ познания, который противостоит другому, более привычному – активному – способу. Противопоставление созерцания и деятельности ученый объяснял особым характером отношения человека к миру в процессе созерцания, характером, освобожденным от всякой утилитарности. Чувства, переживаемые человеком в процессе созерцания, исключают оценку какой-либо пользы или выгоды, напротив, они указывают на некритичное отношение к окружающему, полное его приятие, эмпатическое желание приблизиться к нему, слиться с ним. Эти чувства создают условия для равноправного взаимодействия субъекта и объекта, элиминируя неравнозначность ситуации, столь характерную для традиционной познавательной схемы. Именно отсутствие влияния субъекта на объект, отрицание какого-либо целенаправленного воздействия на него ставит созерцание в оппозицию к привычному деятельностному способу познания.
Вместе с тем С. Л. Рубинштейн подчеркивал, что «созерцательность не должна быть понята как синоним пассивности, страдательности, бездейственности человека» [143, c. 281]. Наоборот, отмечал он, созерцание является важнейшей формой активности человека, но активности не внешней, а внутренней.
Определив процесс познания в целом как процесс диалектического взаимодействия созерцания и деятельности, С. Л. Рубинштейн тем самым решил проблему объединения внутреннего и внешнего опыта человека путем создания концепции рефлексирующего (лат. reflexio – обращение назад) сознания.
Следует заметить, что предложенная С. Л. Рубинштейном постановка проблемы рефлексии существенно отличалась от общенаучной точки зрения по этому вопросу.
Сторонники традиционного взгляда на рефлексию рассматривали ее, прежде всего, как феномен познавательной деятельности, раскрывающий критический потенциал человеческого сознания.
С. Л. Рубинштейн связывал появление рефлексии с особым способом существования человека. В связи с этим он выделил два способа жизнедеятельности человека: слитный и отстраненный (рефлексивный).
Первый способ, по мнению ученого, характеризуется тем, что человек полностью погружен в поток жизни, сливается с ним, поглощен им. В этом состоянии он способен определиться в своем отношении лишь к отдельным событиям, но не к жизни в целом. Он не в состоянии понять смысл своего существования, определить цели и задачи своей жизни, составить план будущих действий. При таком способе превалирует тактика действий, исходящая из конкретных жизненных ситуаций. Не человек творит свою жизнь, а отдельные события и обстоятельства управляют его деятельностью.
Второй способ существования характеризуется тем, что человек оказывается способным подняться над повседневностью. Рефлексирующее сознание выступает здесь как разрыв, как выход из полной поглощенности непосредственным процессом жизни для выработки соответствующего отношения к ней, занятия позиции над ней, вне ее для суждения о ней. При наличии рефлексии каждый поступок человека оценивается в контексте целостного отношения к жизни, становится частью стратегии, направленной на осмысленное создание собственной судьбы.
Таким образом, для С. Л. Рубинштейна, в отличие от его предшественников, целостностью становится уже не просто человек, а «человек в мире». Человек рассматривается не просто как отдельная самостоятельная целостность, а целостность, размыкающая границы своей изоляции, переходящая на новый, более высокий, уровень своего развития. Трудами С. Л. Рубинштейна была заложена психология, раскрывающая коренное свойство человека – способность к саморегуляции и саморазвитию, то есть способность выбирать свой жизненный путь и управлять им, последовательно обретая позицию «хозяина своей жизни».
Объединение внутренней и внешней деятельности сознания позволило С. Л. Рубинштейну определить созерцание в качестве фундаментальной характеристики родового человека, обозначающей его способность познавать мир особым образом и особым же образом к нему относиться. Выявленная С. Л. Рубинштейном теснейшая связь человеческого сознания с бытием мира, обусловленная его субъективной чувственностью, придала традиционно гносеологической проблеме явно выраженный онтологический оттенок.
3.2. Мысли и чувства
Чтобы оценить особый характер созерцания как явления сознания, необходимо рассмотреть его более детально. В связи с этим имеет смысл перейти от философско-психологической постановки проблемы к более частным вопросам познания, где специфика этого явления раскрывается более полно. Но, как известно, традиционно относимое к сверхчувственному типу познания, созерцание не входит в структуру научного знания, которое опирается исключительно на результаты взаимодействия органов чувств человека с природной реальностью. Следовательно, чтобы прояснить рассматриваемый вопрос, необходимо выявить признаки различия между сверхчувственным и чувственным видами познания.
Вместе с тем анализ указанной проблемы требует отдельного обзора огромного объема литературы, что является излишним в рамках настоящего исследования. Принимая во внимание данные условия, представляется вполне возможным воспользоваться результатами уже проведенных исследований, в частности, обратить внимание на анализ проблемы соотношения научного и философского знания. Как известно, до того момента как философия вошла в состав научного знания, она обладала собственным способом познания. И как бы ни назывался этот способ: созерцание, метафизика, трансцендентальный способ и др., он всегда ориентировался на изучение всего того, что лежит за пределами чувственного восприятия человека.
Весьма показательной в этом плане является статья русского философа Павла Соломоновича Юшкевича «О сущности философии. К психологии философского миросозерцания» (1921).
Автор отмечает, что в отличие от науки, в основе которой лежит «чистый разум», философия опирается на живую душу человека. Он пишет: «Сравнивая научные истины с философскими, мы замечаем, прежде всего, следующую особенность: научные понятия если не поддаются мере и числу, то все определены и однозначны… Научные понятия – это сухие деловые бумаги, в которых каждое слово, каждый знак имеют свое, точно взвешенное, раз и навсегда установленное значение.
Совсем иной характер носят философские понятия. Они какие-то мерцающие, точно звезды, то сжимающие свой пучок света, то снова разжимающие его. Они полны намеков и обетований: «сущее», «бытие», «становление» – это не сухие отвлеченные термины логики, это сложные символы, под которыми, помимо прямого смысла, скрывается еще особенное богатое содержание» [206, с. 9].
П. С. Юшкевич отмечает, что сложность и неоднозначность философских понятий является результатом эмоциональной нагруженности последних. По его мнению, «эта расплывчатость, „мерцание“ философских понятий, благодаря которому на строгий логический смысл их налагается еще какой-то другой – менее определенный, но чем-то ценный и значительный, – не есть случайный признак их, продукт недостаточного расчленения и обработки. Наоборот, это их существенная составная черта. Коренные философские понятия суть всегда понятия-образы, понятия-эмоции» [206, с. 10].
Таким образом, явный эмоциональный налет философского знания является, по мнению П. С. Юшкевича, характерной особенностью данного вида познания. Он прямо указывает: «Философские понятия… биполярны. Обломайте у них образно-эмоциональный полюс, и вы превратите их в точные понятия науки. Лишите их полюса логического – и перед вами окажутся художественные образы, окрашенные в особый чувственный тон. И в том и в другом случае получаются вполне длительные результаты: наука, с одной стороны, поэзия – с другой. Но зато утрачивается своеобразный синтез их, то, как будто неустойчивое, а на самом деле необыкновенно стойкое и упорное соединение их, каким оказалось в истории мысли философское миросозерцание» [206, с. 15].
Автор статьи считает, что философское познание – это промежуточное познание; оно располагается между разумом и чувством, в особой зоне «полу-знания, полу-поэзии, полу-мысли, полу-чувства».
Личностное отношение к объекту, субъективная оценка познаваемого, эмоциональность – все то, что изначально было исключено из науки, все это присутствует в философском познании, более того, составляет основной и характерный ее принцип.
По мнению П. С. Юшкевича, включение эмоционально-чувственного компонента в состав философского знания обусловлено наличием у философии особого, отличного от научного, способа познания. Философская мысль всегда имеет своим предметом не мир сам по себе, а человеческий взгляд на мир, человеческое отношение к миру Отправной точкой философских суждений выступает не абстрагированный от субъективности и очищенный от эмоциональности разум, а целостная личность во всей ее полноте и многомерности. «В философии миросозерцания, – пишет П. С. Юшкевич, – происходит приобщение внутренней личности… к мировому целому. Лицом к лицу здесь становятся „Я“ и Вселенная» [206, c. 23].
В философском познании не только познающий субъект реализует себя как целостная личность, но и познаваемое выступает как единое и неделимое целое. Сторонники метафизического направления единодушно характеризуют изучаемый ими мир как всеобъемлющую мировую полноту, как интегративное нечто, которое включает в себя все.
Взаимодействие двух целых дает удивительный, неожиданный с точки зрения рационального сознания эффект. По словам П. С. Юшкевича, «человек чувствует себя песчинкой на Земле, атомом – в Солнечной системе и еще более мелкой единицей по отношению к звездному миру. Чем более объемлющие системы мы станем брать, тем ничтожнее будет удельный вес личности. Казалось бы, что в пределе должна получиться бесконечно малая дробь. И однако лишь только мы переходим к этому пределу и противопоставляем человеку мировое „Все“, как рассматриваемое отношение резко меняется: из дифференциала личность становится вдруг значащей величиной, величиной того же порядка, что и мировое целое. Это ясно показывает нелогический, иррациональный характер понятия „Все“, которое и дорого человеку именно этой своей иррациональностью» [206, c. 20].
Получаемые таким образом сведения о мире оказываются столь же всеобъемлющими, как и объект познания. Возможность трактовки такого знания в категориях научного познания философы оценивают весьма умеренно, ясно показывая, что перевод эмоционально-образного восприятия в сферу рационального сознания связан с неизбежными потерями смысла в силу ограниченности человеческих способностей к описанию объективной многомерности мира.
Недостаточность средств логического мышления для интерпретации сверхчувственного знания не единственная причина сложностей, которые возникают при переводе результатов одного вида познания в другой. Дело в том, что, как уже отмечалось, описание объекта в философском познании включает в себя субъективность мироощущения, своеобразие личности самого познающего. В силу этого в философии принято отличать философскую интуицию, имеющую истоком интимное «Я», и философскую интерпретацию, призванную выявлять и оправдывать данную интуицию.
По мнению П. С. Юшкевича, насколько интимна личная интуиция, настолько же субъективна ее интерпретация. По его словам: «В основе философской спекуляции лежит всегда <…> суждение, отождествляющее „Всё“ с некоторым составным элементом его. Суждение это, в котором целое равно части, логически несостоятельно, но в этом именно ошибочном равенстве и заключается в известном смысле весь raison d’ệtre. „Всё“, заключающее в необъятном лоне своем все предикаты, не может быть, разумеется, полномерно выражено ни в одном из них. Логически правильное суждение свелось бы здесь к одной колоссальной тавтологии: „Всё есть Всё“. От бессодержательного тожесловия здесь спасает только логическая ошибка, тот плодотворный философский дальтонизм и односторонность, благодаря которым из мирового целого силой выхватывается один элемент его, превращаемый в представителя и символ всего бытия. Вся философия построена в известном смысле на тропе из теории словесности… и понятна только как своеобразная эстетическая реакция на мировое целое. Философская интуиция есть в этом отношении одна гигантская метафора» [206, с. 22]. В связи с этим он заключает: «Философия есть исповедь интимного „Я“, принявшая форму повествования о мировом „Всём“» [206, с. 22].
Трудно или даже невозможно не согласиться с автором статьи в том, что сверхчувственное познание – это особый вид познания, отражающий способность человеческого сознания получать прямое, непосредственное знание о мире, которое в силу своей уникальности называют еще духовным знанием.
Но в чем ценность такого знания для человека?
3.3. Любовь… как следствие познания
С гносеологической точки зрения познать что-либо сверхчувственным способом – значит испытать нечто на личном опыте, внутренне пережить это, эмоционально приобщиться к познаваемому. Примером этому могут служить слова архимандрита Сергия (Старогородского), описывающего переживания религиозного опыта: «Познание Бога, чтобы отвечать своему понятию, должно быть переживанием в себе присутствия Божия, которое дает человеку непосредственно ощутить Божественную жизнь и таким образом приведет к опытному постижению Божественного существа. Человек тогда действительно, а не призрачно познает Бога, когда ощутит Его непосредственно, когда Бог будет для него не только бесконечным величием, будет не первопричиной всех причин, не первой посылкой мироздания, а перейдет внутрь человека, станет началом, одушевляющим человека и построяющим его по себе. Такое познание, очевидно, вполне может быть названо жизнью, поскольку оно не работа только рассудка, а именно переживание, ощущение жизни Божества в себе самом» [163, c. 95—96].
Обладая опытом подобного рода, человек воспринимает случившееся как не подлежащий сомнению факт личной жизни, убеждающий его в том, что надэмпирический уровень существует в действительности. И происходит это во многом благодаря тому чувству, которое сопровождает данное познание. Острое, необыкновенно сильное переживание осознается человеком как «действие сверхмировой силы», направленное на эмпатическое взаимодействие «всего со всем». Полное приятие, безусловное отношение к себе со стороны этой силы заставляет человека ощутить себя не отдельным и одиноким существом, а частью всеобщего мира, основой которой является любовь.
По мнению С. Л. Франка, «если человек в миру представляется себе <…> оторванным и замкнутым в себе куском бытия <…> то человек, нашедший свое подлинное существо в мирообъемлющем единстве, осознает, что вне любви нет жизни <…> он <…> обретает естественную и необходимую связь со всеми остальными людьми, со всей мировой жизнью в целом» [185, с. 34].
Рассматриваемая с этой точки зрения любовь выступает как энергия связи, созидательный закон бытия, принцип развития мира. Если физическая, эмпирическая, жизнь предполагает своим условием выделение человека из окружающего мира, его обособление, то сверхчувственная жизнь, напротив, несет в себе возможность слияния человека с миром, любовь к нему.
П. А. Флоренский объяснял этот феномен тем, что любовь имеет опору в объекте, а потому носит онтологический характер. И только после перехода от объекта к субъекту она становится психологическим фактом. Философ подчеркивал, что в этот момент человек находит любовь, но еще не выбрал ее. Он находится в состоянии выбора. На этом этапе он еще может вернуться к прошлой жизни. Но если индивид осуществляет свой выбор, то переходит на новый уровень своей жизни – «избрание».
Следует отметить, что анализ П. А. Флоренским любви невозможен без учета контекста категорий Истины и Красоты, в единстве с которыми он рассматривает Любовь. Любовь, Истина и Красота триедины, по сущности собственно едины. Они лишь по-разному проявляют себя в зависимости от того, под каким углом рассматриваются. «То, что для субъекта знания есть истина, то для объекта его есть любовь к нему, а для созерцающего познания – красота» [181, c. 75]. При этом Истина, Любовь и Красота – одна и та же духовная жизнь, одна сущность, единство. Однако только Любовь П. А. Флоренский связывает непосредственно с Богом. Через любовь устанавливается связь с личным Абсолютом, и только в любви она осуществима. «Любовь моя есть действие Бога во мне и меня в Боге» [181, c. 75].
П. А. Флоренский говорит о синергии, посредством которой происходит со-действие Бога и человека в любви. Через это со-действие и осуществляется приобщение условного человеческого бытия к бытию безусловному, Божественному. Утвердившись в избрании Любви, человек вступает в личные отношения с Истиной и становится совершенным в Любви: он смотрит на мир глазами Божественной Любви и любит все тварное в Боге. В этом и заключается смысл и конечная цель его жизни.
«Избрание» Любви как бы растворяет, умаляет или даже отменяет все прошлые привязанности человека, связанные с его благосостоянием, властью, славой и многим другим, что имеет значение в обычной, эмпирической, жизни. Новое чувство-знание становится условием изменения жизненной позиции усвоившего его человека. Отныне он выстраивает принципы своего существования в соответствии с принципами существования сверхчувственной реальности, главным из которых является принцип любви. Как универсальный закон развития мира этот закон выступает основным требованием к поведению человека.
Восхождение на этот уровень означает, что «свойственный организму с незапамятных времен принцип самосохранения как бы отменяется „новым порядком вещей“, новые формы существования отрицают формы, предшествующие им; на горизонте появляются новые ценности. Возникает принцип альтруизма» [197, с. 26]. Эти слова принадлежат известному британскому физиологу Чарлзу Шеррингтону, который рассматривал принцип альтруизма как один из механизмов приспособительного поведения индивида, основанного на преобладании интересов других людей над собственными интересами и бескорыстном служении им.
С точки зрения здравого смысла, ориентированного на условия материального мира, такое поведение может рассматриваться как неразумное и даже противоестественное, поскольку предполагает наличие потребности не только брать, но и отдавать, что означает уменьшение преимуществ человека в процессе его природного и социального выживания. Однако с позиции сознания, пережившего опыт духовного преображения, реализация альтруистического поведения в повседневной жизни представляется делом совершенно естественным и необходимым.
Положение о том, что внутренняя активность человека проявляется в его деятельности, не нуждается в особых доказательствах, так как относится к главным достижениям отечественной психологии. Сформулированный С. Л. Рубинштейном принцип единства внутренней и внешней активности человека носит название «единства сознания и деятельности» и является основополагающим при рассмотрении поведения индивида. Известный психолог отмечал: «Субъект, в своих деяниях, в актах творческой самодеятельности не только обнаруживается и проявляется; он в них созидается и определяется. Поэтому тем, что он делает, можно определять то, что он есть; направлением его деятельности можно определять и формировать его самого. Большие исторические религии понимали и умели ценить эту определяющую силу действий» [142, с. 106].
Как известно, нормы поведения, выработанные на основе духовного знания, называют нравственными нормами. В отличие от норм морали, которые служат средством социальной регуляции человека, нравственные нормы не требуют внешнего контроля. Суть их формулировок обращена к каждому человеку отдельно. И только он один принимает решение относительно того, принять или отвергнуть эти особые отношения с миром, только он один берет на себя ответственность за их выполнение.
Добровольное и осознанное воплощение принципов нравственного поведения в повседневной жизни рассматривается как непосредственный признак проявления духовного начала в человеке. Е. И. Рерих в статье «Космическая эволюция и ее цель (назначение)» довольно подробно описала этапы возрастания духовности в человеке, увязывая их с этапами эволюционного развития человечества. Она отмечала: «Из животного плана мы подымаемся через моральный план на план духовный. Животный план есть план узкого, ограниченного сознания низшей самости, где животное отождествляет себя со своим телом и думает о себе обособленно от всех других. С животного плана мы эволюционируем через моральный в духовный план. И чем меньше выражена в нас низшая самость, тем выше поднимаемся мы над планом животным. Когда мы признаем «эго» ближних, хотим им блага и ищем, как бы помочь им, тогда мы достигли так называемого человеческого плана. Это есть начало моральной жизни. Тогда мы признаем не только свои права, но и права ближних. Это выражено в Золотых Правилах: «поступайте с ближними, как вы хотели бы, чтобы они поступали с вами». Но лучшее выражение этого морального закона мы находим в словах Иис [уса] Хр [иста]: «возлюби ближнего, как самого себя». Когда мы начинаем любить других, так же как мы любим самих себя, мы истинно становимся нравственными. Тогда мы не думаем, что прилежа к пище, питью и порождая детей, как и низшие животные, мы выполнили высшее завершение и цель жизни. Мы понимаем, что завершение смысла жизни состоит из любви ближних, как самих себя. Тогда только мы достигаем освобождения от оков самости. Это освобождение может быть достигнуто лишь через высшую форму любви истинного «Я» в других. Эта истинная, лишенная самости любовь возможна, когда мы осознаем свою истинную природу, потому она зависит от познания нашей истинной природы» [139, с. 62].
Идея о том, что подлинная, высшая, природа человека характеризуется проявлением его духовного начала, характерна для всей русской религиозной и философской традиции. Увеличение духовности в человеке самым непосредственным образом влияет, а точнее говоря, определяет процесс его развития. Входя в структуру личности, дух принципиально меняет внутреннее «содержание» человека, его сущность, то есть его душу, а вместе с ней – и поведение. Но по этой же самой причине, как фактор, изменяющий «качество» души, он оказывается тесно сближенным с нею, почти неотличим от нее. Здесь проявляется одно из основных свойств духа: он «личен и раскрывается в личности, но он наполняет личность сверхличным содержанием» [33, с. 370].
Проблема соотношения духа и души традиционно признается одной из самых сложных проблем философии. По словам С. Л. Франка: «С тех пор, как человечество… достигло понятия «духа», усмотрения духовной реальности, – в сущности, еще «доселе никому не удалось определить различие между «духом» и «душой» столь ясно и однозначно, чтобы этим установлены были бы точные границы между этими двумя областями. Где собственно, «кончается» «душа» и начинается область «духа»?..
Придерживаясь определения «дух» как инстанции, придающей душевному бытию в его субъективности и потенциальности полновесную актуальную реальность, мы должны сказать, что «душа» в направлении «вовнутрь», «вглубь» постепенно становится все более реальной, обладает большей степенью самодовлеющей, «объективной» реальности и что, с другой стороны, «дух» в этом своем воздействии на «душу» как бы сам облекается в пограничной своей части в «потенциальность», именно выступает как «субъективная жизнь».
Мы стоим здесь перед двоицей, которая вместе с тем есть исконно нераздельное единство, – или перед единством, которое обнаруживает себя как конкретное, подлинно внутреннее, всепронизывающее единство именно в неразрывной сопринадлежности, в неудержимом переливании друг в друга тех двоих, на что они разделяются… Мы должны и здесь осознать неадекватность, «приблизительность» всех логических определений <…> поскольку мы имеем смелость витать <…> в сфере здесь именно»«не исключенного третьего»» [186, с. 405].
Вывод С. Л. Франка, характеризующий степень разработанности проблемы соотношения духа и души, относится не только ко времени написания им процитированной выше работы (1940); он в полной мере актуален и в наши дни. В связи с этим единственной возможностью прояснить суть вопроса остается попытка обратиться к той области знаний, в которой эта проблема признается давно и окончательно решенной. Речь идет о христианской антропологии.
3.4. Онтологическое единство мира и человека
Прежде чем перейти к рассмотрению указанной проблемы, обратим внимание на то, что человек в христианстве вне связи с миром не мыслится и не рассматривается. Признание их взаимосвязанности и взаимообусловленности отражено в идее о коренной, онтологической тождественности мира и человека. Одной из наиболее емких и лаконичных формулировок отношений «человек – мир» является формулировка П. А. Флоренского, который, отмечая «равномощность мира и человека», писал: «Человек есть сумма мира, сокращенный конспект его; мир есть раскрытие человека, проекция его!» [184, с. 185].
Исходя из этого, чтобы понять сущность человека как существа духовного, необходимо предварительно уточнить специфику христианских представлений о духовной природе мира.
В Священном Писании говорится: «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине» (Ин. 4:24). По мнению Григория Нисского, это выражение свидетельствует о том, что «Божественная природа единопроста, единовидна, несложна» [цит. по: 183, с. 144].
Но если Бог по природе есть Дух, как возможно и возможно ли вообще определить Его сущность?
Почти все христианские мыслители оставили свидетельства своего отношения к этой проблеме, и все они единодушны в том, что определить сущность Бога не представляется возможным. Григорий Нисский утверждал: «Естество Божие, Само по Себе, по Своей сущности, выше всякого постигающего мышления: оно недоступно и неуловимо ни для каких рассудочных приемов мысли, и в людях не открыто еще никакой силы, способной постигнуть непостижимое, и не придумано никаких средств уразуметь неизъяснимое» [159, Кн. XII, с. 442]. Симеон Новый Богослов также отмечал: «Нам надлежит знать только, что Бог есть, но доискиваться узнать, что есть Бог, это не только дерзко, но бессмысленно и неразумно» [164, с. 480].
Непознаваемость Бога объясняли тем, что в мире не существует определения, которое могло бы точно отразить Его сущность. По этому поводу Григорий Богослов писал, что «нет ни одного имени, которое обнимало бы все естество Божие, и было бы достаточно для того, чтобы выразить его вполне… Представить себя знающим, что есть Бог, есть повреждение ума» [151, с. 501]. Иоанн Лествичник не менее определенно утверждал, что «…кто хочет определить словом, что есть Бог, тот, слепотствуя умом, покушается измерить песок в бездне морской» [133, с. 376].
Вместе с тем, по свидетельству христианских писателей, какое-то представление о Боге составить все же можно, в противном случае все богословие было бы ничем иным, как просто пустословием.
Впервые вопрос о характере и границах богопознания был поднят в IV веке членами Каппадокийского кружка: Василием Великим, Григорием Богословом и Григорием Нисским. Для обоснования возможности иметь объективное знание о Боге они использовали философское понятие «энергия» (греч. energeia – действие, деятельность), которое означает проявление сущности в действии, ее способность обнаруживать свое существование вовне, делать его доступным наблюдению. По замечанию Григория Нисского, «Божество, как совершенно непостижимое и ни с чем несравнимое, познается по одной только деятельности. Нет сомнения в том, что в сущность Божию разум проникнуть не может, но зато он постигает деятельность Божию и на основании этой деятельности получает такое познание о Боге, которое вполне достаточно для его слабых сил» [152, с. 446].
Однако в учении, разработанном каппадокийцами, присутствовала некоторая неясность в отношении природы Божественных энергий. Вопрос о ее устранении был поставлен ровно через 1000 лет Григорием Паламой, которому удалось доказать нетварный характер Божественных энергий. Согласно его учению, Божественные энергии не сотворены Богом, как все прочее в мире, а извечно изливаются из Его сущности подобно свету, исходящему от Солнца.
Итогом многовековых дискуссий по проблемам богопознания стало утверждение двух способов познания Бога. Первый способ, основанный на признании Бога существом трансцендентным миру, был назван апофатическим (греч. apophatikos – отрицательный). Это «путь отрицаний» несвойственных Богу качеств, присущих тварному бытию. Другой способ, основанный на признании Бога существом имманентным миру, получил название «катафатический» (греч. kataphatikos – положительный). Это «путь утверждений» характерных для Бога свойств тварного мира.
В традиции христианского богословия свойства Бога, раскрываемые посредством апофатического метода, принято называть еще онтологическими свойствами, а свойства, раскрываемые посредством катафатического метода, – духовными свойствами.
К числу онтологических свойств Бога, как правило, относят: самобытность, вечность, неизменяемость, неизмеримость и вездесущность.
Свойство самобытности означает, что Бог независим по Своему бытию ни от чего другого, напротив, Он сам является причиной и условием своего существования. О самобытности Бога в Священном Писании говорится словами самого Бога: «Прежде Меня не было Бога и после Меня не будет» (Ис. 43:10).
Свойство вечности отрицает зависимость Бога от временных, преходящих условий. Бог, будучи Сам Творцом времени, пребывает вне времени, но всецело присутствует в каждом его моменте. Для него прошлые, настоящие и будущие события – все есть настоящее. В Священном Писании сказано: «Прежде, нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, от века и до века Ты – Бог» (Пс. 89:3).
Свойство неизменяемости означает, что Бог не подлежит каким-либо изменениям или переходам из одного состояния в другое. Его жизнь есть выражение Его сущности и всегда равна своему внутреннему содержанию. В Священном Писании об этом говорится так: «Ибо Я – Господь, Я не изменяюсь» (Мал. 3:6).
Свойство неизмеримости указывает на независимость Бога от пространства как формы существования земного бытия. В силу того, что Бог не зависит от пространства, Он не зависит и от места. Именно этим обстоятельством обусловлено евангельское требование поклонения Богу «в духе и истине».
Свойство вездесущности означает, что Бог проникает во все сущее. Пребывая вне мира, Он повсюду присутствует в мире. Это подтверждается следующими словами из Священного Писания: «Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо – Ты там, сойду ли в преисподнюю – и там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря – и там рука Твоя поведет меня» (Пс. 138:7—10).