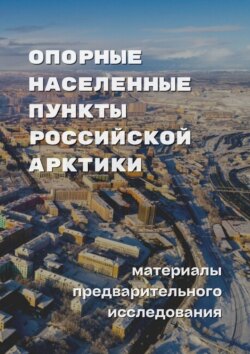Читать книгу Опорные населенные пункты Российской Арктики. Материалы предварительного исследования - Надежда Юрьевна Замятина - Страница 4
1. Особенности арктических городов: вызов современной урбанистике
1.2. Города и поселки Арктики: текущая ситуация
ОглавлениеГорожане составляют в мировой Арктике около 3,3 млн человек, или чуть более половины всего населения (если условно считать горожанами жителей населенных пунктов с численностью населения более 5 тыс. жителей13), но особенно важны города в российской Арктике – в них проживает, по официальным данным, 89% населения Арктической зоны РФ. Примечательно, что такого уровня урбанизации в России нет больше нигде: в Центральном федеральном округе доля горожан составляет 82,3%, в Северо-Западном – 84,5%, в промышленной Свердловской области в городах проживают 84,9%, в Московской – 81,5%14.
Отличия населенных пунктов Арктики в целом и российской в частности от сети расселения умеренного пояса могут быть охарактеризованы пятью основными особенностями.
Первая особенность Арктики – в ней нет больших городов: население самых крупных городов региона не превышает 350 тыс. человек – уже это обстоятельство не позволяет применить в Арктике общенациональные принципы пространственной политики, ориентированные на поддержку в первую очередь крупных городских агломераций. Города зарубежной Арктики в целом мельче: крупнейшие города канадской Арктики Йеллоунайф и Уайтхорс меньше «заштатного» ямальского города Муравленко. Иными словами, на фоне зарубежной Арктики российская – зона крупных и даже «очень крупных» городов, хотя на фоне основной полосы расселения 50—100-тысячные города, составляющие основной костяк городской сети российской Арктики (Норильск, Новый Уренгой, Ноябрьск, Салехард, Надым, Мончегорск, Воркута), сопоставимы разве что с пригородами. В этом состоит, пожалуй, главный парадокс арктической урбанизации.
Вторая особенность – городское население Арктики очень сконцентрировано. По сути, арктическая урбанизация – это штучное количество локальных городских систем. Как уже отмечали исследователи, всего пять городских систем, сложившихся вокруг крупнейших городских центров Арктики, составляют более половины официального городского населения Арктики: это Архангельск, Мурманск, Анкоридж, Норильск и Рейкьявик с их пригородами. Только в Архангельске и Мурманске с окрестностями проживает почти треть горожан мировой Арктики и примерно половина Арктики российской15 (см. табл. 1).
Из высокой концентрации городского населения следует, что бóльшая часть территории Арктики лишена не просто крупных городов, но вообще сколько-нибудь значительных городских центров. И наоборот, расположенные в малонаселенной местности города обладают буквально монополией на городские услуги: зачастую это единственные точки получения медицинской помощи, доступа к учреждениям культуры, банкам, а иногда даже и к интернету на сотни километров вокруг.
Третья особенность, еще больше усиливающая эффект второй, состоит в том, что крупнейшие арктические города расположены по южной границе Арктики (а с учетом того, что граница Арктики – понятие довольно условное16, то большинство из них и вовсе будут арктическими с некоторой долей условности). Так, Рейкьявик расположен на 64-й параллели – как и Архангельск. Аляскинский Анкоридж неожиданно оказывается самым южным из крупных арктических городов: расположенный на 61-м градусе широты (61.159591), он лишь немного севернее Санкт-Петербурга (если уж быть совсем точным, то его географическая широта соответствует северной оконечности Выборгского района Ленинградской области) и практически на широте сибирского Сургута (кстати, схожего с Анкориджем и размером, и периодом бурного роста в связи с открытием месторождений нефти). И только Мурманск и Норильск можно считать «истинно арктическими» крупными (более 150 тыс. жителей) городами. Из расположенных в наиболее суровых условиях выделяются также Воркута (в прошлом город-стотысячник, потерявший в последние три десятилетия около половины численности населения) и Новый Уренгой (напротив, растущий), а также примерно 50-тысячные Надым и Салехард; в меньшей степени – Мончегорск, Кировск, Апатиты. Почти на южной границе Арктической зоны России расположен Ноябрьск (по воспоминаниям его основателей, город был целенаправленно размещен чуть к северу от южной границы ЯНАО, где северный коэффициент к зарплате выше, чем всего несколькими километрами южнее, на территории Ханты-Мансийского автономного округа).
Четвертая особенность Арктики – это неустойчивость численности населения городов и большой размах миграции (повышенная доля как въезжающих, так и выезжающих)17.
Арктические города разных стран отличаются разнонаправленной динамикой численности населения (см. рис. 1).
В то время как в мире в целом население арктических городов растет, в России в последние три десятилетия сокращается, и местами очень существенно, при этом сокращается население и крупных, и небольших населенных пунктов.
Например, за период с последней переписи населения СССР в 1989 г. десятки городов российской Арктики потеряли от 20 до 50% своего населения, а некоторые (Игарка, Певек, Билибино) – более 50%. В то же время 5 арктических городов России выросли более чем на 20%, а население одного города, основанного в 1986 г. (Губкинский в ЯНАО), увеличилось более чем на 50% и сейчас достигает 28 тыс. человек.
Особенно интенсивно проходило сокращение численности населения поселков в арктической части Республики Саха (Якутия) и на Чукотке за пределами круглогодичной наземной транспортной сети – где сокращение было особенно драматично, а также в городах и поселках Мурманской области. Так, за период с переписи 2002 г. по 1 января 2021 г. несколько десятков городов и поселков потеряли более 20%, а отдельные – и более 50% численности населения (см. табл. 2), причем сокращение продолжается в большинстве случаев и в настоящий момент.
Рисунок 1. Города мировой Арктики
Источник: Замятина Н. Ю., Гончаров Р. В. Арктическая урбанизация: феномен и сравнительный анализ // Вестник Московского университета. Серия 5: География. – 2020, №4. С. 69—82.
Сокращение и/или потеря арктического поселка в большинстве случаев обусловлены следующими обстоятельствами:
– объективное истощение месторождения, с освоением которого был в прошлом связан рост города или поселка;
– изменение условий судоходства, технологий и т. д., приведшее к потере эффективности экономической деятельности на прежнем месте (например, исчезновение потребности в угле у судов, следующих по Северному морскому пути, а также изменение самих условий судоходства);
– передислокация предприятий и организаций, связанных с обеспечением внешней безопасности (военных частей), концентрация деятельности (геология, где произошел практически полный вынос баз экспедиций из удаленных поселков), ликвидация некоторых административно-территориальных единиц (районов);
– нерентабельность продолжения производства при переходе от условий социалистического хозяйствования к рыночным.
Последнее обстоятельство заслуживает особого внимания: в некоторых случаях возобновление работы может быть (гипотетически) восстановлено при изменении внешних экономических условий (например, повышение стоимости добываемого сырья) и/или при развитии инфраструктуры (которое приведет к уменьшению транспортных издержек). Именно транспортная недоступность в значительном числе случаев обусловливает неэффективность продолжения работ. Так, например, условия разработки оловоносных пород на севере Якутии выглядят следующим образом: «Труднодоступность месторождений Депутатского и отдаленность их от предприятий – производителей олова приводят к низкой скорости оборачиваемости вложенных средств – от начала кредитования до получения готовой продукции проходит 1,5 года. При высоких процентных ставках за кредит и транспортных тарифах конкурентоспособность отечественного металла низкая, и себестоимость его производства в 1990-е годы превышала мировые цены. Олово из богатого рудного месторождения Чурпунньа (содержание выше 2%, одно из месторождений в районе Депутатского) везли зимником 250 км до пос. Нижнеянск, далее транспортировали 4100 км по зимнику или по воде с двумя перегрузками до порта Осетрово на Лене, а затем еще 1800 км по железной дороге до Новосибирска»18.
В случае роста численности населения городов обращает на себя внимание следующее обстоятельство. В мире в Арктике растут в основном наиболее крупные, многофункциональные города, а также административные центры регионального уровня19. В свете этих тенденций рост численности населения Салехарда и Нарьян-Мара соответствует мировым трендам. Однако наблюдаемый в России рост численности населения нефтегазодобывающих городов, напротив, идет в разрез с ними. Правда, интенсивно растущие «нефтегазовые» города Новый Уренгой и Губкинский можно считать уникальными: несмотря на отсутствие административного статуса и общую специализацию на обслуживании нефтегазодобывающей промышленности, оба города отличаются относительной диверсификацией. Ключевую роль, по-видимому, играет то обстоятельство, что оба города являются базами освоения относительно молодых, эффективных для разработки месторождений (Новый Уренгой – база разработки в числе прочих перспективных месторождений на севере полуостровов Ямал и Гыдан; Губкинский – Комсомольского газового промысла и др.), оба являются центрами размещения целого ряда нефтесервисных предприятий. При этом Губкинский, при населении чуть менее 30 тыс. человек, является уникальным (для Арктики) примером сохранения собственного филиала учреждения высшего образования (Удмуртского государственного университета)20, имеет свою телерадиокомпанию и производство молочной продукции (на привозном молоке). Можно уверенно утверждать, что в обоих случаях рост численности населения отражает выполнение городом полноценной функции базы разработки перспективных месторождений; оба города могут считаться образцовыми/пилотными примерами развития опорных населенных пунктов – баз развития минерально-сырьевых центров.
Для многих других городов последние десятилетия ознаменовались сокращением разнообразия экономики. В целом ряде случаев эта тенденция сложилась еще в 1970-е годы, когда в экономике поощрялась специализация (так, например, в Игарке практически было утрачено экспериментальное выращивание овощей, был переведен в Красноярск техникум и др.). В значительной степени сужению специализации способствовала разработка богатых нефтегазовых запасов в Западной Сибири (механизм этого процесса, по сути, идентичен «голландской болезни» в местном масштабе). Так, например, Салехард к настоящему времени на практике утратил функцию экспериментальной базы в сельском хозяйстве (ныне планируемую к восстановлению).
Пятая специфическая черта относится к российской Арктике: российская специфика арктических городов на фоне мировой Арктики заключается как раз в узкой их специализации – парадоксально узкой для относительно крупных населенных пунктов. За рубежом в Арктике 13 университетских городов (с общей численностью населения более 770 тыс. человек, или 52% всего городского населения зарубежной Арктики) из 50 (с численностью более 5 тыс. человек), в России – всего 4 из 55 (с учетом Норильска, где Норильский индустриальный институт был преобразован в университет буквально в 2021 г., и города Апатиты без своего вуза, но с Кольским научным центром РАН). Россия резко выделяется на мировом фоне распространением «городов при месторождениях» – данная категория легко вычисляется методом исключения: если не считать города с университетами, столичные и портовые, то «все, что осталось», это и будут промышленные, по сути, монопрофильные города: Новый Уренгой, Ноябрьск (с удаленным пригородом Муравленко), Воркута, Губкинский, Заполярный… Их численность составляет суммарно 17% городского населения российской Арктики, тогда как за рубежом такие города единичны: в сущности, это только Лабрадор-Сити и Соданкюля (промышленная Кируна является еще и административным центром – как Надым, но только более чем вдвое меньше его по численности населения – около 17 тыс. человек, хоть и расположена в более мягких климатических условиях).
Как среди столичных городов национального (Рейкьявик, Торсхавн) и регионального уровня (Тромсё, Будё и др.), так и среди нестоличных городов за рубежом выделяются портовые: Харстад, Му-и-Рана, Алта, Ситка, Кенай, Хэппи Вэлли-Гус Бэй, Хомер и другие. Напротив, в России непропорционально высока доля внутриконтинентальных городов, не связанных с морем, что особенно парадоксально в свете наличия у России Северного морского пути. При этом произошла фактическая деградация и ликвидация портов на Северном морском пути и подходах к нему из-за разрушения инфраструктуры (в первую очередь в силу превышения нормативных сроков ее эксплуатации), акватории портов загрязнены брошенными и затонувшими судами и другими объектами (Амдерма, Диксон, Игарка21, Тикси).
В развитии ситуации наблюдается противоречие между стратегическими задачами обеспечения национальной безопасности на долгосрочную перспективу и экономическими интересами отдельных компаний. Яркий пример – это вывод из эксплуатации железнодорожной ветки ПАО «Газпром» на Ямбург – единственной соединяющей железнодорожную сеть страны и Северный морской путь (малые глубины в районе Ямбурга ограничивают возможности развития здесь порта, однако те же проблемы присутствуют и в других портах, например в Новом Порту, в районе Варандея и др.). Аналогичная ситуация повторяется в меньших масштабах в районах работы ведомственных зимников: так, например, зимник от Игарки к Ванкору был проложен в период необходимости заброски на месторождение крупногабаритных грузов, попутно (в качестве экстерналии) он обеспечил возможность завоза в Игарку относительно более дешевых продуктов из Нового Уренгоя. С уходом потребности в завозе грузов с Енисея отпала и необходимость содержания зимника для «Роснефти», однако его ценность по-прежнему сохраняется для Игарки, причем содержать зимник самостоятельно муниципалитет не в состоянии.
Практически не используется в настоящее время порт Диксон. И если его исходная специализация на бункеровке судов углем сегодня устарела в силу естественного хода развития технологий, то потеря порта в качестве базы завоза крупногабаритных грузов (а также топлива и продовольствия) на север Таймырского полуострова, в качестве потенциальной базы оказания медицинской и технической помощи для следующих по СМП судов и особенно в качестве уникальной туристической дестинации (двумя десятилетиями ранее Диксон был конечной точкой туристического круизного маршрута теплоходов, следующих по Енисею) – выглядит расточительной.
В районах нового освоения строительство городов (продолжавшееся в России до 1980-х гг., когда были созданы самые молодые сибирские города Муравленко и Губкинский) заменено вахтовыми поселками. Информация по вахтовым поселкам фрагментарна, однако уверенно можно утверждать, что социально-экономическое развитие Арктики сильно теряет от узости их функций. Де-факто такие поселки являются как бы очагами цивилизации для окружающего пространства, в том числе для коренных малочисленных народов Севера: это место, где можно совершить покупки в магазине или сбыть свою продукцию, зарядить мобильный телефон и другие устройства (уже давно ставшие необходимыми в жизни не только городских жителей, но и оленеводов), воспользоваться сотовой связью и т. д. Социологи и антропологи фиксируют даже изменение маршрутов миграций оленеводов, а также специализации их хозяйств – так, чтобы обеспечить возможность тесного контакта с «контрагентами» в городах и на месторождениях22. Проблема в том, что такие контакты чаще всего нелегальны. Ресурсодобывающие компании не могут официально оказать услуги, например, по поставке местным потребителям электроэнергии – в результате зачастую соседствуют высокотехнологичные вахтовые поселки и полулегальные поселения местных жителей, не имеющие статуса поселений и/или муниципальных образований (пример – район порта Варандей23). В некоторых случаях жители таких поселков активно борются за получение дополнительных благ и услуг от ресурсодобывающих компаний, что создает социальное напряжение. Проблемно оказание медицинской помощи в вахтовых поселках, хотя именно врач вахтового поселка оказывается единственным медиком в пределах транспортной доступности для местных жителей (в первую очередь это относится к периодам нелетной погоды).
Однако если у вахтовых поселков расширение функций закрыто их ведомственной принадлежностью, то стационарные города порой недобирают дополнительных функций из-за слабых связей друг с другом, причем не только транспортных, но и институциональных, обусловленных, например, административными границами, маршрутизацией пациентов больниц и т. д.
Яркий пример – это слабое взаимодействие между Норильским промышленным районом и Игаркой. Исторически Игарка была одной из баз развития Таймыра (в частности, в сфере обеспечения авиасвязи, профессионального образования для народов Крайнего Севера, деревянного домостроения). Однако в настоящее время развитие данных городов происходит почти полностью изолированно (за исключением обеспечения работы линий электропередачи, а также с 2021 г. – обеспечения интернет-связи). Во многих сферах Игарка искусственно «завязывается» на Красноярск, причем в некоторых случаях (оказание медицинской помощи роженицам) транспортировка самолетом в Красноярск на 1300 км выглядит уже просто вопиюще нелогичной (до Норильска около 200 км, причем мощности для приема игарских больных в Норильске есть24).
При этом на бытовом уровне связи между Игаркой и Норильском поддерживаются: частным порядком жители Игарки ездят (летом, в период навигации) в Норильск за медицинской помощью (в обход существующих схем оказания медицинских услуг), для реализации дикоросов и т. п.; в Норильске (Кайеркан) проживает своего рода «диаспора» бывших игарчан, обеспечивающих устойчивость связей (возможность переночевать и т. п.).
Налаживание связей между Норильском и Игаркой могло бы в перспективе быть взаимовыгодно по следующим направлениям (выбор направлений предварительный, нужны детальные оценки):
– производство натурального молока для норильского молокозавода на базе совхоза «Игарский» (в настоящее время находится в кризисном состоянии, хотя производство молока еще сохранено);
– восстановление производства в Игарке овощей и поставки на рынок Норильска и Дудинки (преимущество перед привозными – в свежести, с проигрышем по цене);
– оказание медучреждениями Норильска сложных медицинских услуг для жителей Игарки вместо Красноярска (преимущество для Игарки – сокращение времени на транспортировку больных, преимущество для Норильска – расширение финансирования за счет привлечения дополнительных пациентов).
Проблема состоит в отсутствии транспортной связи: попытки в последнее десятилетие запустить авиарейсы в Игарку провалились по экономическим причинам. Представляется, что рейсы сами по себе не могут в короткое время инициировать достаточное количество взаимодействий, которые вывели бы рейсы на режим окупаемости. Практически очевидно, что такие рейсы должны получать дополнительную финансовую поддержку как минимум на первое время – подобно тому, как получают поддержку начинающие предприниматели (иными словами, должен запускаться своего рода «транспортный инкубатор»: длительное существование рейса позволит завязаться деловым отношениям, которые, в свою очередь, обеспечат спрос на сохранение маршрута). Кроме того, целесообразно сочетать запуск рейса с организационными изменениями, и в частности с изменениями в системе медицинского обслуживания.
Сегодня российская городская Арктика представляет, таким образом, исключительно контрастную картину. С одной стороны, десятки случаев обезлюдения поселков и городских районов – неудивительно, что и предметом исследований для многих российских ученых все чаще являются проблемы «сжатия»25, общей неэффективности арктических городов, а в прикладной сфере приходится слышать лобовой вопрос о том, нужны ли вообще города в Арктике. Но есть и другая Арктика – Арктика быстро растущих городов преимущественно в нефте- и газодобывающих районах, и им присущ прямо противоположный набор проблем: дороговизна жилья, создающая существенные проблемы при привлечении дефицитных специалистов, перегруженность социальной инфраструктуры – на фоне исключительных для России вложений в благоустройство. Качеству городской среды небольших «нефтегазовых» городов позавидовали бы жители многих даже и областных центров средней полосы России. Однако ретроспективный анализ внятно свидетельствует, что благополучие современных нефтегазовых городов может оказаться временным – сродни благополучию, которое в былые годы пережили Игарка, Диксон, Воркута и другие города Крайнего Севера. Очевидно, что наиболее благополучные города российской Арктики находятся в стадии бума фронтирного цикла (цикла «взлетов и падений», boom & bust), хорошо изученного на зарубежных материалах26. Сценарий благополучного выхода из ресурсного цикла предложил аляскинский экономист Ли Хаски – согласно его «гипотезе Джека Лондона»27. Суть ее в том, что молодой город в период фронтирного бума может накопить критический объем и разнообразие экономики, которые позволят, по мере истощения основного ресурса, продолжить жизнь города на следующем, постсырьевом этапе. То есть, город, по Хаски, должен перейти из фронтирного сценария развития в «нормальный». Однако вопрос о самой возможности «нормального» сценария развития города в условиях Арктики открыт – здесь необходимо ответить на вопрос: какие из ниш, возможных для городов в городской сети (см. раздел 1.1), в принципе открыты в условиях Арктики.
Раздел 1.3 представляет собой попытку ответить на этот вопрос на теоретическом уровне, а главы 2 и 3 посвящены практическому анализу особенностей и перспектив населенных пунктов российской Арктики.
13
В противном случае сложно свести воедино критерии городов, принятые в разных странах. Подробнее см.: Замятина Н. Ю., Гончаров Р. В. Арктическая урбанизация: феномен и сравнительный анализ // Вестник Московского университета. Серия 5: География. – 2020. №4. С. 69—82.
14
Регионы России. Социально-экономические показатели 2019. 11.02.2020. URL: https://gks.ru/bgd/regl/b19_14p/Main.htm.
15
Замятина Н. Ю. Арктические города: воля к разнообразию. URL: https://goarctic.ru/society/arkticheskie-goroda-volya-k-raznoobraziyu/.
16
Детальнее см.: Замятина Н. Ю., Гончаров Р. В. Арктическая урбанизация: феномен и сравнительный анализ // Вестник Московского университета. Серия 5: География. – 2020. №4. С. 69—82.
17
Zamyatina N., Goncharov R. Population mobility and the contrasts between cities in the russian arctic and their southern russian counterparts // Area Development and Policy. – 2018, no. 3. P. 293—308.
18
Луняшин П. Д. Восстановится ли в России добыча олова? // Промышленные ведомости. – 2011, 1—2 январь, февраль. URL: https://www.promved.ru/articles/article.phtml?id=2041&nomer=68.
19
Замятина Н. Ю., Гончаров Р. В. Арктическая урбанизация: феномен и сравнительный анализ // Вестник Московского университета. Серия 5: География. – 2020. №4. С. 69—82.
20
В последние годы, однако, филиал реализует программы подготовки только в рамках среднего профессионального образования.
21
Морской порт ликвидирован.
22
Пилясов А. Н., Кибенко В. А. Оленеводы-предприниматели: трудный путь к обретению экономической самостоятельности // Научный вестник Ямало-Ненецкого автономного округа. – 2020. №1 (106). С. 20—46. DOI 10.26110/ARCTIC.2020.106.1.003.
23
Интервью с женщиной, проживающей в районе порта Варандей («Светлана Григорьевна»). Из личного архива интервью Н. Ю. Замятиной.
24
Интервью с руководителем системы здравоохранения Норильска К. И. Кавтеладзе, 2019 (из личного архива интервью Н. Ю. Замятиной).
25
Например: Gunko M., Batunova E., Medvedev A. Rethinking urban form in a shrinking Arctic city // Espace-Populations-Societes. 2021. No. 2020/3—2021/1. P. 1—16.
26
Huskey L. Alaska’s Economy: The First World War, Frontier Fragility, and Jack London // Northern Review. 2017. No. 44. P. 327—346; Lucas, R. A. Minetown, Milltown, Railtown: Life in Canadian communities of single industry. 1971. Toronto, ON: University of Toronto Press; Barbier E. Scarcity and frontiers: how economies have developed through natural resource exploitation Cambridge, 2011. University Press, Cambridge; Findlay, Ronald & Lundahl, Mats. The Economics of the Frontier. Palgrave Macmillan UK, Conquest and Settlement. 2017. DOI: 10.1057/978-1-137-60237-4.
27
Huskey L. Alaska’s Economy: The First World War, Frontier Fragility, and Jack London // Northern Review. 2017. No. 44. P. 327—346.