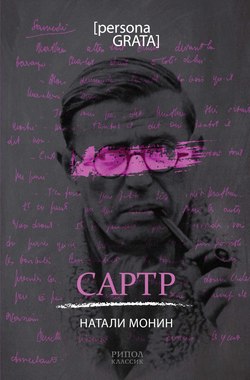Читать книгу Сартр - Натали Монин - Страница 6
I. От аполитизма к активной политической позиции
2. Открытие исторического измерения
ОглавлениеПостижение феномена такого разрыва происходит в тот период, когда после призыва в действующую армию Сартр пишет путевые дневники, которые впоследствии выйдут в свет под названием «Дневники странной войны». Они представляют собой несколько блокнотов (некоторые из них были утеряны), в которых Сартр по возможности каждый день, в зависимости от окружающей обстановки, рассказывает о происходящем, излагает свои впечатления и философские размышления. В первую очередь он желает выступать в роли живого свидетеля жизни, стараясь описывать ее во всей целостности и многообразии. Однако мало-помалу философ начинает понимать, что также является свидетелем своей эпохи – может, даже серым и незаметным, но все же свидетелем – для миллионов людей, переживающих те же события, что и он, и пребывающих точно в таком же состоянии души. Представляя собой попытку по возможности объективного и беспристрастного анализа, эти дневники в первую очередь выступают символом жизненного опыта.
Рефлексивное описание собственных мыслей и ощущений вкупе с работами Хайдеггера откроют ему глаза на историчность человека. Состояние души, о котором можно вести речь, самым непосредственным образом связано с историческими событиями, с этой войной, которой не хотел ни один солдат, но в которую каждый, тем не менее, оказался вовлечен. Так Сартр открывает чужое для себя время – когда мир стоит на пороге войны, когда все решают генералы, когда все замерли в ожидании следующего хода врага. Это время ему совсем не принадлежит, но, несмотря на это, он все равно несет ответственность за происходящее.
На основании этих записок можно сделать вывод, что первое измерение историчности сводится Сартром к зависимости от событий, в которую попадает жизнь отдельно взятого человека, отнюдь не стремившегося к этим событиям, которые на первый взгляд произошли без какого-либо участия с его стороны.
Вскоре Сартру открывается и второе измерение историчности: в сердце одной субъективности скрывается совокупность всех остальных. Если до этого Сартр считал себя единственным и уникальным, то во время службы в действующей армии, живя бок о бок с солдатами и описывая их по поводу и без повода, он осознает всю иллюзорность своей неповторимости и понимает, что другие испытывают точно такие же чувства, как и он.
«Мне придает смелости сама ничтожность моего положения, я больше не боюсь ошибиться и говорю смело об этой войне, потому что даже мои ошибки будут иметь историческое значение. Если я ошибаюсь, считая эту войну мошенничеством, эта ошибка объясняется не только моей глупостью, для определенного момента этой войны она весьма характерна»[6].
В определенном смысле Сартр открывает, с одной стороны, свою ограниченность, с другой роль – которую может играть как раз благодаря своей образованности: свидетельствовать от имени других о том, что они переживают в самых потаенных уголках души. При этом сам факт свидетельствования для него становится важнее истинности его свидетельств. О какой истине здесь можно говорить? На страницах своих дневников Сартр не пускается в рассуждения о том, что может представлять собой истина эпохи, истина пережитого момента, хотя речь в данном случае именно о ней и идет. Этой проблеме наряду с другими он посвятит свою работу «Истина и существование», опубликованную в 1948 году: математическая, платоновская модель истины, вечной, незыблемой и всеобщей, перестает работать каждый раз, когда следует охватить историческую эпоху, подвижную и всегда понимаемую лишь с определенной точки зрения (того наблюдателя, который ее описывает). Насколько чужими и безразличными нам представляются числа, лежащие в основе математических операций и уравнений, как и сами эти операции и уравнения, настолько не может быть полным и восприятие внешнего мира одним-единственным человеком, одной-единственной субъективностью, знающей только свою собственную историю. В итоге любые суждения об этом мире приобретают частичный и пристрастный характер. Но разве это умаляет ценность этого мира? Разве это запрещает нам думать и говорить о нем? Именно этим в глазах Сартра определяется ценность свидетельства, каким бы относительным оно ни являлось: оно имеет смысл хотя бы потому, что не менее относительно любого другого.
Стало быть, если даже совершить ошибку, это будет не так важно. Главное – в самом факте свидетельства, а не в содержании его. Ведь как бы там ни было, а политический вопрос, как и вопрос исторического становления, всегда рассматривается с учетом того, что человек не в состоянии познать будущее. К этому вопросу подходят либо через идеальную призму ценностей – к примеру проповедуя эгалитарное, свободное общество, – либо проявляя здравый, реалистичный подход, основанный на анализе существующего контекста. Активная политическая позиция Сартра колеблется между этими двумя полюсами: выступая одновременно в роли и утописта, и реалиста, он полагает, что человек сам должен выбирать общество, а не общество своей природой навязывать ему выбор в виде неизбежного принуждения.
Сартр деятельно заявляет о себе в политике после войны, особенно с момента образования журнала «Новые времена»: написанное слово никогда не пропадает зря, представляя собой действие, обусловливающее в мире те или иные перемены. Писатель в той же степени несет ответственность за этот мир, что и любой другой гражданин, и принадлежность к миру искусства никоим образом не освобождает его от требований, выдвигаемых жизнью, равно как и от налагаемых ею обязательств. Этот тезис, получивший существенное развитие в опубликованной в 1947 году работе «Что такое литература?», присутствует уже в презентации журнала «Новые времена» (1945), который по окончании войны Сартр создает с де Бовуар, Ароном, Мерло-Понти, Камю и рядом других интеллектуалов.
В 1945 году Сартр-журналист уже достаточно хорошо известен широкой публике благодаря статьям об освобождении Парижа, материалам о жизни французов во времена оккупации (в «Комба»), а также серии репортажей о поездке в США, увидевших свет в том же году в изданиях «Комба» и «Фигаро». Его знают и как литератора: в 1945 году публикуются первые два тома его сборника «Дороги свободы» («Возраст зрелости» и «Отсрочка»), а кроме этого, его перу принадлежат пять новелл цикла «Стена» (1939), роман «Тошнота» (1938) и театральные пьесы – «Мухи» (1943) и «За закрытыми дверями» (1944). «Бытие и ничто» – философский труд, не столь известный непосвященному читателю, является скорее уделом студентов и мыслителей; в нем им больше всего нравится наивная мысль о том, что человек совершенно свободен и несет всю полноту ответственности за выбор, который делает в жизни. Этот тезис, далеко не такой простой, как может показаться, и не понятый ни коммунистами, ни поборниками христианства, восстанавливает против него оба этих лагеря, еще больше способствуя росту популярности автора, вплоть до винных погребков Сен-Жермен-де-Пре, где Сартра превращают в духовного отца такого движения, как экзистенциализм. Данный термин появился с легкой руки одного журналиста, который решил обозначить им эту новую мысль, проповедующую идеи, тогда казавшиеся поистине скандальными, поскольку якобы предлагали слишком вольные нравы и излишества в одежде.
Очень важную роль также сыграло его эссе «Размышления о еврейском вопросе». В этой работе Сартр наглядно доказывает, что еврейская «проблема» обусловлена не столько личностью еврея или его культурой, сколько личностью антисемита: именно он превращает еврея в жида, именно он создает условия, при которых принадлежность к еврейству считается пороком и превращается в непреодолимую пропасть. Вот какими словами философ Робер Мисраи выражает свое одобрение данного труда:
«После мрака нацистской ночи все евреи (по крайней мере, в Париже) были взволнованы и потрясены этими свидетельствами, вышедшими из-под пера Сартра <…>. Вполне очевидно, что эмоции и восхищение читателей не знали границ. Я бы не побоялся назвать их состояние растроганным удивлением и ошеломлением, настолько мы, евреи, привыкли к ненависти и презрению. Помимо прочего, когда мы читали изображенный автором портрет антисемита и его критику антисемитизма, наша радость подкреплялась чувством интеллектуального удовлетворения и ощущением свершившегося правосудия. <…>
„Размышления“ стали не только новым и очень мощным свидетельством симпатии, но и эффективным оружием против антисемитизма. Критика этого зла после выхода книги в свет стала настолько острой, непрекращающейся и язвительной, что выражать в открытую антисемитские идеи во Франции стало невозможно и немыслимо. Престиж и авторитет автора „Размышлений“, его талант как писателя и философа изначально предали осуждению любые проявления антисемитской мысли».
Вот он, результат литературной деятельности в том виде, в каком его задумывал Сартр: ни одно написанное слово не пропадает даром и такой значительный персонаж, каким он сам стал после войны, обладает немалым весом. Сартр и дальше будет писать, погружаясь в литературу, когда во благо, а когда и во зло, нередко демонстрируя то самое отсутствие чувства меры, которое он признавал за собой еще в 1939 году.
Если слова для писателя играют роль пистолетов, то он обязан писать, внося свой вклад в преобразование мира. Тем более что западный мир в представлении Сартра соткан из иллюзий и лжи: капитализм выдает себя за демократию, при которой высшими ценностями являются свобода и равенство, но чего стоят эти красивые идеи, когда скудные экономические возможности рабочего воздвигают непреодолимые барьеры на его пути к образованию, здравоохранению, культуре и общественной жизни? Перемены в обществе в обязательном порядке должны подразумевать изменение экономических отношений между людьми, чтобы один класс больше не подавлял другой своим экономическим могуществом. Здесь сразу же вспоминается Маркс, с той лишь фундаментальной разницей, что для Сартра именно человеческая свобода, а также ее способность выходить за рамки существующей реальности, то есть наших проектов является движителем истории, и именно она должна создать либо воссоздать по-новому экономические взаимоотношения между людьми, но не наоборот. «Социализм и свобода» – вот как назвал Сартр группу сопротивления, которую он вместе с де Бовуар создал во время войны (хотя и без особого успеха), вот к чему сводятся ценности, обусловившие впоследствии его активную политическую позицию.
Сартр никогда не был видным членом Сопротивления, что бы ни писали о нем американские газеты во время его первой поездки в США в 1945 году, тем самым способствуя еще большему укреплению его репутации и в Европе, но и не опровергал публикуемые в них сведения. Его личное сопротивление сводилось скорее к намерениям, нежели к поступкам, если к таковым не причислять его литературную деятельность. То обстоятельство, что во времена оккупации Сартр получил от германской цензуры разрешение поставить «Мух», легло в основу разгоревшейся после войны полемики о том, какие же шаги он, собственно, предпринимал как член движения Сопротивления. Сегодня критики Сартра признают, что текст «Мух» недвусмысленно свидетельствует о его враждебном отношении к оккупантам. Но это никоим образом не отрицает того обстоятельства, что немцы посчитали эту пьесу совершенно безобидной. Налицо объективный факт, который следует принимать во внимание, особенно если учесть, что многие интеллектуалы за свои труды попросту сложили головы. Так что политикой Сартр начинает заниматься уже после войны.
Говоря об этом, можно выделить четыре периода: с 1945 по 1952 год – в самый разгар холодной войны, когда Сартр не может примкнуть к коммунистам, но и не желает их напрямую осуждать; с 1952 по 1956 год – четыре года тесного сотрудничества с Французской коммунистической партией; с 1956 по 1968 год – когда Сартра в большей степени интересуют наследие колониализма и новые революции (Куба, Китай); и с 1968 года вплоть до его смерти – когда Сартр вновь выступает с крайне левых позиций.
6
Жан-Поль Сартр, «Дневники странной войны, сентябрь 1939 – март 1940».