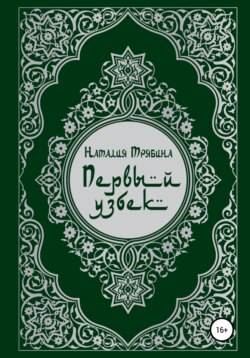Читать книгу Первый узбек - Наталия Николаевна Трябина - Страница 6
ХАН И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ
ОглавлениеГлава 1
ПРОШЛОЕ ИЛИ БУДУЩЕЕ?
– Я хан.
Нет, не так.
– Я Великий хан.
Великим ханом называют меня во дворцах эмиров и беков, в жалких глинобитных мазанках дехкан, в домах купцов и ремесленников, в юртах кочевников. Государство моё простирается от Каспийского моря на западе, до глубокого озера Иссык-Куль на востоке, от Кипчакских степей на севере до реки Мургаб на юге. Редко кто называет меня по имени. В младенчества я был ханзаде, наследник, старший сын Искандер-султана. В юности меня называли султаном. Вот уже больше сорока лет меня называют Великим ханом. Я стал забывать своё имя, полученное по воле отца. Полное моё имя Абдулла ибн Искандар-хан ибн Джанибек-султан ибн Хаджа Мухаммад ибн Абулхайр-хан. Даже мой кукельдаш Зульфикар называет меня Великим ханом, но обращается по-свойски, на «ты». Никто и никогда не рискнёт назвать меня Вторым, хотя в династии Шейбанидов с таким именем я действительно Второй.
Не знаю, насколько я велик, и велик ли на самом деле? Изредка в голову приходят вздорные мысли: умру я, и через сто лет обо мне никто не вспомнит. А через пятьсот лет даже пыли от моих великих свершений не останется. Услышав моё имя, потомки будут напряжённо, но бесполезно морщить лоб и недоумевать: «Кто бы это мог быть?» Могу ответить им: всю свою жизнь я работал. Нет, я не потел в поле, не надрывался в каменоломне, не махал молотом в кузнице.
Я создавал и строил Великую Бухарию. Сам я называю свою страну государством всех узбеков.
А для этого я с пятнадцати лет не слезал с коня, врал, убеждал, убегал, возвращался, торговал и возводил города. Я учился, воевал, защищал, шпионил, писал, наказывал – правил, как мог. Долго можно говорить о том, что я сделал и чего не успел совершить. Но в глубине души я надеюсь – не смогут люди забыть меня. Если и забудут хана Абдуллу, то никогда не забудут тех медресе, мечетей, мостов, плотин и сардоб, построенных по моему приказу придворным архитектором Али ибн Халилом аль Афарикенди и его братом Ульмасом ибн Ильясом аль Афарикенди, гениальным математиком.
–Великий хан! Многие поэты подлунного мира мечтают о возможности лицезреть вас, я же имею счастье не только видеть вас и дышать с вашей милостью одним воздухом, но и преподнести вам свои ничтожнейшие стихи! – Именно с такими словами время от времени обращается ко мне вакианавис Хафиз Таныш ибн Мир Мухаммад аль Бухари.
Я никогда не выговариваю его полное имя, поскольку всегда забываю какую-либо часть. Слишком длинно и витиевато, да и зачем? Все знают его под именем Нахли. Я так и называю знаменитого поэта, но трудно сказать, почему он выбрал себе тахаллус «пальма», на это растение он совсем не похож.
Когда я совершал паломничество в Мекку, то в долгой и трудной дороге видел много пальм: и финиковых, и кокосовых, и таких, которые, кроме тени, ничего не дают, их главная особенность – это стройный и прямой ствол. Почему Хафиз Таныш решил, что он похож на пальму, ума не приложу. Он своим кургузым телом напоминает остальных жителей Мавераннахра. То есть баурсак. Такой же кругленький и маслянисто-гладкий.
Нахли сидел напротив меня с настороженным и одновременно умилительно-восхищённым видом, поскольку вчера получил приказание явиться в кабинет после утренней молитвы. Я не люблю, когда сардары или чиновники стоят столбом, в то время как я удобно сижу, развалившись на мягких подушках. Не потому, что мне их жаль, а потому, что приходится задирать голову вверх, разглядывая их лица.
Шея от напряжения затекает, начинает болеть голова. Можно бы ставить приближённых, просителей и сардаров на колени, как это делали все мои предки, кроме благословенного отца Искандер-хана. Но тогда посетитель будет думать о своих согнутых в неудобной позе деревенеющих коленках, упирающихся в драгоценные ковры, а не о том, чтобы правдиво и откровенно говорить обо всех делах, что призвали его в Арк.
Поджав под себя ноги, Нахли вертел в руках свиток с новой касыдой в мою честь. Его тщательно скрываемое нетерпение я заметил, но не спешил рассеять тревожное опасение, мелькающее в глазах Нахли и отражающееся в подрагивающих пальцах, теребящих туго скрученный лист самаркандской бумаги.
У меня не было вакианависа, пока я был наследником своего отца Искандер-хана и звали меня в то время султаном. Но, став ханом после его безвременной кончины в начале месяца джумада 991 года хиджры, я получил значительный подарок от кукельдаша Кулбаба – вакианависа.
Конечно, живого человека, если это не раб, дарить нельзя, тем более мусульманина, это я говорю, объясняя присутствие Нахли рядом с собой. В действительности вакианавис давно был приближённым кукельдаша и, возможно, другом, но более близким другом мне был сам Назим Кулбаба. Молочный брат всегда думал о моём благополучии. Моё восхождение на престол стало толчком для увековечивания моей многогранной деятельности. Летописец предположил, что в повествовании необходимо отразить события со времени появления на свет моих предков-чингизидов и до сегодняшнего дня. Нахли неотлучно и незримо пребывает за моей спиной почти так же, как Зульфикар. Нет, Зульфикар не отходит от меня ни на шаг с нашего младенчества, а Нахли рядом всего лет пятнадцать.
Окончание жизнеописания породило слухи о его казни якобы за то, что мне его творение не понравилось. Неправда, весьма понравилось. Я изображён в сочинении Нахли почти достоверно, можно сказать привлекательно. Описание моих сподвижников вносит приятное дополнение и разнообразие в плод его вдохновения. Сплетники, недоброжелатели и прочие родственники с ревностным азартом сочиняют подобные небылицы то про Мушфики, то про Нахли, то про любого из моих сардаров. Клеветники и шептуны уныло удивляются, встречая их в коридорах Арка или на заседаниях дивана в здравии и полном расцвете сил, а не горюя на многочисленных поминках.
Да если бы я столько народу казнил, как про меня говорят, в Арке, кроме меня, павлинов и бесполезных сизых голубей, никого бы не осталось. То я разозлился на бакавулбаши, подавшего на дастархан горячие лепёшки, то я приказал пытать кукельдаша – это которого? Того, кто сидит наместником в Герате или Зульфикара? Глупцы! Откуда у людей столько лишнего времени, попусту растрачиваемого на бессмысленные и бесполезные разговоры? Жаль, что я никогда не могу добраться до источников этих сплетен, но, если правду сказать, я не хочу этого делать. Пусть сочиняют, возможно, меньше будут заниматься заговорами.
Есть ещё одна причина, что я без особого усердия преследую распространителей слухов. Многие стихотворцы, художники, архитекторы и другие талантливые люди тянутся к моему двору и на все лады прославляют Великого хана как достославного правителя. Попутно придворные подхалимы сравнивают меня с Александром Македонским или с какой-либо другой кровожадной значительной личностью. Возможно, ими движет любопытство или желание испытать судьбу, но, скорее всего, они руководствуются естественным стремлением – разбогатеть и стать знаменитыми на весь Мавераннахр стихотворцами. Я не уверен, что стремятся они именно ко мне. Они тянутся к даровой кормушке, якобы находящейся в Арке.
Человек, лишь вчера взявший в руки калам, сегодня думает, что многочисленные касыды и газели, написанные до него, не стоят ни единого взгляда великого хана. А вот то, что написал этот молодой и нахальный рифмач, исключительно в своей блистательной самобытности! За эту неповторимость и мелодичность стихослагатель надеется получить соответствующую награду в разнообразных подарках и драгоценностях.
Я хоть и скуповат, но хорошие стихи и изделия люблю, награждаю талантливых стихотворцев и ремесленников. Конечно, не по весу их создателя, как делают некоторые султаны и шахи, пуская пыль в глаза дипломатам и приезжим знаменитостям. Я награждаю достойно! Критикуя всех, я в то же время убеждён в исключительности своих собственных стихов. Смешно? Но окружающие своими неуёмными похвалами не дают мне усомниться в этом!
Всё было бы хорошо, но разговаривает Нахли витиевато, использует утончённые обороты речи и пышные, трескучие сравнения. Они не имеют ничего общего с живой речью. Мне трудно было к этому привыкнуть, и я приказал Нахли:
– Вакианавис, если ты не будешь писать и говорить проще, я вынужден буду тебя заменить другим пачкуном, хотя бы Мушфики. Или бесталанным рифмоплётом, который лишь вчера научился держать кисточку в руке. – Мои слова если и расстроили Нахли, то это никак не отразилось на его лице.
Через некоторое время он принёс мне охапку свитков разных летописцев и стихотворцев прошлых лет, а также ныне живущих и здравствующих. Я с изумлением понял, что мой Нахли пишет намного проще и понятнее, чем остальные признанные гении.
История его жизни незамысловата – родился Нахли в Бухаре в семье Муаланы Мир Мухаммада, приближённого Убайдуллы-хана. Через некоторое время отец Нахли сбежал из родного города от Ахмад-хана, пришедшего со своими кипчаками разорять народы Мавераннахра. Муалана оказался в кашкадарьинском городе Кеше, где умер от лишений. Нахли тогда не было и восьми лет. Как прошла молодость самого Нахли, мне неизвестно, он мог бы рассказать об этом, но вспоминать тягостное детство не хотел. Видимо, до встречи с Кулбабой он бедствовал.
Я не настаивал на его откровенности. Главное, что он тщательно записывал все слова, сказанные мною. Вакианавис сопровождал меня в военных походах. Он подробно описал не только мои вымышленные подвиги, но точно указывал, кто, где стоял и кто что говорил во время многочисленных сражений. Хотя какие разговоры – говорить можно после битвы, если жив остался. Во время боя надо держать ухо востро, а саблю твёрдо!
Внешность Нахли самая обыкновенная, от других моих сардаров он ничем не отличается, такой же приземистый, чернобородый и узкоглазый. Одевается вакианавис как положено летописцу – ярко и броско, так приличествует приближенному великого хана. Это чтобы ненароком никто не подумал, что мне жалко для него денег.
Сегодняшний день не задался. Моё состояние отвратительно, затылок ломит, а ноги будто налиты свинцом. Я стремлюсь сократить пребывание Нахли в кабинете, хотя ещё вчера хотел его видеть для отправки в Герат к Кулбабе. Уже некоторое время я тайно готовился к обширным военным действиям против северных кочевых племён. Следует предупредить моего кукельдаша. Необходимо передать письма, написанные иносказательным тайным языком. Пожелания здоровья и подарки передаются для сокрытия широкой военной подготовки.
– Нахли, меня радуют твои новые произведения, ты давно уже ничего не приносил. С чем это связано? Я понимаю, что вдохновение – редчайшая легкокрылая птица, урывками посещающая творческого человека. Меня огорчает, что твои касыды перестали быть яркими. Тебя не вдохновляет стареющий хан или ты скучаешь по своему другу Кулбаба? Скажи мне, я не стану сердиться, а если ты захочешь его посетить в Герате, не стану тебя удерживать. Рядом со мной есть другие поэты, талант которых расцвёл рядом с тобой. – Как аккуратно я подвожу его к обязательному отъезду! Несмотря на то, что утром я съел совсем немного, меня жутко тошнило.
– Великий хан не рассердится на меня, что я на несколько дней уеду? Я так скучаю по вашему кукельдашу. Я люблю его и ценю его отношение ко мне. Но я не решался потревожить великого хана на пути его грандиозных свершений и гениальных замыслов! Если ваше благодеяние распространяется так далеко, что вы разрешаете мне отсутствовать некоторое время, то я по истечении недели отправлюсь в Герат. Счастье моё от вашего благосклонного внимания не знает границ! – Но тут я согнулся в судорожном позыве к рвоте. Нахли, в ужасе вскочив на ноги, заорал дурным голосом: – Помогите, табиба к великому хану! Табиба, ради Аллаха!
Я плохо помню, как после этих воплей кабинет наполнился людьми. В первых рядах в комнату ворвался Зульфикар. Я провалился в долгое забытьё.
С того неудачного посещения Нахли и его отъезда в Герат, луна успела дважды исчезнуть с ночного небосклона и вновь народиться. Сквозь узорные клеточки панджара в окно струился уже не утренний, а дневной яркий свет, пришедший на смену стылому осеннему утру. Лёжа на курпаче с подоткнутой под поясницу подушкой я предавался горестным и невесёлым мыслям, навеваемым недомоганием, свалившим меня с ног почти две луны назад. Вот уже несколько недель я не занимаюсь государственными делами. Изысканная пища не доставляет удовольствия, и только бессмысленное разглядывание кусочка осеннего неба позволяет надеяться на то, что я ещё жив. Недовольно ворочаясь, я раздражённо размышляю.
Сколько же можно лежать в спальне на надоевших до отвращения смятых курпачах? И я, кое-как натянув на себя халат, перебрался в кабинет. Резная хонтахта уставлена изящной посудой: на фарфоровых и стеклянных блюдах лежали оранжево-кремовые персики и красные яблоки. Яблоки у нас бывают разного цвета – от бледно-жёлтого до тёмно-бордового, но мне с детства нравятся красные, и только такие мне подают на стол. Золотистые груши, зелёные и сизые грозди винограда переплетались причудливым узором в невысокой гиждуванской вазе.
Небольшие пиалы наполнены миндалём, арахисом, фисташками, другими орехами и сушёными фруктами. Сладостей на подносах нет, я их не ем. Не потому что табиб Нариман не советует их употреблять, просто не люблю. Всё это изобилие трижды в день обновляет дастурханчи Абдул-Кадыр и три его помощника, не дозволяя порче пробраться на ханский стол. Не приведи Аллах, если хан отравится испорченным яблоком или гнилым орехом. Есть не хотелось, а мысли свербили мозг, не переставая терзать сомнениями.
Мой табиб Нариман знающий и искусный лекарь, но и он не может понять, что за болезнь угнездилась в старом теле, изношенном долгой жизнью. Или знает, но тоже боится сказать? По его лицу трудно угадать, о чём он думает. За бесчисленные годы, что он живёт подле меня, табиб привык скрывать свои мысли. Маска безропотного повиновения давно стала его истинным лицом. Этих лиц возле меня несметное множество, я перестал различать, кому они принадлежат. Настойки и лекарства, приготовленные табибом, на время облегчают недомогание. Но проходит день-другой, возвращаются дурнота и головная боль. Али говорит, что это старость. А я думаю, что это души убитых мною людей взывают к справедливости. Скольких смертных я отправил к праотцам своими руками? Немногих… И лишь в сражениях. Я никогда, в отличие от других правителей, не пытал пленников сам. Зато, оставаясь с незапятнанными кровью руками, позволял делать это своим палачам.
Насилие над захваченными женщинами мне было отвратительно, ни разу в жизни я до этого не опустился. Даже гаремы захваченных султанов и ханов не делал своими, но я раздавал их своим приближённым, а это ещё хуже. Многие ханы поступали по-другому. Наш благословенный предок, основатель нашей династии, Шейбани-хан, выбирал из гарема побеждённого очередную жену для себя. Он всегда смотрел не на красоту женщины, а на её родство с чингизидами. После захвата Герата Шейбани-хан выбрал себе вдову Музаффар-Хусейна, Ханзаде-ханум, дочь Ахмад-хана и сестру Султан-Хусейна. Сам я мог бы отправлять захваченных женщин в семьи родителей, но и там они никому не нужны. Такова незавидная участь вдов побеждённого противника. Если бы я был побеждён в бою, и моя столица была захвачена, такова же незавидная участь моего гарема.
Сейчас я думаю, что меня медленно травят. Делают это тайно по приказу моего единственного сына и престолонаследника Абдулмумина. Подозреваю, что меня пытаются уморить ядом, который действует медленно, но неотвратимо. Где-где, а у нас на Востоке много ядовитых змей, насекомых, ярко цветущих растений, но они так ядовиты, что даже приближаться и ним небезопасно. Есть знатоки по ядовитым снадобьям. Отравят так, что ни один табиб не заподозрит преступления – занедужил старый человек и умер в благости. Абдулмумин перед смертью не станет размышлять об убитых им людях, а их столько, сколько волос в моей бороде. Возможно, больше. Мысли эти появились недавно и не дают покоя. Я в своей жизни почти не болел, а сейчас слабость во всём теле, после еды тяжесть в желудке, кружится и болит голова.
Раньше я не подозревал, что голова может так сильно болеть. Хотя самое ужасное в моей болезни – расстройство кишечника. Оно изводит меня пуще головной боли и тяжести в желудке. Поначалу табиб подозревал холеру, но от холеры люди умирают быстро, исходя злым, неудержимым поносом. На меня же он нападает время от времени. Не даст Аллах умереть мне, сидя враскоряку на нуждном горшке, не по-мужски это. Иногда тело моё горит, сам я покрываюсь липким, противным потом, а в другой миг мне становится холодно, толстые одеяла с жаровнями не спасают от частой дрожи. Болезнь вызывает у меня сильное недовольство, я злюсь сам на себя, на окружающих, на табиба и трёх его говорливых подмастерьев. Но я ничего поделать не могу: немочь меня бесит, как надоедливая муха. Она отвратительно жужжит, кружит и норовит сесть на нос, а я не могу её отогнать.
Абдулмумин – любимый и единственный сын. Он с детства знал, что других наследников нет. У меня и моей жены, его матери, не было детей, кроме него. Жена моя, Махд-и Улйа-салтаним, дочь Дин-Мухаммад султана была, по словам придворных, оком и светочем в султанском роду, а для меня единственной женщиной, которую я любил. Конечно, были у меня и наложницы, но лишь одна из них родила дочку. Никого из наложниц я не обидел. Выдавал их замуж с хорошим приданым, как это принято, и за тех мужчин, которые сами изъявляли желание взять себе девушку из моего гарема. Жена моя была не только красива, она была умна, прекрасно воспитана, играла на гиджаке, знала грамоту, умела складывать газели. Махд-и Улйа-салтаним являлась безупречной правительницей на женской половине дворца.
Дочка, рождённая наложницей, в раннем детстве была засватана за индийского падишаха и покинула гарем ещё ребёнком. Я в очередной раз пожертвовал своей кровью для сохранения мира на границах государства и покоя в стране. Злопыхатель скажет: «Легко жертвовать кем-то – лишь бы не собой». Вот и нет. Кем-то, особенно родными детьми тяжело распоряжаться, в этом заключается главная трудность жизни правителя.
Сын с детства отличался жестокостью – не оправданной жестокостью правителя, а бездумной свирепостью избалованного ребёнка, которому всё позволено его отцом и воспитателями. Я был так занят войнами, строительством, реформами и другими важными делами, что не мог вовремя пресечь его гнусные причуды. Многие отцы грешат этим пороком, отнекиваясь от своих детей занятостью. Его воспитатели, мамки-няньки, прислужники и даже аталык Джаккельдиби-эмир чаще всего умалчивали о позорных наклонностях наследника, считая их простым озорством.
Неужели можно считать озорством издевательство над щенком, которому Абдулмумин сначала отрезает уши и выкалывает глаза. Потом поочерёдно отрубает лапы, наслаждаясь визгом несчастного беззащитного существа, заливаясь при этом дурным смехом? А ведь смотрели. И ради того, чтобы наследник не пожаловался отцу, посмеивались вслед безумному хохоту Абдулмумина, уверяя себя, что тот воспитывает в себе с ранних лет твёрдость духа. Мой сын с детства был нечувствительным к боли, да и сейчас такой же. Я никогда не видел, чтобы он плакал, но также не помню случая, чтобы он кого-то пощадил.
Рабочих в Балхе, восстанавливающих крепость, возводящих стену вокруг города и допустивших огрех в работе, он приказал живьём замуровать в стену. Совсем как Тимур. Но тот приказал замуровать врагов, оказавших сопротивление при взятии города, – а этот казнил своих людей, своих подданных, осиротил детей. Лицо его при этом было равнодушное, спокойное, как будто не живые люди извивались в тисках строящейся стены, а кирпич неровно лёг, и его надо подправить. Это всё он проделал, будучи шестнадцати лет от роду! Я сам этого не видел, но мне постоянно доносили о его деяниях. Однако это не первое и не последнее проявление его извращенной свирепости.
Правитель должен быть твёрдым, но не безжалостным к своим подданным, иначе останешься один. Твои потомки будут вспоминать лишь стены, выложенные человеческими телами, а не мечети и медресе, построенные тобой. Спустя века твоим именем будут пугать детей. Поэтому отравить родного отца, стоящего на пути к полновластию, для него не грех. Насильно приближая мою кончину, он не понимает, что в силу преклонного возраста я и сам скоро уйду к порогу Аллаха. К своей любимой и единственной жене, которую никогда не забуду за кротость нрава и счастливый характер.
Кабинет, моё прибежище на все времена, соединяется со спальней проёмом двустворчатой двери. Сама комната увешана коврами работы западных и местных мастеров. В кабинете ковры хорезмской работы. Для них характерен чёрно-красный рисунок. С виду он кажется грубым и непритязательным, но наделён строгой законченностью. Бухарские ковры по цвету более яркие, насыщенные, ворс их длиннее и узоры такие, что хочется рассмотреть их поближе. Как же мастерам удаётся соединить в своём искусстве такое количество разных несочетаемых оттенков, да так, чтобы глазу было приятно? Моя любовь к коврам равна моей любви к коням любой породы, к собакам и разнообразным ловчим птицам.
Оглядевшись вокруг, я надкусил яблоко, уверенный в том, что яблоко, в отличие от питья и жидкой еды, отравить сложнее. Сок, брызнувший в рот и оросивший язык своеобразным кисловатым вкусом, дал мне почувствовать если не радость жизни, то её несомненное присутствие. Мысли катились дальше.
Бусины оставшихся дней падают одна за другой с нити моей жизни, и жалею я только об одном: дело моего существования пропадёт от дурного правления моего сына. Потомки забудут о том, что я совершил, построил, создал. Что при моём правлении народ жил, не боясь несправедливого преследования и наказания. Последние годы я чаще всего нахожусь в бухарском Арке. Бухару называют благословенной, великой, считают самым красивым городом на Востоке. Я так не думаю. Город пыльный, и, кроме высоких корявых дувалов, ничего интересного вокруг не видно.
Путешественники и торговцы из Европы, если случайно попадают сюда, иначе, как кучей земли наш город не называют. Некоторые упоминают сады, окружающие Бухару. Других удивляют лишь наши бани. Бань у них почему-то нет. Не моются они. Коран велит правоверным пять раз в день совершать омовение, и лучше, если это омовение будет полным. Жаркий климат способствует соблюдению обычая. Слышал я от Али, что эти гяуры моются раз в год, а мыла не знают. Одежду не стирают, она воняет паршивым козлом. Пришедшие в негодность, истлевшие от пота и грязи лохмотья выбрасывают.
Для того чтобы от них не так сильно воняло, богачи брызгают на себя разными душистыми маслами, которые, по их утверждению, создают ощущение благоприятных ароматов. Сочетание запаха грязного тела с духами ещё отвратительнее. Как пахнут, или точнее сказать, воняют бедняки, никого не интересует.
Летней порой каждый бухарский мальчишка по нескольку раз в день залезает в хауз, чтобы удовольствие получить и освежиться. Я не был в закатных странах, не знаю, какие у них там города и бани, но свой город старался сделать привлекательнее. Строил крытые базары, мечети, медресе, минареты, ханака и другие полезные здания.
Жаль, что ханского дворца соорудить не успел. Мне безумно хотелось пожить в красивом мраморном дворце с широкими лестницами, высокими застеклёнными окнами, зеркальными залами. Я хотел, чтобы на полу лежал узорчатый паркет из дуба, арчи или другого затейливого дерева. Но в нашей стране без толстых стен и многочисленной охраны на каждой лестнице и возле каждой двери не доживёшь до старости. Мечты о дворце так и остались мечтами.
В Арке несусветная скученность. Беки и сардары стараются влезть в мельчайшую щель. Они любят находиться на глазах великого хана. Они хотят дышать с ним одним воздухом, слышать все перлы его речей. Врут они всё. У каждого в городе или за городом есть просторный дом с многочисленными слугами, с гаремом, полным молодых красивых жён и наложниц, с тенистыми садами и глубокими хаузами. Но нет – лучше он будет спать на тонких курпачах и ютиться в крохотной комнатушке, лишь бы не пропустить новостей, не имеющих к нему никакого отношения.
Комнатки в Арке маленькие, достраивать что-то внутри него нет никакой возможности. Внешние высокие толстые стены не позволяют сделать этого. Лишние слуги мне не нужны, я не люблю, когда они начинают что-то делать вместо меня. Как можно разрешать, чтобы слуга умывал тебе лицо или мыл твои руки? А потом вытирал их куском хлопчатой ткани? Достоверно знаю, что некоторые беки держат для этих услуг по пять-шесть человек, да ещё хвастают друг перед другом. Они в походы тащат с собой целый обоз прислужников, не умеющих саблю в руках держать.
Люди, возвышенные мною из низов, как Ходжам-Кули кушбеги, перенимают привычки изнеженных беков. Случайно застав его во время умывания, окружённого множеством людей, я спросил:
– Уважаемый Ходжам-Кули, для чего тебе столько людей при утреннем омовении? – С моей стороны это было не простое любо пытство. Возле тазика и кумгана толпились не менее пяти слуг, да ещё двое стояли за дверью.
Тот с гордостью, достойной лучшего применения, ответил:
– Всего четыре человека, великий хан, светоч мудрости и благочестия! Один поливает на руки воду из кувшина, второй придерживает тазик, куда стекает вода, чтобы она не забрызгала мой халат. Третий подаёт мыло и сохраняет его после того, как я намылил руки. Четвёртый расправляет приготовленное полотенце. Я же должен вытереть руки, о величайший из ханов. – Лучше бы он попытался в очередной раз обмануть меня или придумал что-то похожее на правду. Мне было бы спокойнее от того, что деньги тратятся на нужное и необходимое дело! Хорошо, хоть руки не разучился вытирать сам…
От таких ответов у меня портится настроение. В детстве этот Ходжам-Кули умывался водой из арыка, а вытирался свежим ветром. Дожили, сейчас четырёх человек ему мало. Интересно было бы посмотреть, как он нужду справляет и сколько человек возле него в тот момент находятся? Разговаривают мои приближённые так, словно их слушает десятка два людей. Отвечают заковыристыми словами, цветистым слогом, не забывая через каждое слово вставлять: «Великий хан, гордость государства, яркое солнце в небе, Искандер по достоинству» и много другой подобной чепухи. Не могу я отучить их от ненужных восхвалений.
Лишь мой молочный брат Зульфикар и его дядя Али, придворный зодчий, могут говорить без затей, не отягощая свою речь ненужным славословием. Их брат Ульмас чаще молчит, а если говорит, то больше математическими формулами. Думаю, это связано с тем, что они выросли в простой семье плотника из Афарикента, моего родного города. Или люди такие – для них главное дело, а не то, какими изысканными речами эти дела украшаются. Не в речах главное, а в том, что ты совершаешь и во имя чего. Зульфикар же с рождения при мне, мы без слов понимаем друг друга.
Одежда этих пустозвонов приводит меня в смятение. Тончайший китайский шёлк на куйнек, бархат на иштон, бекасам на ягтак. Везде золотошвейная тесьма, кушаки украшены золотыми бляшками, ходят и звенят ими на каждом шагу. Оружие их до того инкрустировано
и орнаментировано драгоценными каменьями, что, если продать один кинжал с ножнами, можно на эти деньги мечеть построить для замаливания грехов. Забыли Коран, совсем забыли, а ведь в нём сказано, что мужчина не может украшать себя золотом и драгоценными камнями!
Чалма такая, что под ней не то что головы – лица не видно. Она украшена самоцветами и перьями птиц, чаще всего павлинов. Чалма должна быть не менее восьми кари в длину. Это на случай смерти в дороге, когда чалма используется как саван. Но кто во дворце внезапно умрёт и не окажется савана под рукой, так для чего чалма? Чтобы была, чтобы окружающие завидовали! Именно зависть, что у кого-то штаны богаче, на кушаке больше золота блестит, заставляет их драть со своих дехкан три шкуры вместо положенных по шариату двух с половиной процентов.
Чего я только не делал, чтобы их всех урезонить. Сколько раз приказывал в мечетях читать проповеди о смирении и скромности в одежде. Всё это воспринималось и воспринимается как ущемление их родовой гордости. Сам я всегда носил ту одежду, в которой удобно ходить и воевать, а лишние украшения только мешают, да и пристали они скорее женщинам, а не доблестным мужам.
Лишь однажды я разоделся павлином в приметные бордовые штаны и розовый халат, подпоясанный кружевным кушаком. Мой портрет рисовал художник, пытаясь запечатлеть незавидную внешность для потомков. До сих пор, глядя на него, я стыжусь нелепого наряда. Мне неловко не только перед окружающими, но перед самим собой. После того как портрет был готов, я убрал его подальше с глаз долой. Пропажа портрета подействовала на Зульфикара странным образом: он низко поклонился и провозгласил:
– У великого хана открылся третий глаз, слава Аллаху! – При этом лицо его было торжественным и значительным, словно при приёме послов из далёкого Китая.
Я так и не понял, что означала это загадочная фраза. Спрашивать у Зульфикара не хотелось, а самому в голову в тот момент ничего путного не приходило. Намного позже я понял, что Зульфикару портрет тоже не понравился, но он стойко молчал под шумное изъявление восторга моими приближёнными. Те громкоголосо восхищались не столько работой художника, сколько моим несравненным лицом.
Сардарам не пришло в голову, почему на картине в одной руке я держу дыню, а в другой сжимаю нож. Это символы того, что с друзьями я добр и приветлив, могу щедро угостить. Но если у человека дурные мысли и намерения, то я могу применить нож, поскольку его можно использовать как для нарезания еды, так и для убийства. Но никто ничего не понял. Даже художник в недоумении косился на нож. Он не понимал, почему я сижу на голом полу, вместо того чтобы восседать на мягком ковре. Здесь я хотел показать, что мне ничего не принадлежит. Всё богатство, каким славится Бухара, не моё, а государственное достояние. И опять непонимание. Даже со стороны Зульфикара.
Размышляя о природе своих подданных, я расхаживал по безлюдным покоям, разглядывая окружающие меня вещи, словно видел их впервые. И тут я понял: каждый из моих приближённых хочет, чтобы его дом хоть на одно кари был выше того, в котором живёт сосед Салимбек. Чтобы чепрак на его коне был сделан из кожи тончайшей выделки и был изысканнее, чем у Анварсултана. Чтобы у его жён драгоценностей было больше, чем у жён Темирбая. Но кто под платком или покрывалом видит, какие на твоих жёнах драгоценности?
А кто всё это оплатит? Лишь дехкане и ремесленники своим каждодневным непосильным трудом, поскольку сказано в незапамятные времена: «Положение подданных суть клад, отданный царям на хранение Творцом всего сущего»1. Почему-то беки никогда не задумываются над тем, как живут их люди, что едят, где спят? Они вспоминают о дехканах лишь во время сбора налогов. Но главное богатство беков это военная добыча. При её дележе сардары завистливыми глазами смотрят друг на друга: вдруг кому-то на одно ячменное зёрнышко достанется больше, чем ему? Раздоры при распределении трофеев такие, что становится страшно за душевное здоровье приближённых. Хотя какое душевное здоровье может быть у того, кто не гнушается снять сапоги с убитого противника, вывернуть поясной платок в поисках медных фельсов и других скудных мелочей?
Слишком часто я всё это видел, чтобы доверять своему окружению. Рядом со мной большинство приближённых находятся лишь потому, что я всегда щедро награждал их за участие в походах. Не жалел дорогих халатов, резвых коней, золотых монет, перстней и браслетов. Почему-то при распределении добычи всегда возникают споры. И спорит чаще всего тот, кто во время битвы берёг себя пуще единственного сына или глаза. Во время боя орёт, делает вид, что размахивает саблей, скачет неизвестно куда, но только не на врага! Прячет драгоценную голову, сохраняет её для будущих свершений. На самом деле он трус, боящийся не только тени врага, но и своей собственной! Доподлинно знаю, если отвернётся от меня удача, не будет побед и добычи, то мгновенно исчезнет вся моя раззолоченная свита, прославляющая сейчас на все лады великого хана.
Одно событие юности запомнилось мне нелепостью и оставило неизгладимый след в памяти. Я был совсем молодым джигитом, был наследником своего отца и командовал немногочисленными войсками. После одного сражения ко мне пришёл безусый парнишка, если и старше меня, то на одну-две луны, с несуразной и вздорной просьбой:
– Великий султан! Нас было несколько человек, и мы захватили сокровищницу Клыч-Кора султана, которая досталась ему по наследству от его благородного отца, Кистин-Кора султана. Из всего количества драгоценностей каждый из моих товарищей взял по пяти щитов из червонного золота, мне же они дали только один щит. Обращаюсь с просьбой к его величеству дать приказ, действующий как рок, чтобы всё добро было разделено между нами поровну2. – От жадности у него тряслись руки, в глазах застыла тоска по золотым щитам.
Мало ему показалось – щит из червонного золота весит не меньше десяти мутов, за него можно купить два караван-сарая или двадцать танабов обрабатываемой поливной земли. Поэтому я ответил:
– Благодари бога за добро и его бесконечные милости и сочти за благо то, что тебе досталось из добычи!3– Этот Клыч-Кора султан был моим двоюродным братом. Он восстал против меня, но я же не потребовал часть добычи, поскольку меня в том сражении не было.
Мне было противно смотреть на этого воина. Я с тоской думал о том, как самому не превратиться со временем в ненасытно-алчное чудовище, стоящее передо мной.
В то время в моём государстве не было золотых денег. Торговали на медные и серебряные монеты. Серебро тратили на дорогие вещи, дома, земли, калым за невесту. Разменными деньгами были медные фельсы. Но и эти деньги люди в руках не часто держали. Торговля умирала, иноземные купцы переставали ходить караванами: опасались разбойников, грабивших на дорогах. Да и наши купцы твердили, что морем ходить куда выгоднее. Откуда у нас море? Море далеко, у нас одни пески. Для оживления торговли требовалось сделать невозможное.
Нужно было сотворить чудо, чтобы деньги стали полновесными, а караванные дороги удобными и безопасными. В годы моего правления одних сардоб было построено больше тысячи. Их охраняли нукеры, возле них нельзя было устраивать засады или драки. Не все слушались, приходилось наказывать. За нарушение водного права смерть на виселице без пощады! Я всегда вникал в мелочи государственного управления, помню все решения, какие принимал, и по какой причине это делал.
Подойдя к окну, я выглянул во двор. До сих пор не знаю, кто придумал стекло. Этого не знают даже самаркандские ремесленники, изготавливающие самое лучшее стекло в Мавераннахре. Из окна кабинета были видны ворота конюшни: по двору конюхи выгуливали моих любимых ахалтекинцев. Кони играли, рвались из рук, перебирали копытами, выгибая крутые шеи. Опытные наездники знали секреты укрощения сноровистых скакунов. Занятно смотреть на работающего человека! В такие моменты я думаю о том, как я сам справился бы с конём.
Я всегда любил лошадей, предпочитал туркменских ахалтекинцев. Нет лучше лошади в нашем климате и бездорожье, чем ахалтекинец. Эта лошадь вынослива, неприхотлива в еде, привязана к своему хозяину, резвая. Ей не страшны ни мороз, ни жара, она выдерживает без корма и воды два-три дня кряду. Таких лошадей у меня много, и держу я их не только для себя, а для подарков своим отличившимся подданным. Почему-то они любят хвастать, что на его коне ездил сам великий хан. Иногда после сражения я просто спрыгивал с коня и передавал поводья отличившемуся беку, сам пересаживался на запасного.
Ахалтекинцы очень красивы: у них маленькая гордая голова, сухие поджарые ноги с крепкими копытами, грива негустая, поэтому у моих лошадей она всегда острижена. Шкура у них самого разного окраса, но есть одна особенность – золотистый или серебристый отблеск, по которому всегда можно отличить ахалтекинца от любой другой породы. Мужчина туркменских племён, откуда родом ахалтекинец, скорее отдаст свою жену, чем расстанется с конём. А глаза у ахалтекинца, как у меня, – такие же раскосые, так что мы с ними похожи. Жаль, что никто из моего окружения не шутит по этому поводу. Сам я не мастер шутки шутить, но хорошую шутку люблю.
Плутарх в «Сравнительном жизнеописании» рассказывал, что любимый конь Александра Македонского был ахалтекинской породы. Буцефалом его назвали потому, что у того на лбу была белая отметина, напоминавшая голову быка. Сказка о том, что фессалийцы запросили за коня тринадцать талантов, совершенно невероятная! Где это видано, чтобы взрослый конь одиннадцати лет стоил пять с половиной кап серебра? Ещё меня до сих пор мучает вопрос.
Откуда у фессалийцев взялся ахалтекинец, было непонятно. Все знают, что эти лошади живут и дают полноценный приплод в основном в районе Ахал-Така. Лишь там вырастет настоящий ахалтекинец. Цена пять кап, на мой взгляд, просто невозможна, видимо, историк древности напутал. Это притом, что средний ахалтекинец весит почти девять кап. За мою долгую жизнь я видел разных дорогих лошадей, многих из них на моей конюшне покупали, продавали, дарили и получали в качестве подарка, но ни один конь из моей конюшни не стоил так дорого. Хотя кто поймёт Александра?
Некоторые воины предпочитают ферганских лошадей. Не спорю, они хороши. Тоже выносливые, но ходить по пескам не могут, в этом их основной недостаток. В остальном они не уступают ахалтекинцу. Конечно, про коней лучше говорить с конюхом, он знает про лошадей всё. Мы же, узбеки, народ кочевой. Для нас главное, чтобы конь был сильным и выносливым. Рассказывают, что на Западе есть такое воинское сословие как рыцари. Они с ног до головы одеваются в железо и идут в бой на огромных конях. В седло рыцари не могут сесть сами, а если упадут с коня, то непременно становятся лёгкой добычей противника.
Я опять перебрался в спальню, лёг на курпачи и уже не думаю, что они мне надоели: я устал сидеть на ковре, подогнув под себя ноги. Подушка под голову, другая под поясницу, третья под ноги. Ещё одну на живот. Я начал теребить её, разглаживая руками морщинки слежавшейся ткани и ощущая пальцами скользкий шёлк, струящийся и издающий слабый запах лаванды.
Мысли мои скачут с одного предмета на другой – летучая молния мысли метнулась в сторону подвигов и героев. Много легенд и сказаний ходит о непобедимых воинах. Рассказывают о батырах, бившихся на саблях с утра до вечера и с вечера до утра без отдыха, без еды и воды. Что говорить, такие джигиты желудок не опорожняли, так и дрались с полными кишками и мочевыми пузырями. Спору нет, сказания и легенды красивы, но настоящая битва так же далека от истины, как портрет красавицы от её истинного облика. Даже самые сильные воины, которых я знал, могли биться на саблях недолгое время. Меньше часа. Потом руки теряют резвость и силу, становятся ватными, удары скользят мимо цели. Не то что кольчугу пробить, ранить человека сложно.
Сам я никогда не считал себя сильным воином, ловким – да, но не настолько сильным, чтобы биться одновременно с двумя противниками. Пока ты расправишься с одним, второй тебе без раздумий и препятствий голову снесёт. Он не будет ждать, пока ты с его товарищем разделаешься. Меня учили самые лучшие учителя так, как моих братьев Кулбабу и Зульфикара. У Зульфикара длинные руки, и сам он достаточно высокий, чтобы держать не только саблю, но и меч! В сражении он всегда рядом со мной. Я же невысок от рождения, в детстве был просто плотным, а с возрастом погрузнел, отяжелел и стал неповоротливым. Битвы помогают выиграть разумная тактика и солидный резерв. Пока одни бьются, другие отдыхают, меняясь через каждые полчаса, и желательно, чтобы таких групп было три или четыре. Один свежий воин стоит трёх уставших.
Ни разу за всю свою жизнь я не видел, чтобы небольшое войско могло победить более многочисленное, хотя в старых книгах об этом пишут. Но если вспомнить ерунду, что пишет обо мне и моих под вигах Нахли, мой летописец, то можно подумать, что я всегда побеж дал врагов, выходя против них даже не один на один, а один против пяти или десяти. Так врут эти древние книги и рукописи. Я уверен, что их летописцы так же безбожно сочиняли, уменьшая в отчётах своё и увеличивая число войск противника.
Это как молодой воин, впервые оказавшийся в битве, думает не о том, что должен делать, а о своей славе, о том, какой он сильный батыр и после сражения убитые им враги размножаются чудесным образом. Так два раненных им противника превращаются в трёх убитых. Эти три сравнимы с исчадием ада, они становятся великанами огромного роста и звериной свирепости. А на самом деле они такие же мальчишки, как и он, такие же слабые и хвастливые. Ему повезло остаться в живых, а у противника ранена рука или отсечено ухо.
Если хан хочет иметь сильное войско, людей в нём нужно хорошо кормить, всё время заставлять тренироваться с саблей и пикой, учить скакать на коне так, чтобы джигит не свалился под ноги строптивого скакуна. У воина в одной руке клинок, в другой – щит. А как управлять лошадью? Одними ногами, уздечка в это время намотана на луку седла, конь должен слушаться не поводьев, а движений коленей и ступней наездника. Иначе жеребец испугается и скинет незадачливого вояку себе под копыта, где того быстро затопчут испуганные кони.
Всадник должен видеть, куда направить коня, выбирать противника себе по плечу, а не кидаться очертя голову в самую гущу сражения. Надо следить, чтобы слева и справа были твои соратники, а не враги, иначе – плен и рабство. Чаще всего пленных убивают, но иногда можно и выкупиться. Не у всех есть деньги на выкуп, не всех воинов выкупает ханская казна, а только тех, кто ещё раньше проявил себя в сражениях. Вот поэтому победа в сражении куётся ещё до его начала, до того, как противники столкнулись.
Я устал вспоминать прошлое и говорить сам с собой. С утренней молитвы я сижу один и никому не разрешаю заходить в свой кабинет. Надо поесть, надо выпить горькое, отвратительное лекарство, надо стряхнуть с себя уныние. Надо прочитать последние донесения соглядатаев при дворе Абдулмумина, надо поговорить хоть с кем-нибудь, чтобы перестать слышать голос своей совести. Но лень даже хлопнуть в ладоши… Интересно, если я не хлопну в ладоши, в мою комнату так никто и не зайдёт? Неужели мне позволят умереть в одиночестве? Перехожу в кабинет и, чтобы не испытывать судьбу, хлопаю в ладоши. Мгновенно открывается дверь, за ней стройными рядами на коврах топчется весь мой двор. Смотрят, выпучив от усердия глаза, видимо, удивлены, что я ещё жив. Выглядывают из-за спин друг друга и бубнят вразнобой:
– Великий хан… – это скрипит Аким-бий-мирахур.
– Опора мира… – вторит ему Джани Мухаммад-бий, диванбеги.
– Светоч мысли… – не отстаёт Хайдар Мухаммад мунши.
– Счастье и жизнь… – продолжает Санджар-бек.
– Луноликий и бесподобный… – отличился Озод-бек-дадхо.
Ну то, что Луноликий, – это точно! Я действительно круглолицый. Но мне уже шестьдесят пять лет, так что сравнивать меня с Луной это верх недомыслия. Я не девушка, чтобы такое слушать. Остальные тоже что-то лепетали, я не прислушивался к гомону Саляма. Одним взмахом руки показываю, что они все могут удалиться, оставляю только Зульфикара и дастурханчи. Табиб Нариман, несмотря на указание, трясёт своими склянками, умоляя принять лекарство. Кривясь и заранее морщась, выпиваю надоевшее зелье. Дастурханчи в нетерпении выплясывает за его спиной.
– Накрой дастархан, хочу мяса, но не жирного, принеси побольше овощей, свежих лепёшек, но не горячих. И кумыса. Много кумыса. – Как хорошо, что я наконец-то решился ожить! Если заниматься копанием в самом себе, можно напридумывать страхов, несчастий и болезней не только на свою голову, но и на всё своё обширное государство!
– Слушаюсь, великий хан, вам не придётся ждать и мгновения, всё давно готово. – Так и должно быть. Лицо у Абдул-Кадыра стало безумно счастливым, расплылось в неподдельной улыбке, словно ему удалось воочию узреть райские сады или, по крайней мере, райские кухни, если таковые имеются в эдеме!
Зульфикар невозмутимо смотрит на меня:
– Что, великий хан, надоело одному в темноте сидеть? – Лишь один он может так со мной разговаривать, и слова «великий
хан» он произносит так, словно говорит: «Ну что, братишка, соскучился?»
Я улыбаюсь. Я доволен, что вижу его. Давно наши лица покрыты морщинами и тела шрамами, но я вижу перед собой не старика на склоне лет, а непоседливого юношу, который кричит: «Великий султан, очнись, скоро на тебе мухи яйца отложат». Но так мы разговариваем наедине, когда никого рядом нет. Он старше меня на две недели, и это повод для всегдашних одинаковых шуток: «Великий хан, ты куда в сечу впереди меня, я старше, давай, осади коня»; или «Великий хан, подожди пробовать это кушанье – сначала я проверю, чем тебя сегодня отравить хотят». Это мне смешно, я так привык, что почти не обращаю на эти дурачества внимания, но всегда слушаюсь.
Эх, кто бы знал, что я слушаюсь Зульфикара, то не сносить ему головы. Мы стараемся не выпячивать его значение при моей особе, люди к нему привыкли, не придают значения его присутствию – как не смотрят на поясной платок, должен он быть, и всё тут. Никто не подозревает, что одно его слово для меня важнее тысячи слов моих чиновников.
Дастурханчи и два его помощника принесли несколько подносов, всё было именно так, как я хотел. Только теперь я понял, как голоден, одно яблоко сильно раздразнило аппетит. Но сначала молитва, а потом еда.
– Зульфикар, ты часто думаешь об убитых тобой людях? – усевшись удобнее на подушках и налив себе кумыса, спросил я Зульфикара.
Судя по всему, кусок баранины, который мой брат хотел отправить себе в рот, вдруг решил остановиться на полпути к заветной цели.
– Я? А зачем о них думать? Они давно мертвы, их не воскресить, тем более что убивал я в сражениях, а там не смотришь, кого отправляешь на тот свет, потому что или ты его, или он тебя! – Лицо Зульфикара исказила недобрая усмешка, хорошо известная мне. Когда видел её, то понимал, что кому-то сейчас не поздоровится. Видимо, вспомнилось что-то не слишком приятное.
– Я не про это… Я про то, жалко ли тебе их?
Зульфикар морщит лоб, явно не понимая, о чём я говорю. Ему не даёт покоя не мой вопрос, а баранина, которая сегодня на редкость хороша и летит в его желудок со скоростью хорошего скакуна.
– Великий хан! Если бы я думал об этом и жалел всех убитых мною, я бы давно сделался дервишем, как мой дядя. Молился бы и жалел всех окружающих, пытаясь облегчить молитвой их тяжёлую жизнь. Но кто защитил бы тебя от всех твоих друзей, родственников и врагов? Хотя если ответить после раздумий, должен сказать, что думаю. Думаю о том, что, сложись моя жизнь по-другому, стал бы как дядя Али – зодчим, или остался резчиком, как отец. И был бы счастлив. Но я твой молочный брат. Мы с тобой – две виноградины на одной грозди, два глаза на одном лице. Мы с тобой не просто братья – мы с тобой один человек. Твои мечтания о великом едином государстве, которым ты грезил с детства, пленили мой ум – я теперь и не думаю о том, всё ли в жизни сделал правильно. Я знаю, что всё сделал как нужно, и не жалею ни об одном убитом мною человеке.
– А я жалею… – Наконец-то я чувствую, что печаль в моём голосе заставила Зульфикара задуматься над моим вопросом.
Он повертел в руках пиалу с чаем, нахмурился, выпил и ответил:
– Ты? О ком? Те, кого ты убил, мешали тебе. Если они сидели бы по своим кибиткам, кишлакам и кочевьям, а не поднимали оружия, то были бы целы. Но что говорить об этом? Дело-то сделано, никто, кроме самих убитых, не виноват в том, что они на том свете, а мы на этом. – Помощники Абдул-Кадыра куда-то скрылись, наверное, стоят за занавеской и, дрожа от страха, затыкают уши, чтобы не услышать лишнего, а потом не проболтаться.
Я с удовольствием ел мясо и запивал кумысом. Лепёшки были такие, как я люблю: свежие, но не горячие. Зульфикар больше любил похлёбки, что-то жидкое, вроде маставы, но в выборе еды всегда уступал мне, соглашаясь с моими склонностями. Он не считал это важным, но кумыс не любил и предпочитал чай, шербет или чистую воду. Сладости мы дружно не любили: мёд, сахар, финики и разнообразные сладости всегда оставались на дастархане, так что Абдул-Кадыр давно перестал их приносить.
– Зульфикар, а почему у тебя нет наложниц и жена у тебя одна? – Я сегодня никак не мог остановиться, мне нужно было выговориться самому и слышать в ответ родной голос. Даже если бы Зульфикар начал читать мансеви, я бы всё равно задавал вопросы, не ожидая на них отклика или отповеди.
– Великий хан, вы изволите шутить? Вы что, забыли, что мы с тобой решили никогда не иметь второй жены? Мне и на одну жену времени не хватало, а ты про гарем толкуешь… – От неожиданности он стал путать слова, то «вы», от чего мы давно отказались в разговорах между собой, то «ты», что было намного привычнее и ближе…
– Да помню я, просто как-то подумал, у всех моих подданных царедворцев по четыре жены, да и наложниц без числа, а мы с тобой ограничились одной женщиной. – Я безмерно желал, чтобы он развеял мои сомнения. Если бы у меня было больше сыновей, мне не пришлось бы горевать по поводу единственного наследника.
– Не надо грустить о том, что уже невозможно исправить. Нам с тобой давно пора подумать о том, где будет место нашего вечного успокоения, а не о молодых жёнах и наложницах. Или не помнишь, что бывает с теми старцами, которые об этом забывают? Молодая жена начинает вертеть стариком-мужем в разные стороны – будь то просто дехканин или хан, всё едино! Моя Зулейха, да продлит Аллах её дни до моей кончины и дольше, подарила мне троих сыновей и четырёх дочек, все уже давно женаты и замужем. У каждого по три-четыре ребёнка, но ни один из сыновей не стал воином, как я. Не всякий сын повторяет путь отца. – Он понял, в чём я нуждаюсь. Что гнетёт меня с утра, поэтому подхватил нить разговора, как будто мы целыми днями только о детях и жёнах говорим. А заодно судачим, как заправские сплетницы.
– А как же твой дядя Али? В вашей семье все плотники от пятого колена, может, и раньше кто-то плотничал, только ты не знаешь. Они же все пошли по дорогам своих отцов?
– Я всё время жил подле тебя и историю своей семьи знаю от дяди. Смешно, великий хан, мой дядя младше меня, а вознёсся выше всех в семье. Сколько он построил величественных зданий! А как много путешествовал! Был и на Западе, в Хиндустане, куда только он не ходил, чтобы научиться своему искусству! Учился у великого Синана, мир праху его! Никто с ним не сравнится, но ни на одном сооружении нет его имени. Когда он умрёт, а над нашей страной пролетят века, никто не узнает, кто же построил все эти медресе, мечети, плотины, сардобы, мосты и минареты.
– Ты меня осуждаешь за то, что я не приказал ему запечатлеть своё имя на порталах этих дворцов? – я был недоволен тем, как он это сказал, я хорошо понимал, что Али достоин большего.
Достоин не только имени на портале, он достоин самого роскошного дворца для жилья, самого грандиозного медресе, в котором он бы мог преподавать своё непревзойдённое мастерство. Я знал, что Али-зодчий со своим братом устроили что-то вроде мактаба для зодчих. Он до сих пор всем проезжающим купцам заказывает книги по архитектуре и математике. Зульфикар начал отнекиваться:
– Нет, великий хан, у нас это не принято, и не нам с тобой менять устоявшиеся традиции. А то, что нет его имени на портале – не так страшно. Стоит дворец, и если его не разрушит какой-то варвар, то память всё равно сохранится. Скажут наши потомки: вот мечеть, наверное, её построил великий зодчий! Этого достаточно! Если до наших правнуков дойдёт целым хотя бы одно здание, значит, дядя жил не зря. Он всю жизнь работал не покладая рук, не останавливаясь ради праздности и отдыха. Он торопился сделать в жизни как можно больше! – моё второе «Я», как всегда, меня успокоило.
Чувствую, что постепенно возвращаюсь к жизни. Мысли вихрем завертелись вокруг повседневных дел. Их, кроме меня, никто не сделает. Я люблю тебя, брат! Я насытился. Живот не заболел, голова оставалась ясной. В жар не бросало. Теперь просмотреть бумаги, принять решение, что же делать с Абдулмумином?
– Зульфикар, посмотри за занавеску, никто там не спрятался? – осторожность всегда и во всём, поэтому я и нахожусь на ханском месте вот уже сорок лет.
– Я уже посмотрел, никого нет ни за занавесями, ни за коврами, ни в коридоре. О чём ты хотел поговорить, великий хан? – никогда Зульфикар не ответит просто так – он всегда сначала сделает, посмотрит, потом ещё раз проверит, а уж потом будет докладывать, что ничего мне не угрожает.
– Об Абдулмумине. – Я скривился, как от застарелой зубной боли…
– А что Абдулмумин? Сидит себе в Балхе, окружил себя подхалимами и развлекается с мальчиками. Пьёт вино и часто напивается до изумления. Да, ещё обжирается! Прости меня, великий хан, он стал ещё толще, чем ты… – худоба и поджарость Зульфикара были предметом моей тайной и всепоглощающей зависти.
– Я не толстый. Я упитанный! Я всегда был таким, а тебе я язык укорочу, если будешь про мою полноту говорить! А вот ты худой! – съязвил я.
– Не укоротишь. Тебе, кроме меня, никто правды не скажет, вот умру я, что делать станешь? На брата надеешься? И я не худой, я стройный! – детская перепалка развеселила меня.
Я заулыбался, заулыбался впервые за долгие дни моей болезни.
– У меня остался только один брат, ты же знаешь, это Ибадулла-султан, на него у меня есть надежда, он всегда мне помогал и никогда не выступал против меня. Двое других погибли; и Абд-ал Каддус и Абд-ал Латиф. Они были младше, но Аллах призвал их к себе. Ибадулла хорошо воевал против Таваккула. – Я задумался и замолчал:
этот Таваккул странный, очень непоследовательный.
– Не странный он. Жадный, как все кочевники.
– То воюет за меня, то против меня. И не поймёшь, что ему придёт в голову сегодня или на другой день, или на следующей неделе. Очень обидчивый, хитрый, но если ветер удачи отворачивается, то он отворачивается вместе с ним. Он похож на флюгер. – Я был рад щегольнуть учёным словечком, тем более что установка настоящего флюгера на одной из башен Арка вызвала неподдельный ужас у муфтиев и шейх-уль-ислама, а у меня искреннее удовольствие от этого ужаса.
– Вот видишь, а для меня нет никакого ветра удачи, кроме твоего, я всегда рядом. Так что пусть мой язык останется при мне.
– Будь по-твоему. Так что там Абдулмумин?
– Великий хан, смотри, что пишет твой Хикмет. Я рад, что в своё время одобрил этого молодца. Жаль, что воспитывался не в твоей сотне. Но хорош, ничего не скажешь! Судя по его письму, он с Абдулмумином в одной постели спит, из одной пиалы чай пьёт и из одного лягана плов ест. – Я опять улыбнулся. Недоумение Зульфикара, не наигранное, а настоящее, приводило меня в благодушное настроение.
Я взял лист тонкой бумаги, поданный Зульфикаром. Писулька неоднократно сворачивалась, на сгибах слегка потёрта и была мятая-перемятая. Однако прочитать текст было возможно. «Во имя Аллаха милостивого и милосердного! Дорогой мой друг Замир! Свет наших очей, великий султан Абдулмумин, отражение солнца на земле, сильнейший воин и красивейший из живущих на земле мужчин, да продлятся его годы вечно! В месяц шавваль в день Джума Абдулмумин, да живи он вечно, с утра выпил много виноградного вина, а потом уединился в гареме с двумя мальчиками, красивыми, как Венера в предутреннем небе, и не расставался с ними до вечерней молитвы, которую по обыкновению пропустил. Потом султан изволил пировать со своими приближёнными, а тем, кто отказывался пить запрещённый напиток, выливал его на голову или брызгал в лицо, от чего многие начинали кашлять и задыхаться. Султан изволил веселиться до полуночи, потом отправился в гарем к новой наложнице. Но заснул, не дойдя до гарема, и слуги отнесли его в опочивальню. Утром другого дня он отправился на охоту со своими сардарами, предупредив, что через неделю все войска должны быть готовы к великой битве. Во имя Аллаха, милостивого и милосердного, да благословит султана Абдулмумина во всех его начинаниях. Желаю тебе, Замир, жить долго и счастливо, и не прощаюсь с тобой, надеясь вскорости свидеться. Да буду я твоей жертвой, твой друг Ислам».
Не ошибся я в Хикмете, которого мне навязал Ибадулла-султан всего три луны назад, уверяя в его исключительной изворотливости. Если попадёт это письмо в руки нежелательного человека, то непонятно, будет сплетня это или донос, который мне крайне необходим.
– Ты читал? – можно было и не спрашивать. Зульфикар всегда читает мои письма. Но не потому, что хочет быть в курсе всех событий, а потому, что бумага может быть пропитана ядом. Кукельдаш тщательно проверяет, нет ли какой отравы на тех листках, что попадают ко мне в руки.
– Конечно. Хитёр твой Хикмет, прямо мёд с молоком из его уст, а на самом деле кусает, как собака, и жалит, как скорпион. Сразу не поймёшь: то ли он хвалит Абдулмумина, то ли осуждает?
– Другие не поймут, а нам с тобой ясно, что он войска готовит, но куда идти собирается, надо узнать. – Донос Хикмета нельзя оставлять без внимания, вроде бы полнамёка, полслова, но они сказаны Абдулмумином, а мною были услышаны.
Нам с Зульфикаром не нужно много слов, чтобы понять друг друга или убедить в чём-то. Но ещё в детстве я понял, что отношение окружающих к нам не одинаковое. Нас кормили за одним дастарханом одинаковой едой, нас учили одни учителя. Но если Зульфикар что-то делал лучше меня, его за это никогда не хвалили. Чаще всего наказывали: не будь лучше шахзаде, не старайся превзойти его. Он метко стрелял из лука и чаще попадал в цель. Но если попадал я, то вокруг поднимался хор умильных возгласов: «Ханзаде показывает удивительную меткость, он, как Искандер, может попасть в Луну, если на то будет его желание!» Такие похвалы не выпадали на его долю. Зульфикар не сердился. Однажды я застал одного из своих наставников, который старательно выкручивал его правое ухо:
– Опять ты попал десять раз в цель, а ханзаде только семь, сколько раз тебе говорить – не лезь впереди солнца! – мой наставник эмир Тан-Саййиди-бий джалаир со знанием дела трепал зульфикарово ухо, пытаясь сделать ему как можно больнее. На это учитель был большой мастер.
Зульфикар молча терпел, только старался вывернуться из цепких лап своего мучителя. Я, не помня себя от ярости, зло пнул эмира Тан-Саййиди по ноге и заорал:
– Не смей меня бить, никогда не смей этого делать! – я был готов своими детскими слабыми ручонками придушить наставника. Недетская ярость клокотала тогда в моём голосе. Я ощущал себя Зульфикаром, ощущал его боль как свою.
Тот от неожиданности отпустил многострадальное ухо моего брата и завопил:
– Я наказываю этого безродного, а вас я никогда и пальцем не трогал!
– Ты не понимаешь, что когда бьешь его, то больно мне! – в тот миг мне действительно было плохо, моё правое ухо пылало и ныло от нестерпимой боли, казалось, что оно уже оторвано и валяется в пыли…
Наставники никогда не могли понять нашей связи, да я и сам всю свою жизнь не мог разобраться, почему Зульфикар ближе мне, чем все братья и даже отец. Спустя короткое время наставники перестали наказывать его, а я старался как можно реже проявлять на людях свою привязанность к нему. Я понимал, что ничего хорошего это не сулит ни Зульфикару, ни мне. Мы никогда не расставались, но он старался держаться как можно незаметнее. Он был тенью или подобием тени.
Возможно, его родители были простые люди и им приказали отказаться от него ради меня. Возможно, что он был сиротой без всякой родни. Тогда я о его близких ничего не знал. Наверное, они тосковали по своему ребёнку, но я никогда не стремился об этом узнать, а Зульфикара я не спрашивал, чтобы не бередить его душу. Но в молодые годы я думал, что Зульфикар сирота, а его мать умерла после того, как некоторое время кормила нас с ним своим молоком.
У моих братьев тоже были кормилицы, у них тоже были молочные братья, но я не замечал, чтобы они хоть изредка вспоминали ту женщину, которая их выкормила. Какая-то глубокая, непостижимая тайна кроется за всем этим. Наверное, для всех моих свершений Аллах послал мне незримую для врагов защиту: моих молочных братьев Зульфикара и Кулбабу!
– Так что мы станем делать? – я был в некоторой растерянности.
– Ничего, подождём немного. До Балха далеко. Самое главное сейчас, чтобы ты был здоров. И незаметно надо провести смотр войск, лучше по частям, не привлекая ничьего внимания. Я тут посижу в задней комнате, а ты поговори с накибом, он человек разумный и предан тебе. – Я сам всё это понимаю. Понимаю, что надо приближать к себе таких людей, как накиб Хасан-ходжа. Знаю я его так давно, что мне кажется, что он родился и вырос рядом, хотя его предки из Самарканда, а родственники со стороны матери – выходцы из ташкентского вилоята..
Задняя комната была сооружена давно, придумал её Али. Он рассказывал, что при дворе турецких султанов такие комнаты часто делали для подслушивания и подглядывания за врагами и друзьями. В крохотной каморке стоял кувшин с водой, войти в неё можно было или из моего кабинета или из коридора, по которому бегали слуги. Неприметная дверь, редко запираемая, не привлекающая ничьего внимания. А если кто и интересовался, что за дверь, то, открыв её, видел кучу старых ковров, наваленных в беспорядке. Судя по всему, никто не догадывался о существовании тайника. Потому иногда я сам до начала обсуждения какого-либо важного вопроса заходил в неё, сидел в темноте и слушал, что думают мои приближённые, что собираются предпринять. Если бы эмиры знали о существовании тайной комнаты, то постарались бы придерживать свои бредовые мысли и болтливые языки.
Накиб явился через два вздоха, словно стоял за дверью. В указах, грамотах и фирманах его имя стояло первым после моего, он был моим советником по вопросам внешней и внутренней политики и, что самое главное, занимался подготовкой военных походов. Отвешенный им поклон был верхом изящества, несмотря на его возраст, он был всего на десять лет моложе меня. Хитрости и опыта ему было не занимать.
– Великий хан, подобно солнцу, озаряющему всё вокруг… – как же мне отучить приближённых во время выполнения работы не сотрясать попусту воздух в кабинете? Необходимы новые правила и соблюдение их выполнения под страхом физического наказания. Ну это я преувеличиваю. Я поморщился:
– Не до славословий. Прочитай. Подумай и скажи своё мнение. Я знаю, ты предан мне, предан нашему государству, предан делу единства родины, поэтому прежде чем ответить подумай сто раз. – Донос Хикмета перекочевал в его руки, и накиб принялся внимательно читать. Несколько раз он морщился, тряс рукой, державшей смятую бумагу, потом спросил:
– Этому человеку можно верить? – на лице накиба явно было написано сомнение.
– Верить никому нельзя, ты это знаешь лучше меня. Поскольку сам научил меня верить лишь тому, что я родился, а ещё тому, что когда-нибудь умру. Но я склонен думать, что человек пишет то, что видит.
– Это плохо, великий хан! Это война. Возможно, ваша болезнь как-то связана со всем этим. – Он пожевал губами, словно пробуя на вкус то, что написано в доносе, опять поморщился. – Война.
Накиба совершенно не удивило то, что против меня идёт родной и единственный сын. Всю жизнь он был при дворе на разных должностях и его ничем не озадачишь. Привык за долгие годы к тому, что союзы между эмирами и султанами недолгие, распадаются так же быстро, как и создаются. Так под жаркими лучами исчезает внезапный весенний снег.
– Великий хан! Много чего неприятного случилось за последнее время, в наших северных пределах неспокойно. Таваккул тайно готовит войска, налоги поднял до небес, у дехкан и скотоводов сборщики налогов отбирают последнего барашка и мешок ячменя. Доносят мне, что его войско исчисляется сотней тысяч, как он рассчитывает прокормить эту голодную ораву, я себе не представляю. – Накиб угрюмо насупился.
– У Таваккула всё племя, вместе с грудными детьми, с лошадьми и собаками меньше восьмидесяти тысяч. Но даже пятьсот кочевников, напавшие на беззащитное селение, вырежут его без остатка.
– Великий хан! Если кормить войско и людей впроголодь, то на каждый день пути от Дашти понадобится не менее трёхсот баранов! А сколько зерна, крупы, кумыса и всего остального? Или они рассчитывают грабить наши селения, оставляя после себя пустыню? А если ваши противники сговорились и будут наступать с юга и севера? Тогда нам придётся несладко. Подумайте, великий хан, может быть, попытаться договориться? Заплатим омон-пули и переждём неблагоприятную пору? – ой-бой, это что же такое? Не успел я его мысленно похвалить, как он решил меня разочаровать и прямиком шлёпнулся в лужу моего недовольства?
– Кому заплатим? Одному или обоим? Сыну я ничего платить не собираюсь, а Таваккулу я столько подарков передал, на две жизни хватит! А городов в суюргал, всё мало ему? Ничего они не получат, надо готовить войска. – От злости я всегда начинаю говорить очень быстро, и тут слова вылетали твёрдыми горошинами из перезревшего стручка.
– С войсками у нас нелады, сейчас месяц шавваль, налоги почти собраны, новых не будет до следующего года. То, что собрали давно, распределено на ближайшие нужды государства. У нас хватает средств, чтобы кормить набранное войско, тысячу отборных воинов. Они не пахари, не дехкане, не ремесленники, это действительно воины. Они дни и ночи совершенствуют своё ратное мастерство. Каждый из них стоит трёх необученных, но вооружённых людей. Кроме того, значительных расходов требуют лошади, их надо кормить.
Их нужно в два-три раза больше, чем воинов. Потому что это не простые дехканские лошади, это боевые кони. В сражении первым делом уничтожают коней.
– Да, накиб, ты прав.
– Подготовить боевого коня не один год тяжёлой работы наездников. Опытных конюхов мало, и их работа стоит дорого. Если обязать беков привести войска, то сами знаете, что притащат из своих суюргалов неумех. Они саблю от меча отличить не могут и даже числом не возьмут противника. Такого войска можно набрать тысяч до семидесяти. Приедут на заморённых клячах и разбегутся, как только увидят орды Таваккула. – Накиб скучным, усталым голосом перечислял все недочёты и препятствия, о которых я знал, но собранные вместе они выглядели довольно печально!
– Грустную картину ты рисуешь, Хасан-ходжа! Что ты посоветуешь, кладезь воинской премудрости и защитник отечества? – Я хорошо понимал, что мой накиб сейчас в тяжком раздумье, думает и прикидывает, как лучше выйти из создавшегося положения. Я даже начал забывать о своём недомогании. Лечиться надо работой и нужными раздумьями, а не нытьём о своих мнимых несчастьях и старческих болезнях.
– Выжидать. А пока тайно посылать гонцов к союзным бекам и смотры войск проводить на местах, не таская их всех в благословенную Бухару. Кого надо хвалить, как вы умеете, кому-то преподносить подарки, но не очень дорогие, чтобы не загордился и ожидал большего. Кого надо наказать и запугать, но не до икоты, а слегка. Нужно, чтобы иктадоры поняли, что налоги не только для пиров, но ещё и для пополнения войска. У меня есть сведения обо всех ваших владениях с указанием, кому они даны в икту, кому в суюргал.
– Эти сведения мне нужны, приказываю к вечеру доставить в кабинет.
– Великий хан, у меня сосредоточены все сообщения, какое владение сколько приносит прибыли и сколько воинов может прислать. Простите, великий хан, но подготовить доклад успею лишь к завтрашнему вечеру, если на то будет воля Аллаха. Из тех воинов, которые у нас есть, сотники выберут по пяти или десяти самых достойных. Их следует разослать по суюргалам, пусть смотрят, вынюхивают и готовят честное донесение. – Накиб говорил так, словно многократно всё это произносилось им в различных ситуациях. Уверенности в его голосе хватило бы на два десятка накибов разных времён и служащих разным ханам.
Мне его слова понравились. Хасан-ходжа никогда не сидит без дела. И тут мне в голову пришла мысль:
– Многоуважаемый накиб, опора государства! Сколько человек помогает тебе совершать утреннее омовение? – глаза Хасана-ходжи медленно полезли на лоб:
– Что такое, великий хан? Я не понял, о чём вы спросили? – заняв высшую точку там, где начинается чалма, его глаза остановились и уставились в мою переносицу.
– Я тебя спрашиваю, как ты умываешься? – застыл я в ожидании ответа.
– Умываюсь? Как все, подошёл к лохани, помыл лицо, вытер. Я что-то не так делаю?– глаза Хасана-ходжи медленно вернулись на место, предназначенное им от природы.
Я счастливо засмеялся:
– Не как все, некоторые пользуются услугами пяти-шести человек. – Хасан-ходжа внимательно посмотрел мне в глаза и ответил, но так тихо, что я едва расслышал:
– Вот поэтому, великий хан у нас и нет войска для отпора врагам. Деньги из казны утекают неизвестно куда. Кто мог придумать такое: заставлять прислуживать четырёх человек при утреннем омовении? А сколько же может понадобиться высокородному беку людей для опорожнения желудка? – эта мысль и мне приходила в голову. Накиб, вторя мне, засмеялся, но так грустно, что я понял: не так всё хорошо, как говорят другие беки и остальные приближённые.
А вернее всё плохо!
– Призвать диванбеги и мирзабаши. – Эшиг-ага-баши, ловящий за дверью кабинета каждое громко произнесённое слово, отослал чухару за чиновниками. – Хасан-ходжа, завтра после утренней молитвы соберём диван, должны быть все, кто находится в Арке. Бекам, бездельничающим в Арке, немедленно отправиться в свои имения. Сегодня! Предупредить их, что это не ссылка, а необходимый для них отдых.
– Как вы дальновидны, великий хан! В Арке свободнее станет…
– Сегодня после вечерней молитвы они все должны собраться в пиршественном зале. Предупредить бакавулбаши, чтобы приготовил сытный ужин, но без излишеств – мастава, жареное мясо, кумыс, много овощей и фруктов, благо, осень на дворе. Сладостей и орехов всех видов. Приготовить отъезжающим подарки: по пять золотых и поясные платки – шёлковые. Лучше одинаковые или похожие, чтобы не разодрались между собой, что у кого-то лучше платок окажется. Пока это всё. Благодарю тебя, Хасан-ходжа, ты моя опора! – я был доволен, что дело сдвинулось, и все окружающие почувствуют, что хан жив, здоров и не собирается выпускать из своих рук бразды правления!
– Великий хан, не лучше ли приготовить халаты для подарков? – как некстати появились нотки неуверенности в его голосе!
Надо приободрить, чтобы ему лучше работалось.
– Хасан-ходжа, ты сам говорил, что в ханской казне ветер свищет, пусть радуются платкам. Но сопровождать подарок нужно такими льстивыми словами, чтобы беку этот платок золототканым чапаном показался. – Лесть это самое действенное оружие во все времена, до тех пор, пока она не касается меня и не вредит моим делам. Думаю, что лесть привлекательна для большинства людей, но надо размазывать её достаточно тонким слоем и не утомить окружающих.
– Вы сама мудрость, о великий хан! – опять накиб закусил удила… Ладно, главное, что он всё понял. Я встал и проводил накиба до двери. Для него это было лучше чапана, шитого золотом и украшенного драгоценными каменьями. Как мало надо некоторым людям для их полного удовлетворения!
Джани-Мухаммад-бий диванбеги и Науруз-бий мирзабаши стояли возле двери. Эшиг-ага-баши пригласил их войти. Джани-Мухаммад-бий диванбеги был невысокого роста, средней упитанности, глаза имел такие выпуклые, и мне зачастую казалось, что они готовы выпрыгнуть на свиток, отпечатавшись жирными кляксами в тексте. Видимо, среди его предков были арабы. Одевался он на редкость ярко и довольно безвкусно. Диванбеги использовал кучу золотых украшений и казался ходячей ювелирной лавкой. Его халаты всегда были вызывающих расцветок – оранжевых, сиреневых, красных, синих и таких, кои в природе не встречаются. Эти халаты были сплошь вышиты золотыми и серебряными нитями. Сегодня он явился в фиолетовом халате, щедро расшитым золотыми узорами бухарскими вышивальщиками.
Мирзабаши Науруз-бий был на порядок скромнее в одежде и украшении своей особы. Это был сухощавый, высокий мужчина, с безумно суетливыми руками. Я уверен, что они так же сновали по курпачам, когда мирзабаши спал. У него была огромная семья: от четырёх жён он имел многочисленное, весьма крикливое потомство, но никогда ничего у меня не просил. Это радовало, и я часто награждал его, не дожидаясь молящих взглядов или слёзных просьб. Поклоны чиновников, несмотря на занятые свитками руки, были вполне хороши.
Я обращаюсь к бекам по-разному. Когда на «вы», чаще на «ты». Это ничего не значит ни для меня, ни для них. Казнить я могу любого провинившегося, независимо от обращения.
– Уважаемый Джани-Мухаммад-бий! Вы управляете финансами нашей страны. Что вы можете сказать о положении наших дел на сегодняшний день: сколько у нас в казне денег, сколько в ханских складах зерна, сколько отар и табунов – доложите мне. Я жду от вас ответа полного и честного, без прикрас и славословий. – У Джани-Мухаммад-бия был грешок: довольно часто желаемое он выдавал за действительное, приукрашивал то, что приукрашивать нельзя. Поэтому я никогда не беседовал с ним наедине, обязательно в присутствии мирзабаши. Тот никогда ничего не забывал.
Память у Науруз-бия была такая, что он, наверное, помнил и первые мгновения после своего рождения, цвет подушки под головой и узор на своём бешике. Дастурханчи налил им по пиале свежего чая и опять скрылся за ковром. Джани-Мухаммад-бий разложил свои свитки на хонтахте и принялся подробно объяснять мне, отчего в стране нет изобилия и что надо сделать для его появления:
– Великий хан! Народы, живущие в вашей стране, пользуются вашими высокими милостями и послаблениями, платят основной налог – харадж – в размере пятидесяти процентов от получаемой прибыли. Кроме того, они платят ещё двадцать один налог: в пользу сборщиков налога, на пашню, на плодовые деревья. На тугаи, на воду, на скот, на пользование дорогами. На возможность торговать на базаре, на весы… – Он частил без умолка, размахивая в такт руками, без нужды поправлял свою великолепную чалму.
– Достаточно, я всё понял, вы всегда начинаете свой доклад одинаково. Но скажите мне, достопочтенный, после уплаты всех вышеперечисленных налогов, что остаётся у дехканина и можно ли прожить ему с семьёй на оставшиеся скудные средства? – я всегда задаю этот вопрос, и Джани-Мухаммад-бий отвечает, как всегда:
– Мрут, конечно, но это не оттого, что налоги велики, а оттого, что они ленивы и плохо работают, великий хан. – Хотел бы я посмотреть на него, волею судеб ставшего дехканином, – заплати двадцать два налога, а потом грызи кирпичи, выковыривая их из дувала! Попробовать напугать диванбеги?
– Скажите, Джани-Мухаммад-бий, если бы в вашем распоряжении оставался доход в размере пятидесяти процентов от того, что вы получаете от меня, на что жила бы ваша семья?
Джани-Мухаммад-бий испуганно посмотрел на меня. Он сразу представил, что платит налоги и всё, что пристаёт к его рукам, уже отстало и попало прямиком куда надо – в ханскую казну. Он съёжился, словно от удара, глаза его стали ещё больше, он забыл про чалму и пробормотал писклявым, сразу осевшим бабьим голосом:
– Как прикажете, великий хан, как прикажете! Я могу платить налоги. Полгода назад я передал вакфу принадлежавший мне караван-сарай со всеми постройками, дуканами и доходами.
– Это вакф. Доходы от него идут на богоугодные дела – на содержание мечетей, на мазары, ханака. Кроме этого, вы сами продолжаете управлять этим вакфом и брать себе двадцать процентов от его доходов. Я сейчас спрашиваю не про это. Я спрашиваю про дехкан и ремесленников – на что они живут? – не о том я думал с раннего утра, вспоминал сражения, героев, Абдулмумина, коней и прочие мелочи. Думать надо было о налогах и землях!
– На то, что получают от своей работы, на что же ещё! – в голос диванбеги постепенно возвращались мужские звуки.
– Но если такие высокие налоги и они мрут от голода, как мухи по осени, наши богатства не прибавятся, а убавятся в связи с тем, что работать скоро будет некому. Женщины перестанут рожать, в наших войсках не прибавятся воины. Этому дехканину будет всё равно, кто с него будет брать налог: я или Таваккул. Ограбленный мною дехканин никогда не захочет мне служить, не то что воевать за меня. – Эта мысль ржавым гвоздём давно засела у меня в голове, но я боялся высказывать её. Считалось, что все мои подданные счастливы и довольны до смерти моими мнимыми благодеяниями.
– Вы зрите в самый корень, но что делать? Недоимки по налогам растут, а эти лентяи ничего не хотят делать… – у диванбеги затряслись руки от злости на бездельников-дехкан.
– Хотят, но не могут. Я пятнадцать лет хан. Когда моего отца Искандер-султана носили на белом войлоке вокруг Арка, налоги были двадцать пять процентов, и их было не двадцать два, а всего двенадцать. Откуда же идёт такое увеличение? – это опять я виноват, не досмотрел! В диване принимали указы. Я их подписывал, думая о том, сколько я на эти деньги куплю оружия и обучу воинов.
– Войны, великий хан, войны и разорение богатого сословия.
– Мне всё понятно. Приказываю снизить налоги с этого года до двадцати пяти процентов, как было при моём благословенном отце Искандер-султане. Простить все недоимки за предыдущие годы. – Построже голос, не отступать, а надо будет – все земли переведу в суюргал с невозможностью для беков оставлять налоги себе.
Прощение недоимок оглушило Джани-Мухаммад-бия.
– Как? Великий хан, нас ждут неизбежное разорение и гибель, если снизить налоги. А если не востребовать недоимки, то государству придёт конец! Фукаро разжиреют от безделья и совсем перестанут работать, а мы исчезнем, как пыль под ногами табуна диких коней. – Всё. Сейчас глаза Джани-Мухаммад-бия точно окажутся на хонтахте. Чего же он вопит, словно на его шее затягивается тонкая шёлковая нить?
– Не исчезнем. Не нужно плакать о том, что ещё не свершилось. Мы имеем запасы золота. Мы пустим его на новые деньги. Но чеканить их будем и пускать в оборот мелкими частями, чтобы не подешевели. Сколько караванов сейчас в Бухаре? – торговля всегда давала нашему государству большую прибыль, и все правители Мавераннахра заботились о ней.
Джани-Мухаммад-бий замялся, вместо него ответил Науруз-бий:
– Всего восемь караванов, великий хан! От нас три на пути в Китай, два – в Индию, три – на Русь. На пути к нам ещё четыре каравана – два из Китая и два из земель османов. Грузы самые разные – от шерстяных ковров от нас, до пряностей, являющихся прибыльным товаром, из Индии… В каждом караване не менее двухсот верблюдов с соответствующей охраной от разбойников. – Науруз-бий отвечал по памяти, не заглядывая в свитки и другие бумаги.
– Каков налог с купеческих караванов?
– Как положено – два с половиной процента, никак не больше.
– Пусть будет два процента, и объявить это по всем базарам и мечетям. Больше станет караванов – больше будет доход, и мы возместим убытки увеличением оборота!
– Мысли хана велики и правдивы, вы всё правильно решили. – На два голоса пропели Науруз-бий и Джани-Мухаммад-бий.
– Джани-Мухаммад-бий, что вы там говорили о разорении богатого сословия? – Насколько я помню, диванбеги впервые использовал такой аргумент при еженедельном докладе. Массивная, покрытая рыжеватой бородкой челюсть Джани-Мухаммад-бия отвисла. – Скажите, кто из наших беков разорился, у кого из них стало меньше золота в сундуках и красивых наложниц в гаремах? И что они сделали для того, чтобы поправить своё положение, такое печальное, по вашим словам? Возможно, разорились ваши братья?
– Великий хан, слава Всевышнему, мои братья благополучны. Я предполагаю, что сокращение податей и налогов обязательно и безусловно приведут к их оскудению. Сейчас я точно не могу сказать, что кто-то уже разорился.
– Вы разве только что не сказали о том, что причиной увеличения налогов являются войны и оскудение богатого сословия! Про войны я и без вас знаю, я вас попросил разъяснить положение несчастных беков. – Джани-Мухаммад-бий сделал попытку бухнуться на колени, но запутался в фиолетовых полах халата, ноги его разъехались в разные стороны. Он вынужден был, вытянув руки, ухватиться за хонтахту, чтобы не представлять собой ещё более жалкое зрелище.
– Что с вами? Я задал простой вопрос, на него несложно ответить: кто разорился? Или вы не помните всех именитых беков нашего ханства? Или они уже исчезли, не успев услышать угрозы о сокращении налогов в их пользу? Или вы сами стоите на пороге разорения? – Задавать такие вопросы легко, вот ответить на них трудно – «выпущенная стрела назад не возвращается».
– Простите, великий хан, я оговорился, я как в тумане, голова болит, но сейчас я не могу назвать ни одного из ваших приближённых, кого бы постигло сие несчастье. – Я его накажу, в следующий раз будет думать, что говорить.
– Так не нужно необоснованно сотрясать воздух ложными предположениями. Вы не сплетница на базаре, вы учёный муж и государственный деятель. А для того чтобы в вашей голове произошло просветление, вы к вечернему пиру подготовите сто двадцать шёлковых поясных платков и принесёте в пиршественную залу после вечерней молитвы. И добавьте к ним шестьсот золотых. Да не смейте брать безвозмездно у купцов, они на караванных дорогах своей жизнью рискуют, чтобы доставить товары в целости и сохранности. – Вот теперь он наконец-то разобрался со своими ногами, исхитрился пасть на колени, всем своим видом говоря: «Пронеслась буря, но не сломала». Джани-Мухаммад-бий схватил мою руку и начал целовать:
– Великий хан, всё сделаю в точности и неукоснительно! Только прикажите, солнце на небосклоне мудрости, всё будет исполнено! Можно мне удалиться для выполнения вашего распоряжения? – терпеть не могу, когда мне целуют руку: каждый норовит её обслюнявить…
– Удаляйтесь и помните, что я сказал о купцах. Бумаги оставьте, я их просмотрю.
Надо что-то делать с Джани-Мухаммад-бием, сколько он ещё будет мне голову забивать своими глупыми словами и делами? Штрафы на него не действуют, он мог бы принести не шестьсот, а тысячу золотых и не поморщиться. В его руках монетный двор, и золото мимо него не проходит. Кого бы мне назначить начальником зарбхоны? Нет людей. Нет людей честных – как только оказываются вблизи золота, так голову теряют. Чеканщики в монетном дворе работают голыми, в одних передниках, прикрывающих срам. Напротив них стоят такие же голые надсмотрщики, а всё равно монет выходит меньше по весу, чем дано золота на их изготовление. Сговариваются они, что ли? И куда девают это золото – не иначе, как глотают, а потом роются в своём дерьме, отмывая его и богатея.
– Уважаемый Науруз-бий, не могли бы вы взять на себя заботу о монетном дворе? Сейчас, как никогда, нам нужен верный человек, который мог бы сделать так, чтобы золота не становилось меньше при чеканке монет, – спросил я, отвечая не по нашему разговору, а своим мыслям. И я очень надеялся, что мирзабаши согласится, но он отчего-то побледнел и вроде усох посеревшим лицом.
– Великий хан, лучше сразу прикажите казнить меня. Джани-Мухаммад-бий изведёт меня, если узнает о назначении на такое сладкое место, принадлежащее ему… А его братья меня просто убьют!
– Неужели вы боитесь его больше, чем меня? Так кто в благословенной Бухаре хан – я или он?! Или я не смогу вас защитить?! – Я разозлился так, что у меня сразу вспотела голова, в горле забулькал гнев, поднимающийся откуда-то из глубины живота. Если уж Науруз-бий страшится Джани-Мухаммад-бия, значит, его надо действительно убирать. Устранить тихо, но так, чтобы никто не заподозрил опалы, в том числе и сам Джани-Мухаммад-бий. – Хорошо, я не настаиваю. Не могли бы вы предложить достойного человека на это место, не слишком падкого на золото.
– Предложить можно, великий хан. Но вы должны приготовиться к тому, что на нового человека сразу посыпятся жалобы – чаще всего несправедливые и говорящие о том, что тот ворует. Сможете ли вы не верить им? Простите, а почему вы не назначаете на это место своего венецианца? У него родственников в Бухаре нет. – Науруз-бий хитро скосил глаза, показывая, что он говорит чистую правду и радуется, что я пока передумал назначать его на это рискованное, гиблое место.
– А теперь, уважаемый Науруз-бий, подготовьте указы и пусть их сегодня же самые голосистые жарчи прочитают на базарах. В мечетях самые сладкоголосые азанчи должны постараться в силу своих лёгких. Не всё им красавиц с минаретов разглядывать. Позаботьтесь переслать указы хакимам всех крупных городов Мавераннахра. Да вы сами знаете, что надо делать. А насчёт начальника монетного двора я подумаю. – Перед мысленным взором возник образ щуплого, низкорослого Алонзо Альбертини. Венецианец почти пятнадцать лет работает в зарбхоне, в воровстве пока уличён не был.
После ухода Науруз-бия я окликнул Зульфикара, который бесшумно вышел из своего укрытия. Мы решили пройти через пиршественную залу: чаще всего я не обращаю внимания на такие пустяки, но сегодня здесь будет решаться важное дело. В просторном помещении шла подготовка. Вокруг низких столов были разбросаны подушки – атласные, шёлковые, бархатные. От их ярких, праздничных расцветок рябило в глазах.
Большие серебряные блюда, где горками лежали узорно нарезанные дыни вперемежку с крутобокими персиками и красными яблоками, окаймлённые сизым виноградом, вольготно разместились в центре столов. Вокруг на плоских ляганах лежали самсы замысловатых форм. Треугольные, круглые, квадратные, покрытые аппетитной блестящей оранжевой корочкой. Я понял, что здоровье моё постепенно возвращается, поскольку от дурманящего запаха во рту непроизвольно появилась слюна. Моя рука потянулась к ближайшей самсе. Мгновенно рядом оказалась рука Зульфикара:
– Великий хан голоден? – я послушно отдёрнул руку.
Я всегда ем пищу лишь после того, как её попробовал специальный человек. Много их сменилось. А эти самсы, хоть и аппетитные на вид, могут мне навредить. Взгляд в сторону Зульфикара. Странно, что он не улыбался, его лицо было каменным. Я знаю, он боится за меня, но больше всего за себя боюсь я сам.
– Нет, мой кукельдаш, я не голоден. Но мне показалось, что дастурханчи не совсем аккуратно разложили эти самсы. Не слишком рано самсу выставляют на дастарханы?
Подлетевший на цыпочках дастурханчи замотал головой и резво начал перекладывать все самсы в блюдах. Он кланялся и приговаривал что-то слышное только ему. Зульфикар усмехнулся, поймав меня на крохотной даже не лжи – на незаметной никому уловке.
Сушёные финики и очищенные орехи – грецкие, миндальные, земляные, фисташковые, горками лежали в маленьких разноцветных стеклянных корзиночках.
Небольшие тёмно-синие пиалы наполнены белой сузьмой. Это было приятное для глаз сочетание. Фаянсовые кувшины с моим любимым кумысом. И никакого вина. Что делать, пришёл ко мне в гости, пей то, чем я угощаю .
В тонкогорлых вазах для украшения стола и услады взора теснились великолепные розы, скромно отсвечивали лилии тонкими, длинными лепестками своих чашечек. Благородно сверкали разноцветные астры, соседствуя с зелёным обрамлением узких листьев отцветших ещё весной ирисов. Дастурханчи и их помощники неустанно сновали вокруг, словно исполняли замысловатый, известный только им волшебный танец, восхищающий глаз и радующий сердце. Немного в стороне, на возвышении был дастархан для меня и главных чиновников государства, позади него висел ковёр. За ним место для Зульфикара – он никогда не сидит за столом с благородными, но смотрит, что мне наливают в пиалу и кладут на блюдо.
Я решил, что всё так, как надо. Люди, занимавшиеся подготовкой, прекрасно знали своё дело. Надо будет вечером похвалить их, чтобы в следующий раз они всё сделали ещё лучше. А к похвалам прибавить несколько монет. Да, не забыть про музыкантов и поэтов – они должны радовать слух пирующих. Но это сделают и без меня, когда на пиру присутствует хан, очередь из поэтов и музыкантов выстраивается до Плеяд.
После отъезда Нахли в Герат я почувствовал, что привык к нему. Но ничего не поделаешь, тем более что Кулбаба сердечно поблагодарил меня, что я разрешил его другу посетить Герат. Из пиршественной залы я отправился в библиотеку. Она находилась здесь же в Арке, но на другом его конце, в обширном здании. Мне хотелось ещё раз посмотреть на печатные книги, привезённые Али из своих странствий по миру.
Наши каллиграфы чрезвычайно гордятся своим искусством рукописной книги. Но я считаю, что это искусство было хорошо, когда люди не знали печатного станка. До того, пока славный Иоганн Гуттенберг ещё не придумал изумительной машины, делающей книгу понятной, а самое главное – дешёвой. Переписчики книг при своей работе делают множество ошибок, иногда что-то добавляют от себя, не думая о том, что их об этом никто не просит. А почерк? Зачастую не разобрать, что за букву изобразил переписчик, какие мысли в этот момент бродили в его глупой голове. Печатные же книги проверяются и сличаются грамотными людьми, не допускающими ошибок. По одному штампу с наборным шрифтом можно сделать столько копий необходимой книги, сколько понадобится.
Печатная книга может восполнить нехватку учебников в медресе. Можно и нужно отпечатать Коран – величайшую и ценнейшую книгу мусульман. Все рукописи, хранящиеся в единственном экземпляре, следует отпечатать и распространить по нашему обширному государству. Самая лучшая бумага в мире, которой не гнушаются пользоваться другие народы, производится в Самарканде! Тогда в мактабах дети будут учиться не шесть лет, а всего два года. В медресе не будут торчать тридцатилетние студенты. Эти балбесы двадцать лет протирают штаны и халаты за заучиванием наизусть книги, потому что её нельзя забрать домой и почитать на досуге.
Али с Ульмасом проучились в истанбульском медресе Фатхи два года и прошли полный курс обучения архитектора. Они рассказывали, что все заработанные деньги тратили на книги и чертежи.
Разглядывая книги, привезенные Али, я вспоминал, что китайцы давным-давно, ещё до европейцев, придумали печать. Именно они печатают не только книги, но и картинки к ним. Наши же переписчики вставляют в свои книги миниатюры, нарисованные художниками. Господи, Твоя воля, как же отличаются плоские рисунки и миниатюры наших художников от полных объёма и жизни картин западных умельцев! Я не завидую им, я просто хочу, чтобы у нас было не хуже, а лучше. Но для того, чтобы было лучше, не нужно надуваться спесью и говорить, что гяурские штучки нам ни к чему. И всё, что есть у нас, – это дань предкам, и не более. Не нужно без конца твердить о том, что было хорошо для них когда-то – хорошо для нас и сейчас.
Пользуются же на Западе нашими кольчугами, которые с незапамятных времён изготавливают в Хорезме. Едят сахар, производимый только в Индии, пьют кофе из Аравии, носят шёлк из Китая, ходят по нашим хорасанским коврам. Почему бы и нам не позаимствовать то, что полезно и необходимо государству? Не могу убедить в этом не только придворных, но и высших чиновников – машут руками, закрывают свои хитрые морды рукавами халатов, как девицы на смотринах свахи. Нет, чтобы своей головой подумать, какая выгода от этого нововведения будет государству и польза просвещению.
А муфтии и муллы туда же – конечно, если все начнут читать и пи сать, как же они будут народу голову дурить?
Вот и делаем всё по старинке, как при прадедах. Придёт время, опомнятся люди, да поздно будет. Наша вековая отсталость станет причиной того, что завоюет нас какое-нибудь сильное, большое и более развитое по сравнению с нами государство, и будем мы в рабах ходить… Сетовать, рвать на себе волосы, пенять на обстоятельства и на плохое управление. Но не хотят они думать о том, что станет со страной после их смерти. Они думают только о том, что с ними самими станется. О детях иногда думают, но недолго и не слишком часто.
Китобдар Джалил любил книги больше детей и жены, и я подозреваю, сильнее, чем меня. Он часами мог рассказывать, где и когда приобрёл ту или иную книгу. Сколько времени выторговывал каждый медный фельс, запрошенный за книгу, сколько времени переписывалась редкая книга, сколько золота и дорогой киновари ушло на изготовление чернил, сколько художников рисовали миниатюры. Мне всегда нравились люди, которые болеют за своё дело, поэтому Джалила я любил. А ещё я очень любил и люблю книги. Единственного человека из своего окружения я называю уважительно – Джалил-ака. Не потому, что он седобородый и старше меня, а потому, что этот человек во всём поддерживает меня и мечтает о печатном станке больше, чем я. Мечтает так, как мечтает молодой джигит о любимой невесте – страстно и неустанно, денно и нощно, со всем пылом юности.
Что я могу ему сообщить? Да пока ничего. Книги наши надо печатать арабским шрифтом. Это отдельная история, и никто в подлунном мире делать этого не хочет. Слишком много разорения видели от мусульман закатные страны, и для них наше дальнейшее возвышение – кость в горле и кинжал в сердце. Переговоры об изготовлении шрифта зашли в тупик. Мы пробовали сами сделать такой станок, но ничего не получилось – буквы, сделанные из меди, размазывали краску на бумаге и производили мутный, размытый оттиск. Это привело в неописуемый восторг шейх-уль-ислама Тадж ад-Дина, твердившего, что Аллах не потерпит кощунства и не допустит печатной книги:
– Все, у кого есть глаза, видят, что эти гнусные опыты не годятся для изысканных арабских букв! Все, у кого есть вера в Аллаха, всемилостивого и милосердного убедились, что нам не нужны те вещи, которыми пользуются гяуры.
Счастью его не было предела: он ещё долго ходил по Бухаре и рассказывал всем, что опыты с печатной книгой с благословения Аллаха провалились. Что самое ужасное – люди ему верили. И если раньше все окружающие книголюбы поддерживали меня делами, то теперь если и поддерживают, то только словами, которые ничего не стоят.
Несколько лет назад мне удалось с помощью золота и обещаний всяческих земных благ, которые они получат, уговорить двух османских купцов вызнать секреты печатного мастерства, но купцы не вернулись. Я думаю, что их тела давно склевали вороны. Возможно, они втихомолку смеются над незадачливым и до глупости щедрым ханом всех узбеков. При входе в библиотеку я поклонился поясным поклоном Джалил-аке, спросил о его здоровье, здоровье семьи, детей, внуков, племянников и племянниц. Я бы спросил и о здоровье его кошки, если бы таковая у него имелась. Но Джалил-ака не любил кошек, говорил, что они могут испортить книгу, а для него это хуже смерти.
– Какие у нас новости, многоуважаемый Джалил-ака? Есть ли новые приобретения? Если есть, то откуда прибыли и сколько они нам стоили? – Я постарался, чтобы моя довольная улыбка не высветилась на лице. Я знал в подробностях о последнем приобретении Джалила-аки, но хотел, чтобы он сам рассказал об этом знаменательном для него событии.
– Есть, великий хан, как не быть, – кланяясь и прижимая руки к груди, ответил знаменитый на всю Бухару китобдар. – Есть книга, которая вам может понравиться. Давно ходили слухи о том, что после Захириддина Бабура, мир праху его, остались собственноручные его записи о жизни и деятельности. Много раз я пытался заполучить их, но ничего не получалось. Я заказывал всем купцам, следующим в Хиндустан, и вот, наконец, на прошлой неделе караван, прибывший оттуда, привёз эту драгоценную вещь. Я сам ещё не читал, только полюбовался переплётом и миниатюрами. Я оставил книгу для вашего драгоценного внимания. Стоила она тридцать полных золотых таньга. Я считаю, что это не очень дорого.
Я взял книгу в руки. Слегка коснулся пальцами переплёта из сафьяна оранжево-красного цвета, с оттиснутыми золотом буквами «Вакиат-и Бабури». «Записки Бабура»! На первой странице – портрет самого Бабура. Красивый был мужчина, жён у него было много и детей. Наследники его прославили! Конечно, можно было бы попросить эту книгу у падишаха Акбара, но зачем лишний раз просить и быть ему чем-то обязанным, когда можно обойтись без этого.
– Джалил-ака, ходят слухи, что дочь великого султана Бабура, Гульбадан-бегим, тоже пишет книги? – Меня очень радовало то, что женщина может не только читать, но и писать привлекательные для окружающих сочинения. Наши женщины получают ограниченное образование. Оно сводится к умению вести домашнее хозяйство или к способностям заниматься искусной вышивкой.
– Да, великий хан, она написала книгу о своём брате, назвав «Хумаюн-наме». Я её ищу и думаю, что с помощью Всевышнего она скоро окажется в вашей библиотеке.
– Уважаемый Джалил-ака, доставьте мне книгу в опочивальню и пришлите чтеца. Сегодня вечером я хочу узнать, что писал наш предок о своей жизни.
– Великий хан, дозвольте мне самому почитать вам книгу, для меня это будет большая честь. – Я понял, что китобдару не терпится засунуть свой нос в эту драгоценную книгу. Конечно, для него это действительно безмерная честь. Я посмотрел на Зульфикара, который незаметно кивнул. Сегодня нас ждёт пир после пира – на этот раз пир духовный, более прекрасный, чем пир телесный.
Время дневной молитвы прошло, когда мы отправились к Ахмад-Касыму, оружейнику. От него и работы его подмастерьев зависит обеспечение нукеров оружием. Не таким, каким хвастают беки на пирах: с золотыми ножнами, эфесами, покрытыми драгоценными камнями. Обыкновенными саблями, мечами, луками, копьями, пиками, секирами, кинжалами и зульфикарами. Кроме того, надо позаботиться и об огнестрельном оружии, порохе, пулях, пушках, ядрах. Проверить лишний раз никогда не мешает.
Я довольно хорошо разбираюсь в оружии. Знаю разные способы закалки лезвия, но никогда не пробовал делать это сам – мои учителя и воспитатели считали, что даже находиться рядом с кузницей для ханзаде неприлично. Не говоря уже о том, чтобы самому взяться за меха или молот, подойти к наковальне и со щипцами в руках помогать оружейнику. В бою оружие лишним не бывает, струсит молодой воин, уронит в беспамятстве саблю на землю, потом ищи-свищи, куда он её от смертного ужаса забросил. И не всякий воин может правильно заточить лезвие, этому тоже надо учить молодых и неопытных джигитов. Оружейный двор находится на окраине Бухары за крепкими стенами под охраной нукеров.
Я стоял в раздумье – приказать взять коней на конюшне или пойти пешком. Попутно пройти по базару, послушать, прочитали ли фирман о налогах и что бухарцы говорят об этом. Пока я, опустив глаза, пересчитывал кирпичи, замостившие двор Арка, Зульфикар отдал необходимые распоряжения. Невдалеке стояли двое юношей, одетых скромно и незаметно – серые чекмени, поверх на поясах сабли в простых ножнах, синие тюбетейки, руки их вольно свисали вдоль тел. Узнать их было несложно, это воины отборной тайной сотни, моей личной охраны. Мой брат лично учил их всем премудростям воинского искусства и секретным приёмам выслеживания врагов. Набирал кукельдаш их из самых низов. Брошенных родственниками сирот, детей одиноких вдов. Подбирал даже из воришек или молодых, но не совсем озверевших разбойников.
Я никогда не мог понять, почему Зульфикар одних берёт в сотню сразу, а других долго проверяет, а потом отправляет к воинам-конникам или к эшиг-ага-баши, чтобы они стали чухара. Он как-то объяснил: «Я его не вижу», что меня удивило, но спорить я не стал. Стоящих поодаль молодых людей трудно было выделить из окружающей нас толпы, туда-сюда снующей по двору Арка. И я никогда не слышал их голосов. Зульфикар же объяснил: воин, без дела сотрясающий воздух своими речами, – уже не воин. В руках одного из них были такой же неприметный чекмень и сабля, другой продолжал спокойно, но внимательно смотреть по сторонам, не зыркая усиленно, а просто разглядывая всё, что попадало ему на глаза.
Если мы пойдём скорым шагом, то успеем не только в оружейный двор, но и на пир вовремя придём. Я не беспокоился о том, что бекам придётся долго ждать меня, но это вызовет ненужные разговоры, а мне не хотелось, чтобы кто-то раньше времени заподозрил, что я без сопро вождения огромной свиты гуляю по базару как простой ремесленник.
Бухарский базар был моей гордостью – это был первый крытый рынок, построенный в Мавераннахре. Он был похож на множество тюбетеек, поставленных в несколько рядов, очень удобный, тёплый зимой и прохладный летом. А это всё Али – увидел такие сооружения у осман и предложил построить. На базаре в любой день, даже вечером и ранним утром было не протолкнуться. Народ валил на базар валом, не только для того, чтобы что-то купить. На базаре можно встретить знакомых, узнать новости, посплетничать, а то и в баню сходить. Несмотря на послеполуденное время, базар бурлил от несметного числа людей – все обсуждали фирман. Я не боялся, что меня кто-то узнает, в такой толчее легко затеряться, да и мало ли стариков в серых чекменях бродят в поисках новостей.
Вот трое купцов, каждый на пороге своей лавки, переговариваются через дорогу:
– Уважаемый Юсуф-ака, что вы думаете об указе нашего благословенного хана? – говоривший был явно не бедный человек, одет в добротный халат и подпоясан новым цветастым шёлковым платком. Лицо его было круглым и красным, редкая бородка едва закрывала пунцовые щёки, и оставляла открытыми мягкие, неряшливо шлёпающие губы.
– Что думаю, милейший Карим-джан? Думаю, что если чиновники выполнят всё, что написано в указе, то я наконец-то смогу женить своего младшего сына и взять хорошее приданое. Но они-то нашему хану, да благословит его Аллах, глаза опять замажут своими россказнями о том, что ремесленники налоги не платят и мор напал на всех купцов. Тогда всё останется по-старому. – Пожилой купец угрюмо разводил руками, стараясь не упустить взглядом проходивших мимо людей. А вдруг кто-то зайдёт в лавку и начнёт прицениваться к его товару – недорогим пёстрым тканям. Жизнь оставила на нём явные отпечатки своего присутствия в виде глубоких морщин, прорезающих старое лицо в разных направлениях.
– Нет, не будет этого, – возразил третий участник разговора, одетый беднее, но выглядевший моложе. Несмотря на молодость, более недоверчивый. – Всё это враки, не верю я этому указу! Вот уви дите, завтра другой выйдет, который отменит сегодняшний, и плакала ваша свадьба, дорогой Юсуф-ака.
Купец Юсуф при этих словах невольно втянул голову в плечи и постарался сделать вид, что он в опасном разговоре не участвует, никакого отношения к нему не имеет. И его интересуют одни покупатели и люди, проходящие туда-сюда мимо его лавки. Торговец Карим тоже постарался сделать вид, что занят покупателем. Упитанный мужчина в справном халате по неосторожности остановился около его дукана. Купец вцепился в рукав прохожего, словно готов был оторвать:
– Милейший, вы только посмотрите, какие великолепные ткани для вашей любимой жены! Я продаю их почти даром, ничего не оставляя себе! Только из уважения к вам и вашему присутствию на базаре я вам отдам их по два фельса за одно кари! Если у вас нет жены, то это подойдёт для вашей дочери… – Он так быстро и громко говорил, что растерявшийся прохожий сделал шаг в сторону лавки.
Всё, бухарец оттуда не вырвется до тех пор, пока чего-нибудь не купит!
На выходе из крытого рынка, невдалеке от дверей, запирающихся на ночь, сидели на корточках несколько дехкан. Видимо, приехали из соседнего с Бухарой кишлака продать свой немудрящий товар. К этому времени в бухарских садах созревают хурма и поздние сорта яблок. Халаты на дехканах потёртые, в дырах, ветхие, вместо поясных платков – верёвки. Босые ноги в дорожной пыли и грязи, пятки такие, как будто они год своих ног не мыли. Разговаривают настолько тихо, что непонятно, слышат ли сами себя? Приостановившись и делая вид, что разглядываю знакомых в толпе, кое-что я всё-таки разобрал:
– Братья, неспроста всё это. Вот увидите, будет опять война, опять будут собирать двойной налог и опять по нашим спинам пойдут гулять плети сборщиков недоимок. Это хорошо, если нашего хана не победят, а то ворвутся в город и в наш кишлак кочевники – и прощай жизнь. Я уже не говорю про честь жены и дочерей. Не верю я хану, ничего он о нашей жизни не знает. Знал бы – давно сделал налог меньше. – Дехканин огляделся, примолк.
– Ты прав, Юсуф, прав, как всегда, – мотнул сивой бородой худой бедняк, сидящий рядом.
– Мне урожая даже до зимы не хватает, я уже не говорю про вес ну. У меня два взрослых сына, и я не могу их женить. Внуков в доме нет, откуда народ прибавится? Была дочка… Какой-то бек увёз, ни про калым, ни про свадебный той разговора не было. Не знаю, жива или давно на том свете. И кочевники для её унижения не понадобились. – Дехканин вытер глаза рукой. Ладонь его, землистая и заскорузлая, с обломанными ногтями, мозолистая от тяжёлой работы, привыкшая к чёрному труду, размазала скупые слёзы.
Сидевшие рядом дехкане кивали. Их лица были почти равнодушны, но где-то в глубине их глаз, то ли теплилась надежда на лучшую долю, то ли им уже было настолько всё равно, что будет дальше. Мне стало страшно от этого всепоглощающего безразличия. Я поднял глаза на Зульфикара. В подобных случаях я стараюсь ни во что не вмешиваться – всех не накормишь, всем не подашь на жизнь, всех не облагодетельствуешь. Люди сами должны выбираться из тяжёлых обстоятельств. Подашь одному, а десяток людей, стоящих рядом, могут быть в худшем положении. У кого-то ребёнок умирает от недоедания, у другого лошадь пала от бескормицы, у третьего сын погиб на войне. Перечислять всех сил не хватит.
Мужские слёзы я тоже видел, ими меня не удивить. Но эти слёзы были не напоказ, они что-то сделали со мной, а что – я не понял. В груди что-то шевельнулось. Неужели жалость к этому оборванному, битому жизнью и судьбой скуластому, тощему дехканину? Он негромко вздыхал, как бы про себя, понуро шмыгал носом и продолжал бессмысленно кивать. Толпы людей обходили эту оборванную кучку кормильцев, стараясь не задеть их полами нарядных или просто чистых халатов. Кто-то смеялся, кто-то не замечал их, как мы не замечаем пыль под ногами. И от этой бесчувственности окружающих мне стало ещё хуже. Моя совесть, так некстати проснувшаяся сегодня утром и терзавшая меня на протяжении всего дня, резко пнула ногой в душу.
Зульфикар уже стоял возле своих воинов. Они молча слушали своего наиба, и ни один мускул на их лицах не дрогнул. И вот он уже рядом со мной.
– Ахмад-Касым ждать будет, а вот солнце мне не остановить. Стемнеет, и мы с тобой ничего не увидим, а смотреть при свете горна на оружие не годиться. – Как всегда, ни одного лишнего слова, лишь самое необходимое. Но я всё-таки вопросительно посмотрел на него.
– За дехканина не беспокойся, от богатства не умрёт, а сыновей женит. Если умным будет. И дочку найдём.
Совесть свернулась в мягкий клубок и задремала. Улицы Бухары узки и грязны. То тут, то там отбросы, непотребный мусор, колдобины и вездесущая пыль, несмотря на дождливую осень. Когда передвигаешься верхом, то всего этого не замечаешь, а когда ходишь пешком, как все, то поневоле смотришь под ноги, чтобы не угодить в кучу дерьма или некстати разлившуюся лужу чего-то донельзя вонючего.
– Зульфикар, а почему в нашей благословенной Бухаре так грязно, улицы неприбраны, дороги, если это можно так назвать, в рытвинах и колдобинах, – вытаскивая ноги из очередной ямины, спросил я.
– А ты это только заметил, великий хан? Улицы такие, какие были вчера, и луну назад, и даже такие, как в прошлом году. Для того чтобы сделать улицы гладкими и чистыми, нужен или новый налог, или новая повинность – дорожная. Хакиму города не до красоты, ему бы с каракчи справиться да себя не забыть.
– Но неужели нельзя хотя бы перед своими воротами подмести и засыпать колдобину? Или самому хозяину не противно, когда перед калиткой куча навоза лежит и смердит ему в нос? Что, у них и во дворе такая же грязь? – Я возмущался не потому, что впервые это всё увидел, а потому, что по этим улицам к базару от караван-сарая ходят купцы и погонщики, которые непременно разнесут всё это по караванным дорогам и приукрасят стократно. Сказал же Энтони Дженкинсон, английский купец, что Бухара похожа на кучу земли. Хорошо, хоть не дерьма!
– Это ты славно придумал, великий хан. Пусть по утрам все подметают улицу от своих ворот до ворот соседа. Было такое раньше, но потом забылось, а люди привыкли и к навозу, и к нечистотам. А около чьих ворот будет мусор – один медный фельс штрафа, глядишь, чисто будет и казне прибыток. Правда, это дорого, но чем строже наказание, тем тщательнее выполняется предписание. Про дворы ты зря напраслину возводишь, во дворах у всех чисто.
– Не может быть! Давай заглянем к кому-нибудь?
Но Зульфикар лишь покачал головой и продолжил:
– Люди боятся показать свой достаток, потому что тут же выскочит какой-то сборщик налогов и начнёт считать. Вот тогда ремесленнику край придёт. А следить за всем должен аксакал махалли. – Зульфикар довольно заулыбался, наверное, ему тоже до смерти надоела эта грязь. – Мухтасиб без дела сидит, пусть соберёт всех аксакалов Бухары и занимается делом, а то жиром заплыл…
– Вот-вот, нравственные каноны государства и чистота в городе это как раз для него. Не знаю, заплыл он жиром или нет, а то, что разленился, это точно. В диване только свою крашеную бороду руками гладит да глаза к потолку закатывает. Надо спросить у него, сколько человек ему помогают по утрам умываться. – Удивительно, что во мне проснулось любопытство. Этому я был несказанно рад, больше луны я ни на что не обращал внимания.
– А это зачем, великий хан? Я и так знаю, спроси меня.
– Откуда? Ты что, с ним по утрам омовение совершаешь?
– Должен знать. У нас в Арке только десяток человек наберётся, из тех, кто сам умывается. Все остальные целую китайскую церемонию выдумали: и для полотенца у них отдельный таштдар, и для мыла. Весь остальной день эти таштдары бездельничают, зубоскалят, на кухне жрут в три горла, а потом храпят между молитвами. Правда, когда чиновники куда-то выходят, они свиту его изображают, а в остальное время восхваляют его изумительные достоинства. Кстати, один из этого десятка – ты. – Зульфикар опять заулыбался. Морщинки на его лице стали мягче, каштаново-седая бородка весело топорщилась в такт словам, глаза заблестели каким-то мыслям.
Почему я раньше на всё это не обращал внимания? Не знал или не хотел знать, что приближённые стали похожи на разжиревших котов, которые, кроме сливок и свежей печёнки, ничего не едят? Почему они не берут пример с меня или с Зульфикара? Нет, стараются друг друга перещеголять. С самого утра я только об этом и думаю.
Ахмад-Касым курбаши встретил нас возле ворот, поклонился в пояс, засуетился, повёл внутрь мастерской. Таких крупных людей среди узбеков редко встретишь. Видимо, в его роду есть кто-то из местных племён. Он выше Зульфикара на целую голову, а тот выше меня на столько же. Плотный, руки такие большие, что может сломать ими подкову. Говорят, что он может поднять лошадь, но наверняка врут!
– Великий хан! Солнце и Луна Бухары, да будут благословенны все ваши деяния во веки веков! – При этом Ахмад-Касым попытался смыть и оттереть копоть с ладоней, но только размазал её по полотенцу. Рассердившись на неподатливую грязь, бросил полотенце на плечо шагирду.
– Уважаемый Ахмад-Касым, оставим эти глупости придворным, от вас я хочу слышать только разумные слова о работе Оружейного двора! Вы так много работаете, что отягощать вас ещё и восхвалением моей особы было бы крайне неразумно! – Я знал, что Ахмад-Касым терпеть не может всех придворных церемоний, но вынужден придерживаться их, поскольку считает, что мне они нравятся.
– Великий хан! Спешу доложить вам, что у меня много того, чего я не могу решить сам: мне не хватает помощников. Не на всех я могу положиться, у меня мало мастеров и подмастерьев, даже простых учеников. Они со временем могли бы сменить нас в Оружейном дворе. Для выполнения заказа великого хана, сделанного две луны назад, требуются ещё два мастера-оружейника. Им надо платить по десять серебряных полновесных таньга в течение одной луны. К ним пять подмастерьев, ценой по пять полновесных серебряных таньга в луну. И ещё десяток учеников по десять медных фельсов за такое же время, – уныло перечислял Ахмад-Касым.
– Жаль, нет с нами Ульмаса-устода, он бы подсчитал необходимые траты…
– Великий хан, мы, в отличие от других мастеров, платим и шагирдам и хальфам. Место для работы есть – нет людей. В своих мастерских ремесленники зарабатывают не больше, но они независимы, работают, когда есть заказы или когда хотят. А у нас работа с утренней молитвы до вечерней, с отдыхом в день аль-джума. Поэтому обученные, знающие мастера к нам не рвутся. Приходится набирать неопытных людей, не знающих ремесла, и обучать их самим. На это уходит время, а его нам не хватает. – Мастер горестно покачал головой. – Мы кормим людей из казны, это для них определённая выгода, но средства, выделяемые на питание скудны, еда не обильная, а работа тяжёлая.
– Я понял, Ахмад-Касым, надо объявить на базарах о вашей нужде, пусть приходят необученные или пока малознающие. Поначалу их заработок будет на два-три таньга меньше, но потом вы можете повысить им оплату. Они будут стараться лучше работать, чтобы побольше получать, а вам будет из кого выбирать. Насчёт еды я понял и сделаю распоряжение. Работники должны хорошо кушать, а иначе работы от них не жди. – Я вспомнил о предстоящем пире и подумал, что после всех пиров еду не нужно делить между поварами и выбрасывать оставшееся собакам, а отправлять в эту мастерскую. Это к той пище, которая у них уже есть. – Завтра утром вы получите еду из ханского дворца.
– Великий хан, ваша милость безмерна, да продлит Аллах ваши дни на Земле! Не знаю, как мне вас благодарить, только хорошей работой. Да буду я жертвой вместо вас! – Мастер радостно потирал руки, предчувствуя разрешение всех его забот и горестей, связанных с заказом. – Но нам требуется много железа, каменного угля, меди, свинца. Караван с необходимым сырьём уже двигается в сторону Бухары. Не знаю, когда прибудет. Двигается он со стороны Ташкента и я боюсь, как бы разбойники не ограбили караван. Защита у него небольшая, всего десять нукеров, больше не мог отправить. Здесь охрана тоже нужна.
– Не беспокойтесь, уважаемый Ахмад-Касым, бош-курбаши за всем проследит, да и я не забуду посматривать в сторону Оружейного двора. На дорогах Мавераннахра уже спокойно, за груз не переживайте. И окажите любезность, приходите сегодня после вечерней молитвы на пир. Правда, собираются одни бездельники. Им полезно посмотреть на работающего человека. – Мне самому эта мысль так понравилась, что я уже представил себе лица беков, вытянутые от недовольства, что сидят рядом с оружейником, пусть знаменитым, но работающем руками.
– Благодарю вас, великий хан, за столь лестное для меня приглашение, я сейчас же начну собираться. И пусть ваша дорога всегда будет усыпана розами без шипов! – Он поклонился мне, на мгновение его лицо оказалось на уровне моего, и такое благодушие было на нём написано, что моя совесть тут же заулыбалась.
Я взял его чёрные, покрытые мозолями и ссадинами руки в свои и пожал. Пожал от души, от всего сердца.
Обратная дорога до Арка заняла совсем немного времени: около Оружейного двора стояли наши кони. Когда только Зульфикар успел распорядиться, не знаю. Эшиг-ага-баши стоял перед воротами Арка в окружении десятка нукеров, что-то очень громко втолковывал им, размахивая камчой. Семихвостка резко и часто опускалась на чьи-то спины. Старший привратник орал! Аллах всемилостивый, как же он вопил! Думаю, что его визг было слышно в Самарканде, а уж во всех закоулках Арка обязательно. Разобрать слова было несложно: в основном он сравнивал нукеров с помесью ослов и вонючей гниющей падалью, с выкидышем распутницы, с ощипанными павлинами, из гузки которых торчали шакальи хвосты. Кажется, он ничего вокруг не видел, хотя глаза его сверкали как хорошо отшлифованные алмазы и метали молнии. При виде нас с Зульфикаром он на мгновение поперхнулся очередной долей ругани, но тут же упал на колени, продолжая вопить:
– Великий хан, надежда государства, счастье моё! Вы живы и здоровы! Я обнаружил, что вас нет в Арке, и подумал, что враги добрались до вас и выкрали со злыми намерениями. Горе мне, горе! Я не смог вас защитить, не смог пожертвовать собой ради вашего благополучия… – его стенания стали действовать на мой неокрепший после болезни организм. Последние фразы он проорал ничуть не тише, чем все предыдущие слова. Но было видно, что он успокоился и теперь прикидывает, какое наказание он может понести за то, что не углядел вовремя, куда же запропастился хан по дороге из библиотеки в свои покои?
Наказание я ему уже придумал.
– Эшиг-ага-баши Селим! В половине фарсага от Бухары есть кишлак Каныш, там живёт дехканин по имени Юсуф-праведник. У него в прошлом году какой-то бек из Бухары самовольно, без никоха, а также благословения муллы и родителей, без калыма увёз пятнадцатилетнюю дочь. Найти, допросить, если она ему жена по шариату – оставить в его доме, но заставить заплатить калым. – Я призадумался. – Пятьдесят полновесных серебряных таньга. Если не жена, то кастрировать развратника. И отправить в подарок султану Таваккулу евнухом. – Пусть эшиг-ага-баши побегает. – Доложите через два дня.
Селим грузно поднялся с коленей, и, что удивительно, без моего позволения. В глазах засверкало неподдельное рвение. «Миновала беда», – думал он, а я был уверен, что он землю носом будет рыть ради того, чтобы найти потерявшуюся дочку безвестного дехканина. Я уверен, что найдёт, и не через два дня, а уже сегодня. Дело простое, Бухара не такой уж большой город, а богачей в нём не так много, как некоторые думают. Наверняка кто-то знает, у кого в гареме или во дворе появилась новая девушка. Он уже отдавал распоряжения нукерам: искать девушек это не высматривать пропавшего хана, это намного проще. Зульфикар скрыто улыбался в бороду: теперь благополучие Юсуфа-праведника не его забота, а головная боль эшиг-ага-баши.
Я чувствовал усталость, но усталость приятную, отличающуюся от утренней немочи, как лилия не похожа на полевой невзрачный цветок. На сегодня осталось только два дела: если вечерний пир, кроме утомления, ничего не обещал, то второе занятие – чтение новой книги – приводило меня в состояние умиротворения и благодушия. Надо в хаммам, потом надеть чистую одежду, да идти слушать хвастовство и славословия беков. Уже давно мои уши от них устали. Следует вспомнить, кто из беков живёт в приграничных областях, самому одарить их. При этом придётся придумывать такие перлы, услышав которые они должны немедленно вскочить в сёдла и отправляться в свои имения. Посоветовать им обнести свои поместья какой ни на есть стеной, за которой могли бы спрятаться не только нукеры, но и дехкане с семьями.
Главное для меня – это люди. Объяснить, что подаренные золотые даются им не на пиры и новых наложниц, а на строительство оборонительных стен. На пять золотых можно стену соорудить не только из сырцового кирпича. Можно высокой стеной из жжёного кирпича обнести имение площадью в два танаба. Этого вполне достаточно, потому как в округе крупнее поместий нет. Так, советуясь с самим собой, я дошёл извилистыми коридорами, покрытыми коврами и паласами, до пиршественного зала. Народу собралось, на первый взгляд, больше ста человек, не все из них должны были уехать утром. Были члены дивана. Они будут раздавать подарки.
Расселись. Шейх-уль-ислам Тадж ад-Дин ходжа нараспев прочитал молитву, пир начался. В неприметной нише сидели музыканты, перебирая струны, играли красивые и тихие мелодии, приличествующие случаю. Подлинного веселья не было, мало кто хотел уезжать из Бухары и заниматься скучными делами. Всем хотелось роскоши и веселья, а не упорного труда. Рядом с собой я посадил Ахмад-Касыма. По случаю пира он пришёл в синем полушёлковом халате, подпоясанном серебряным наборным поясом с рубиновой пряжкой. Я всегда видел его одетым в простые штаны, кожаный фартук, с грязными по локоть руками. Здесь он восседал как падишах – могучий и красивый.
Беки и придворные втихомолку недовольно шушукались, перемывая косточки Ахмад-Касыму: каждую в отдельности и до перламутрового блеска. Он же, ни на кого не обращая внимания, ел с отменным аппетитом. Косу после маставы вычистил до первозданного блеска куском мягкой лепёшки. Остальные только ковырялись в еде, голодными не были, каждый перед пиром обязательно что-то съедал, чтобы потом никто не сказал, что он голодный ходит. Курбаши таких тонкостей придворного этикета не знал, а если бы и знал, то всё равно ел бы так, как работает. Ну и хорошо, что беки чинились и не особенно налегали на еду, – ремесленникам в Оружейном дворе ханское угощение должно понравиться.
Я наклонился к чиновникам, сидевшим за столом, и приказал:
– А теперь каждый из вас возьмёт на себя несколько человек, одарит их поясными платками и деньгами. Обязательно скажет много хороших слов о том, как их будет не хватать в нашей благословенной Бухаре. Надо найти такие слова, чтобы человек почувствовал, что он желанный гость не только на пиру – он будет желанным у себя дома, в своём имении. Там он должен будет на эти золотые построить стену вокруг своего имения. Кроме того, подготовить воинскому искусству каждого десятого джигита, живущего в его имении, и чтобы у каждого из них было по два коня. Да не клячи, которых запрягают в омач, а приличные кони, которые не свалятся при первом пушечном выстреле. – Сардары так трясли головами, что я забеспокоился о целостности их шейных позвонков.
– Да, великий хан, всё сделаем, великий хан!
– Оружие будет прислано из Бухары. Кормить он их должен доходами со своей икты, а обучать новых нукеров будут воины-конники. – Теперь всё – теперь каждому станет ясно, что готовится война, и не просто готовится, а близятся и предвидятся серьёзные перемены.
Кушбеги Ходжам-Кули обиженно надул губы, словно девица, лишённая чести до свадьбы. Он ничего не знал о моей активной военной подготовке. «Не будешь впятером умываться», – ехидно подумал я, а вслух сказал:
– Уважаемый Ходжам-Кули, вы подготовите завтрашнее заседание дивана, уважаемый Джани-Мухаммад-бий будет занят другими делами. – Джани-Мухаммад-бий съёжился под моим взглядом, лицо его посерело, он кожей и чутьём искушённого придворного ощутил опалу. Чувствовал её сердцем опытного интригана. Ощущал нутром, но ничего не мог не то что поделать – ничего не мог сказать. Подарочные платки и золотые монеты, лежащие в большом кожаном хурджуне были началом его падения.
Окружающие тоже почувствовали это и стали медленно, боком-боком отодвигаться от всесильного диванбеги. Как мало надо для того, чтобы с высоты и блеска своего положения пасть под ноги тех, кто ещё вчера пресмыкался перед тобой!
Сардары разбрелись по залу, присаживались рядом с беками, которых заранее себе намечали. С жаром что-то им говорили, убеждали, льстили, просили. Увещевали, советовали, вразумляли. Дарили подарки, самые хитрые что-то добавляли от себя. Судя по всему, каждый решил, что лучше отдать пять-шесть серебряных таньга, чем уехать из Бухары неизвестно куда и наконец-то начать работать. Мне тоже надо было начинать петь свою песню. Я решил, что начать надо с Один-хафиза. Я не очень хорошо знал его родителей, но помнил, что его вилоят один из самых больших и доходных в государстве. А ещё он очень хорошо пел и сам сочинял не только стихи, но и красивые мелодии. Голос имел не сильный, но приятный.
Один-хафиз был рачительный хозяин, его дехкане не голодали, не ходили оборванными скелетами, хотя налоги они платили вовремя и сполна. Но я знал, что он любил выпить запретного вина, тщательно скрывая этот свой грех. Один-хафиз никогда не пил в большой кампании, вино выбирал не за опьянение, а за вкус. Это я ещё мог как-то понять. Для него у меня был особый подарок – большой запечатанный кувшин особого вина, подаренный мне индийским падишахом после того, как мы договорились с ним насчёт разделения границ в районе Балха. Я не собирался докладывать падишаху, что я сделаю с его подарком, а Один-хафиз будет мне особо благодарен за редкий напиток.
Пир шёл своим чередом, гости ели, пили кумыс, чай и даже начали смеяться шуткам друг друга и подпевать певцам. Понемногу беки смирились с тем, что уедут из Бухары. Они были довольны тем, как их уговаривают и просят самые высокие государственные чины, это льстило их самолюбию и тешило гордость. Некоторые начали говорить, что поставят не каждого десятого, а каждого восьмого джигита, и не с двумя лошадьми, а с тремя. Каждый старался перещеголять соседа, набавляя себе обязанностей.
Бек из местности Кани-Гиль, что под Самаркандом, заявил, что стена вокруг его имения будет пяти кари в высоту и построит он её уже через одну луну. Как он собирался её соорудить? Где он возьмёт столько кирпича, я не знаю. Может быть, сам начнёт его лепить? Но главное не это, хорошо, что задача наполовину решена. И всех их, пусть даже такой низменный мотив, как хвастовство, заставляет решить мою главную задачу: укрепление посёлков и городков.
Я вспомнил своё первое в жизни сражение, когда рядом со мной было всего пятнадцать воинов. Тогда я оборонял родной Афарикент. Удивительно, но в том бою я победил врагов. Именно там я понял, что главное в битве – это уверенность в собственной правоте, желание защитить свой родной край и наказать врагов. Будет хорошо, если в каждом городке будет человек по пятьдесят настоящих воинов, тогда нам никакой Таваккул не страшен. А остальные, глядя на соседей, тоже попробуют не отсиживаться за спинами и безропотно отдавать добро, принадлежащее им, а драться за него. Не за громкое слово «родина», а за себя, за жену, детей – это и есть родина. Всё, что я хотел сегодня сделать на пиру, я сделал. Может быть, не так хорошо, но всегда предполагаемое отличается от сделанного. После благодарственной молитвы все стали потихоньку расходиться, благоговейно держа в руках ханские подарки и говоря признательные слова.
На пиру я ел совсем немного – горстку миндаля, две пиалы кумыса, одну самсу с мясом. Что было приятным и успокаивало меня, это отсутствие дурноты. Видимо, тот, кто старательно подмешивает мне что-то в еду, отложил на время свои намерения. А может быть, я просто заболел и мне это отравление привиделось? Посмотрим, что будет дальше. Не успели скрыться последние гости, как в пиршественный зал вихрем ворвался эшиг-ага-баши Селим, ведя за собой незнакомого джигита. Это только благословенный Искандер Зулькарнайн знал всех своих людей в лицо, я лишён такого счастья.
Я не помнил всех людей, которых я когда-либо видел. Позади мужчины шла очень молодая женщина, я понял, что за такую красавицу можно положить голову на плаху. Ещё я понял, почему так сокрушался Юсуф-праведник потерей дочери: калым за неё можно было взять настолько большой, что он разом поправил бы все свои дела. И сыновей женил, и новый омач купил. Так чего же он так плохо её караулил? Надеялся, что никто такую пери не разглядит и не позарится? Народ вокруг глазастый, и на красоту, особенно беспризорную и плохо охраняемую, все мужчины от пятнадцати до семидесяти лет падкие!
Большеглазая и белолицая молодая женщина была скромно одета в синее, цвета весеннего неба длинное платье. Голова, по обычаю, покрыта бирюзовым платком с серебристой бахромой по окаёму. А вот обута красавица была довольно кокетливо и даже роскошно. Расшитые узором лаковые сапожки амиркно были совсем крохотные и выглядывали из-под платья яркими павлиньими перьями. А уж золотыми побрякушками молодка была увешана сверх меры. Только что на сапожках не было браслетов с драгоценными камнями. На руках женщина держала младенца в пелёнках.
Не люблю я младенцев. А ещё больше не люблю людей, которые начинают с этими младенцами разговаривать, пуская слюни и сюсюкая. Неужели непонятно, что младенец ничего не соображает, он только пачкает пелёнки и орёт в самый неподходящий момент? Не начинают же разные умники шамкать ртом рядом со стариками? У тех уже нет ни зубов, ни ума, но ведут себя с ними все остальные уважительно, однако не назойливо.
Младенца же каждый должен пощекотать, поцеловать, погладить по головке, сунуть ему в рот какую-то сладость. А если ребёнок не хочет? Но взрослый-то думает со своего минарета. Он думает, что дети хотят именно того, чего хочет он сам. А то, как они тискают этого младенца, – какая же настоящая пытка для ребёнка! Взрослые люди не соизмеряют силу своих объятий с крохотным детским тельцем… Тот спать хочет, а дядя или тётя выражают ему свою великую любовь именно тогда, когда у дитя глаза слипаются и он хочет заснуть. Вот и начинает ребёнок кричать от возмущения, но сказать ничего не может.
Поэтому дети – дело матери или мамок-нянек, а не тех, кто думает, что знает все мысли младенца. Я понял, что это дочка Юсуфа-праведника. Рядом с ней то ли её муж, то ли будущий евнух при дворе Таваккула. На руках женщины их ребёнок. Сам джигит был высокий, лет восемнадцати – двадцати, одет просто, в тёмно-синий полосатый халат из бекасама. Рубаха, выглядывающая из-под халата простая хлопчатая, не шёлковая. И не скажешь, что сын богатого бека. А может, попроще оделся, чтобы скромнее выглядеть? На голове – незамысловатая чёрно-белая чустская тюбетейка, обёрнутая хлопчатым однотонным серым платком.
У Селима от усердия чалма сбилась на сторону, ичиги по щиколотку были в бухарской пыли, поясной платок уже не так туго охватывал его объёмную талию. Пришедшие стояли на коленях, и младенец, на удивление тихо копошился в своих пелёнках, не издавая ни звука. Последние гости быстро покинули пиршественный зал, понимая, что разбираемое дело их не касается, но может принести неприятности.
– Великий хан, ваше повеление выполнено. Если желаете, я сам доложу обо всём. Но если на то будет ваше высочайшее изволение – можете выслушать этого недостойного и его жену. – Всё ясно, не будет у Таваккула нового евнуха. Ну и то хорошо.
Я не смотрел на молодого мужчину, не люблю я такие вещи: украсть девушку и даже не сообщить её родителям, что та жива, здорова и замужем. Не прислать подарки, как положено! Значит, спать с дочерью дехканина можно и даже жениться на ней можно, а отблагодарить отца и мать за хорошую жену нельзя? Неужели жадность идёт рука об руку с беззаконием? Всё равно накажу – не кастрацией, так позором на его семью.
Зульфикар уже стоял за моей спиной – я чувствовал это, а он чувствовал моё настроение. А вот эшиг-ага-баши ничего не чувствовал, он ждал похвалы и одобрения.
– Скажите, уважаемый эшиг-ага-баши, к вам поступала жалоба от дехканина Юсуфа-праведника из кишлака Каныш летом прошлого года о том, что у него пропала дочь пятнадцати лет? – Внутри у меня всё кипело. До каких пор золотые детки богатых родителей будут делать всё, что хотят? Может, скоро и тринадцатилетних девственниц увозить начнут в свои гаремы?
– Жалоба, великий хан? Какая жалоба? Они же сплошь неграмотные, они же законов не знают, чего они могут сказать? – Селим не мог понять, что тучи сгустились и над его головой – не из-за девчонки, а из-за того, что порядка нет в его делах. Человек, который этот порядок должен поддерживать, совершенно не хочет заниматься своими прямыми обязанностями!
– Значит, письменной жалобы не было? И вы и ваши подчинённые ничего об этом не знали? – Теперь у меня не только внутри всё кипело, теперь и в голосе появилось недовольство.
Эшиг-ага-баши наконец-то понял, что дело не в молодой женщине и её родителях, а в нём самом и в том, как он выполняет свои повинности.
– Я понял, великий хан, я всё понял! Я всё исправлю, я примерно накажу виновных… – А куда ты раньше смотрел?!
Дело вовсе не в дочери дехканина и не в дехканине. Дело в том, что недовольство этого дехканина и неверие в соблюдение закона сделает из него или предателя, или шпиона, или разбойника! Наказывать он решил… Почему он думает, что я ему это позволю?
– Кого? Этого младенца ты хочешь без отца оставить или эту девочку без мужа? Что ты хочешь сделать? – Вопрос был поставлен, но Селим понятия не имел, кого и как наказывать.
– Я… Я издам указ…
Совсем сдурел! Указы издаёт хан, и никто, кроме него! Да, скуден умом эшиг-ага-баши. Придётся помочь.
– Сначала мы выслушаем, как было дело, а потом примем решение. Говори, джигит, почему нарушил обычаи и закон, почему не посватался, как положено? Почему украл девушку, почему не прислал подарки отцу и невесте? Почему не заплатил калым? Или на халву денег не хватило? И чьего ты роду-племени, чтобы я знал, какой отец так плохо воспитывает своих сыновей?
Юноша, чуть приподнял поникшую голову. Его глаза встретились с моими. И в этих глазах я не увидел страха, я увидел в них гордость отца, гордость мужчины.
– Великий хан, справедливейший их живущих в подлунном мире! Я сын Мухаммад-кули-бия кушчи, зовут меня Изатали. Я помогаю своему отцу при подготовке к ханской охоте. Я знаю все повадки ловчих птиц и воспитываю соколов-перепелятников.
Да, с памятью у меня что-то случилось. Видел я этого молодца, но ни разу не разговаривал с ним. Я очень люблю охоту, а ещё больше мне нравится охота с ловчими птицами. Кроме того, я держу их для подарков правителям и высшим чиновникам в сопредельные страны, потому что очень многие просто умирают от желания иметь таких птиц. Дорогие они, особенно если хорошо обучены.
– Говори, джигит, хан тебя слушает.
– Вы, великий хан, как-то отблагодарили меня за двух соколов, которых подарили турецкому султану. Не напрямую, а через отца. – И это я вспомнил.
– Помню. Хорошие были соколы.
– Великий хан, в прошлом году в месяц зу-л-хиджа по приказанию своего отца я отправился на поиски гнёзд соколов, чтобы найти молодых птенцов, годных к обучению, и проезжал мимо кишлака Каныш со своими помощниками. Там через дувал одного из дворов я увидел девушку и попал в плен её красоты. Мой отец ни за что бы не согласился, чтобы я взял в жёны дочь дехканина, поэтому я выкрал её и сделал своей наложницей. Но после рождения сына, которого нам послал Аллах, был проведён обряд никох. Я на коленях умолял отца позволения жениться на Гульнар. Все беки берут себе достойных жён из богатых семей, но моему отцу было стыдно, что его сноха дочь простого бедного дехканина. – Изатали смотрел на меня своими раскосыми чёрными глазами, полными слёз.
Гульнар стояла на коленях, не поднимая головы. Она всё качала сына, прижимая его к себе.
В двери боком протиснулся Мухаммад-кули-бий кушчи. Он молча бухнулся на колени рядом с сыном и снохой. Кушчи несколько раз стукнулся головой о пол и глухо заговорил:
– Великий хан, в этом деле нет ничьей вины, лишь моя. Казните меня, я возжелал невозможного. Я хотел женить сына на богатой невесте из хорошего рода и семьи. Что поделаешь, если мой сын взял себе жену по любви. Я сопротивлялся, сколько мог, но, когда увидел внука, сердце моё растаяло маслом на солнце. Признаваться в том, что сын взял в жены дочь нищего убогого дехканина, я не хотел и даже придумал историю о дальнем вилояте, из которого якобы и прибыла моя сноха. – О Всевышний! Как же наши обычаи, которых мы стараемся придерживаться, портят нашу жизнь.
О любви никто не думает, когда речь идёт о гордости. Сколько предубеждения против невест из бедных семей! Наложницей она ещё может быть, а вот женой… Хорошо, что кушчи сжалился над своим сыном. За спиной шумно вздохнул Зульфикар, запахло пощадой для всех участников этой почти смешной истории.
Я молча указал кушчи на место рядом с собой. Он не хотел садиться, пришлось сделать вид, что я хочу встать с подушек, чтобы поднять его. Мелкими семенящими шажками он приблизился и спросил:
– Великий хан не сердится на своего преданного слугу? – голос его дрожал, трепеща от неизвестности.
– Сердится, ещё как сердится! Где свадьба? Где обряды, связанные с рождением внука? И где ваши новые родственники? Где отец, где братья вашей снохи?
Гульнар впервые подняла на меня глаза, чтобы тут же опустить их, а кушчи изумлённо уставился на меня:
– Великий хан всё знает?! Даже про братьев знает?! Какое счастье служить такому прозорливому и проницательному человеку!
– Вот то-то! От меня ничего не скроется! – эшиг-ага-баши скромненько стоял в сторонке, уверенный, что буря пронеслась над его головой, не задев даже чалмы, но он ошибался. – Уважаемый Селим! За то, что ты не принял никаких мер для отыскания девушки по жалобе её отца и за нарушение шариата, накладываю на тебя наказание. Ты должен в течение луны замостить жжёным кирпичом, поставленным на ребро, улицу от Арка до базара Тим-и-заргаран и дальше до хлопкового караван-сарая. А вы, уважаемый Мухаммад-кули-бий, сами, не поручая никому, отвезёте в Каныш Юсуфу-праведнику калым в размере пятидесяти полновесных серебряных таньга, и сверх этого то, что пожелаете. Говорить окружающим, откуда у вас сноха, совсем необязательно. – Я удовлетворённо хмыкнул.
Наконец-то с делами покончено, а ведь нынешним утром я собрался умирать. Указ, связанный со сватовством и свадьбой всё-таки нужен, но в этом вопросе надо посоветоваться с шейх-уль-исламом Тадж ад-Дин ходжой. Я хорошо знаю Коран, но всех тонкостей, связанных с браком и нарушением обрядов, не уразумел до седых волос в бороде. Теперь можно спокойно отправляться в опочивальню, послушать, что написал о своей интересной жизни падишах Захириддин Бабур, мир праху его.
Джалил-ака уже находился в моих покоях, драгоценную книгу держал на коленях, как держат долгожданного и пока единственного внука, прежде чем положить его в бешик. Я подивился его выдержке – судя по всему, он не попробовал прочитать ни единой строки. На его месте любой бы воспользовался отсутствием хана и выполнил своё заветное желание. Мне понравилась его терпение, нет никаких сомнений в том, что этот человек ставит мои интересы превыше своих желаний. Я растягивал удовольствие и, прежде чем подать знак к началу чтения, удобно, со вкусом расположился на курпаче, подоткнул подушки под голову и поясницу, подвинул к себе кувшин с кумысом и прикрыл глаза. Зульфикар сел рядом и потянулся к чайнику с чаем. Джалил-ака решил ничего не пить, но приказал приготовить для себя любимый напиток из сока граната уверяя, что от его употребления голос становится чистый, звонкий, как туго натянутая струна рубаба. Можно было начинать.
– «Во имя Аллаха милостивого, милосердного! В месяце рамазане года восемьсот девяносто девятого я стал государём области Фергана на двенадцатом году жизни»4. – Голос Джалила-аки был торжественный, немного взволнованный. Он читал собственноручный рассказ великого правителя, умершего больше пятидесяти лет назад. Эти записки были подготовлены внуком Захириддина Бабура Джалал-ад дином Мухаммадом Акбаром Великим, моим зятем. Моя дочь была одной из двадцати двух жён падишаха Акбара.
Любвеобильный Бабур и жёны его из великих родов, как из его государства, так и соседних стран. Не зря его называют великим, это самый справедливый правитель из живущих ныне. Во время чтения меня удивило, как рано Захириддин познал тяготы правления. В двенадцать лет мальчики ещё играют деревянными мечами, а не восседают на престолах своих отцов. Джалил-ака читал дальше, читал так, как, наверное, не читал никогда в жизни. Рассказ лился плавной и неспешной рекой. Как же прекрасно было это повествование и как выгодно оно отличалось от всего того, что я читал до сих пор или читали мне.
– «Омар-шейх был небольшого роста, тучный, с круглой бородой, белолицый. Халат он носил очень узкий и, стягивая пояс, убирал живот внутрь; если же, стянув пояс, он давал себе волю, то завязки часто лопались»5. – Как без прикрас Бабур описывает своего отца! Я заулыбался. А что, если мне тоже научится убирать живот внутрь? Наши же летописцы до сих пор описывают меня как прекрасного юношу, хотя видят, что я уже давно седой и старый. Никогда в жизни они не рискнут так написать, побоятся, что хан рассердится на правду без тысячи упоминаний того, что великий хан Абдулла подобен Солнцу на небе и великолепнее Сатурна. А каковы описания городов его владений – словно видишь все эти поселения, драчливых сыртов, миндальные деревья, ходженские гранаты, ахсийские дыни.
Он пишет о том, что «доходами с области Ферганы можно, если соблюдать справедливость, содержать три-четыре тысячи человек»6. О чём я всё время говорю – справедливость необходима, а если всё время тянуть курпачу на себя, то голые ноги замёрзнут и останешься ты без войска и без государства. Я слушал, затаив дыхание: именно так нужно описывать то, что видишь вокруг. У Бабура был несомненный литературный талант. С каким мастерством и знанием он описывает природу своего родного края, богатства земли. Он великолепно знал, где какие плоды и овощи произрастают, мог всё рассказать о климате Ферганской долины, реках и озёрах, дорогах и расстояниях между поселениями.
Спроси любого из моих приближённых, сколько фарсагов между Бухарой и Самаркандом, – он будет долго думать или делать вид, что думает, в конце-концов скажет, что это мелочи, недостойные его драгоценного внимания. А если поинтересоваться, сколько народу живёт в его имении, высокородный бек может сойти с ума, потому что считать может в лучшем случае до пятидесяти и чаще всего использует свои пальцы, чтобы сложить два необходимых числа.
– «После мирзы осталось трое сыновей и пять дочерей. Старший из сыновей был я – Захир-ад-дин Мухаммад Бабур, моей матерью была Кутлук Нигар ханум. Ещё один сын был Джахангир мирза, младше меня на два года; его мать происходила из могольских туманбеков и звали её Фатима Султан. Ещё один сын был Насир мирза. Его мать была из Андижана, наложница, по имени Умид. Он был младше меня на четыре года»7, – продолжал читать Джалил-ака, не останавливаясь ни на мгновение. Его как будто подгоняло само описание. Глаза его блестели при свете масляных ламп и свечей, в эти мгновения он весь был там, в Ахси. Он смотрел на сестёр и братьев Захириддина Бабура и видел их так же, как я видел его.
А какие характеристики он дал эмирам своего отца – это же откровенная и нелицеприятная критика в сторону тех, кого он лично знал:
– «Али Мазд бек… был лицемерный, развратный и неблагодарный и вообще негодный человек».
– «Хасан Якуб бек… был тёмный, несдержанный человек и большой смутьян».
– «Эмир Баба кули …не молился, не соблюдал постов, и был человек жестокий, подобный неверному».
– «Али Дуст Тагай бек человек с негодными свойствами и повадками, скряга, смутьян, тупица, лицемер, самодовольный, грубый и жестокосердный».
– «Мир Гияс Тагай… был хохотун и шутник, в отношении разврата он не знал страха».
– «Камбар Али… был нетерпеливый и скудоумный человек».
– «Ходжа Хусейн бек был муж смиренный и человеколюбивый. Говорят, что, согласно обычаям той поры, он во время попоек прекрасно пел песни»8.
Я считаю, что многие мои эмиры именно таковы. Но я редко решался сказать вслух то, что я о них думаю. Значит, я тоже лицемерю вместо того, чтобы сказать правду в глаза, вместо того, чтобы объяснить, почему он недостоин той или иной должности или подарков из ханской казны. Книга Бабура – кладезь знаний и наставлений, надо этими наставлениями пользоваться в полной мере, а не таить от окружающих их ценность! В то время, когда Джалил-ака читал описание характеров эмиров, Зульфикар сначала улыбался, потом начал смеяться, а затем хохотать во всё горло, как будто услышал хорошую шутку. При этом он поглядывал на меня, всем своим видом говоря: «Вот так с ними надо, а ты всё боишься обидеть негодного эмира и думаешь, что от очередного возвышения он поумнеет или перестанет пить вино!»
Даже своего отца он не пощадил и написал, что тот «В прежние времена много пил, но последнее время устраивал попойки только раз или два в неделю»9. – Это сколько же надо пить запрещённого вина, если попойки дважды в неделю считались редкостью? Воистину, Бабур – честнейший и правдивейший из летописцев не только прошлых лет, но и настоящего времени, и даже будущего! Да, мне о многом надо подумать, многое пересмотреть в своей жизни и в отношениях с окружающими – не хан для эмиров, а эмиры для хана и для государства. А если не захотят, то на их место много желающих. Вот только будут ли новые подданные лучше старых?
Интересным способом он описывал своих родственников. Например, единоутробного брата своего отца – сначала хвалебная часть, достаточно краткая, а затем правдивая и очень неприятная: «Раньше Махмуд Султан мирза сильно увлекался птичьей охотой, потом много охотился на крупную дичь. Он был склонен к жестокости и разврату, постоянно пил вино и содержал бачей. Если где-нибудь в его владениях появлялся миловидный безбородый юноша, то мирза любым способом заставлял привести его и брал в бачи. Сыновей своих беков, беков своих сыновей и даже сыновей своих молочных братьев он брал в бачи, употреблял для этого занятия. Эти скверные дела были в то время столь распространены, что не было ни одного богатого человека без бачи. Содержать бачи считалось достоинством, а не содержать их – недостатком. Жестокость и разврат Султана Махмуд мирзы принесли ему несчастья, и все его сыновья умерли молодыми»10.
Много я слышал о таких забавах беков, даже мой сын грешит этим пороком, но при моём дворе я стараюсь пресекать эту заразу на корню. Аллах создал мальчиков и мужчин для того, чтобы они воевали, возделывали поля, работали в мастерских, растили детей, а не служили утехой развратникам. Я таких мужчин не понимаю. Это каким же надо быть слабоголовым, чтобы предпочесть мальчика красивой девушке! Тем более что это страшное унижение для будущего мужчины. Несчастный всегда будет помнить, что когда-то им пользовались как женщиной.
– Великий хан, первая часть закончилась. Прикажете продолжать, или отложим чтение этого благородного сочинения на другой день? Если вы не устали, я мог бы читать и до утренней молитвы или даже до вечера следующего дня. – Голос Джалил-ака был такой же, как в начале чтения.
Видимо, гранатовый сок действительно способствует сладкозвучию голоса. Мне хотелось слушать дальше, но я понимал, что завтрашний день будет тяжелее, чем сегодняшний. Мне и Зульфикару надо отдохнуть. Не молоды мы уже, чтобы ночи напролёт слушать описание событий, даже таких захватывающих.
– От всей души благодарю вас, отрада моего сердца, за доставленное удовольствие. Продолжим в другое время. А вам я разрешаю прочитать, что будет дальше, вы достойны этого подарка. – Джалил-ака не поверил своему счастью – он встал на ноги и так низко поклонился, что головой упёрся в курпачу, с которой поднялся:
– Великий хан! Вы меня одарили такой радостью, таким подарком! Я счастлив сверх меры. Сердце моё поёт в груди, как десять карнаев и двадцать сурнаев, как сладкоголосая флейта на свадьбе у ангелов! Я ваш раб на всю жизнь! – ну это ненадолго, но всё равно мне было приятно доставить китобдару радость. – Разрешите мне удалиться?
– Разрешаю. Сладких вам снов. – Но я-то понимал, что Джалил-ака сейчас добежит до своей библиотеки и продолжит чтение, не зря засобирался с такой скоростью…
Я был рад тому, что хоть кто-то сегодня будет счастлив. А ещё я очень пожалел об отсутствии Нахли. Вот кому не мешало бы послушать, как надо описывать жизнь хана или султана. В глубине души я понимал, что Нахли может так писать, но не принято у нас излагать жизнь хана в простонародных выражениях.
Зульфикар тоже попрощался, пожелал спокойной ночи и отправился, по обыкновению, проверять охрану возле моей опочивальни и во всём Арке. Я всегда был спокоен за то, что меня не убьют в крепости. Не потому, что такого не могло случиться, а потому, что джигиты сотни были душой и телом преданы даже не мне, а Зульфикару. Своего наиба они почитали, любили и боялись даже больше, чем своих отцов, которых у многих не было. День ещё не окончен – у нас сутки продолжаются от одной утренней молитвы до другой. Я надеялся, что на сегодня все дела завершены. Дрёма охватила меня. Свежий осенний воздух, напоённый ароматом цветов, вливался в окно, трещали неумолчные цикады. Где-то вдалеке ночная стража громко перекрикивалась: «В благословенной Бухаре всё спокойно!»
…Я погонял коня, уходя размашистой рысью от погони. Почему-то я был один. Рядом со мной не было ни одного джигита, и даже Зульфикара не было рядом. Я знал, что он отстал – такого никогда не было, но вот отстал. Погоня была большая: человек десять конных воинов гнались за мной. Это были кочевники в ватных халатах и малахаях. Они визжали за моей спиной, раскручивали арканы, но пока что ни один из них не захлестнул мои плечи. В этом была надежда на спасение. Лишь бы конь не подвёл, и нога его не попала в норку суслика. Тогда неминуемая беда: упадёт конь, а я окажусь в руках врагов. Хорошо, если сразу погибну, а если попаду в плен? Об этом лучше не думать, а скакать как можно быстрее.
Я не мог понять, откуда взялись всадники, не мог понять, как оказался один посреди незнакомой степи, не мог понять, почему так жарко? На улице осень, а в степи жара, как во время чилли. Мой конь начал уставать, он тяжело хрипел, аллюр его всё время сбивался. Погоня настигала меня неотвратимо, как то, что за рассветом следует день. Я не оглядывался… Зачем тратить силы и видеть то, что и так понятно. Аркан, пущенный чьей-то ловкой рукой, наконец-то стянул мои плечи, и я оказался на земле. При падении я упал на правый бок и больно ударился ногой – она сразу онемела, даже пошевелить ею у меня не было сил.
Я закрыл глаза, но не потому, что боялся стоящей рядом смерти, а потому, что моя нога, отбитая об землю, совершенно не хотела слушаться, вызывая непрошеные слёзы. Я не хотел показывать свою слабость преследователям. А ещё я не хотел видеть этих невесть откуда взявшихся кочевников – это что же творится, как я попал в незнакомую степь? Степняки, сгрудившиеся вокруг меня, почему-то заговорили шёпотом:
– Великий хан, проснитесь, вы так стонали, что случилось с вами? – Я с трудом открыл глаза – надо мной стоял один из воинов Зульфикара, а сам он находился возле двери. Нога моя не шевелилась. Не чувствуя её, попробовал подвинуть рукой и застонал от внезапной боли. А где степь, где кочевники?
Зульфикар кинулся ко мне:
– Великий хан, выстави пятку вперёд, у тебя судороги. Это бывает, ничего страшного, сейчас всё пройдёт. – Я попробовал двинуть пятку вперёд, больно, но не так сильно, как во сне. О Аллах, так это был сон!
– Что случилось? Не из-за моих же стонов такой переполох? – я уже пришёл в себя, сон забывался. Но всё-таки надо спросить у толкователя снов Кемаля-бобо, хоть я ему и не верю, что всё это означает. Пусть соврёт что-нибудь для моего успокоения.
– Джани-Мухаммад-бий ушёл в сады Аллаха! – спросонья и из-за сильной боли в ноге я не понял, куда это он отправился.
– Зачем? – глупо спросил я, потом понял, что помер Джани-Мухаммад-бий. Неужели от того, что в опалу попал?
– После пира он пошёл не домой, а остался во дворце, в своей комнате. Там он выпил неимоверное количество виноградного вина. – Я не поверил своим ушам! Диванбеги никогда не был замечен в пьянстве. – После этого вышел в коридор в одном исподнем, начал петь, танцевать и плакать, но его увели в опочивальню, и он вроде бы заснул. Рядом с дверью оставили одного из нукеров.
Получается, что пока мы читали Записки Захириддина Бабура, в Арке творилось непотребное? Понимаю, почему мне ничего не сообщили об этом, – думали, что проспится Джани-Мухаммад-бий, утром всё будет как обычно, и я ни о чём не узнаю, всё будет шито-крыто. Но Зульфикар-то ещё был в Арке, поэтому скрыть происшествие не удалось.
Спустя некоторое время в опочивальню заглянул нукер и увидел, что диванбеги лежит на спине в луже блевотины, которой захлебнулся. Какая позорная и нелепая смерть… Я встал с курпачей, накрытых белыми покрывалами, измятыми мною во время сна, накинул на плечи халат и отправился через переходы в спальню Джани-Мухаммад-бия. Нукер около двери понуро стоял, не смея шевельнутся. Он считал себя виновным в смерти диванбеги. Мальчик, никто не виноват, кроме виноградного вина и самого Джани-Мухаммад-бия. Никто тебя не накажет, а если злые языки попробуют что-то сказать – у меня на это найдётся ответ:
Зачем ты пил запретное вино без меры?
Зачем призрел устои нашей чистой веры? За этот грех Аллах призвал тебя досрочно, В аду гореть твоей душе бессрочно!
Не бог весть какое рубаи, но в то мгновение только оно и сложилось в моей голове. В комнате стоял удушливый, вонючий смрад. В горле сразу запершило, в желудке появились позывы к рвоте.
Я сдержался, на мгновение прикрыл рот ладонью, которую тут же отнял. Над телом Джани-Мухаммад-бия стояли табиб Нариман, горестно разводивший руками, и двое помощников диванбеги, его доверенные люди. Они, я так думаю, уже прикидывали, кто из них займёт место диванбеги. Ничего не выйдет, я уже решил, кого назначу, и это станет известно на утреннем собрании дивана.
– Наш незаменимый помощник в делах государства Джани-Мухаммад-бий умер от несварения желудка, а также великих забот, которые он с величайшим рвением выполнял, мир праху его! Если я хоть краем уха услышу что-то другое – сплетника прикажу казнить немедленно, а отрубленную голову водрузить на кол и выставить на стене Арка. – Я обвёл глазами присутствующих. Все поняли, что я хочу скрыть истинную причину смерти и тут же закивали. Человека не вернёшь, а бесславная гибель Джани-Мухаммад-бия не станет поводом раздувать угли скандала. – Привести здесь всё в соответствии с обычаями, убрать кувшины с вином, объявить траур. Пусть плакальщицы в количестве тридцати двух рыдают настоящими слезами и в причитаниях славят усопшего. Сообщить семье, выразить глубокое сочувствие – да вы и без меня знаете, что надо делать.
Я отправился обратно, размышляя по пути: неужели Аллах услышал мою невысказанную просьбу? Неужели Джани-Мухаммад-бий действительно был неугоден Всевышнему своими деяниями? Я не чувствовал своей вины, понимая, что своей непомерной глупостью Джани-Мухаммад-бий освободил меня от своей особы и развязал руки для дальнейших действий. В голове постепенно сложился указ о запрете употребления вина.
Главным злом здесь являются не пьяницы, а те, кто это вино делает и продаёт. Иногда это разные люди – значит, бить надо по ним. Разрешить делать вино только табибам и только в лечебных целях. И штрафы! За то, что человек вино делает и продаёт его – десять полновесных серебряных таньга и десять плетей на площади перед Арком. Предварительно провезти по улицам благословенной Бухары и пусть орёт во всё горло «Правоверные мусульмане, я спаивал народ, правоверные мусульмане, я нарушил заветы Корана, правоверные мусульмане, я прах под вашими ногами». Может быть, хоть тогда кто-то да задумается, стоит ли запретное удовольствия десятка плетей по голому заду при большом стечении народа?
Как же я устал! Как я устал от людской глупости и самонадеян ности, от непомерных амбиций одних и безответственности других! До каких пор наш благословенный народ будет страдать от всего этого? Что надо сделать, чтобы люди поняли – я хочу только благоденствия государства. Неужели так трудно сделать то, что я прошу? Я же сначала прошу, а только потом приказываю и требую – или сразу начинать с угроз? Тимур-хромец никогда никого не просил, он только приказывал, и каков результат? Не прошло и тридцати дней после его смерти, даже не сорок, положенных по обычаю, как один из его внуков нарушил его завещание и захватил Самарканд. Это произошло вопреки тому, что лично Тимуром был назначен его наследником и эмиром Пир-Мухаммад, сын любимого им и безвременно ушедшего Джахангира-мирзы. Пир-Мухаммаду никто не подчинялся.
Все потомки Тимура мужского пола считали себя достойными его трона! Но если они любили и уважали деда, то почему с таким презрением отнеслись к его воле? Получается, что только страх держал всех сыновей и внуков в повиновении, только ужас перед жестоким нравом отца и деда не давал прорваться их глубоко скрытому недовольству?
А несчастная доля великого Улугбека? Строителя, учёного, поэта, музыканта, убитого по приказанию собственного сына? Это внук Тимура – неужели все Тимуриды прокляты Аллахом за те злодеяния, которые он творил? Не мне толковать волю Всевышнего, но то, что происходит рядом со мной, в моей совести и душе – тоже Его воля!
Как понять, правильной ли я иду дорогой, не свернул ли где с намеченного пути и предначертаний Всевышнего? Стенать можно долго, а ответ я узнаю только после того, как попаду на тот свет. А теперь надо думать о насущных делах, и хватит забивать голову рассуждениями, от которых взрывается мозг и тускнеет сознание. Спать.
1
Хафиз Таныш Бухари Книга шахской славы. Часть первая.
2
Хафиз Таныш Бухари Книга шахской славы. Часть первая.
3
Там же.
4
Бабур-наме. Записки Бабура, Главная редакция энциклопедий Института востоковедения АН Узбекистана. Ташкент, 1993 . С. 3.
5
Там же. С. 5.
6
Там же. С. 6.
7
Там же. С. 7.
8
Бабур-наме. Записки Бабура, Главная редакция энциклопедий Института востоковедения АН Узбекистана. Ташкент, 1993. С. 12.
9
Там же. С. 15.
10
Там же. С. 21.