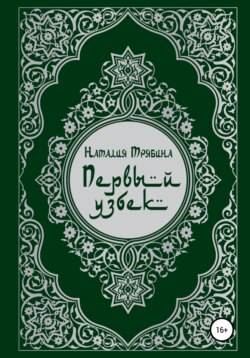Читать книгу Первый узбек - Наталия Николаевна Трябина - Страница 7
ХАН И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ
ОглавлениеГлава 2
МИАНКАЛЬ – СЧАСТЬЕ ЖИЗНИ
Н
е сыскать в Мавераннахре более сочных сладких дынь, напитанных в избытке влагой и щедрым солнцем, и не найти такого наливного винограда вернее, чем в долине Заравшана. Тяжелые грозди тянут лозу к земле, словно ожидают руку, что жадно сорвёт плоды и сладким, освежающим соком отправятся прямиком в горло! Это Мианкаль, чьё несметное водное богатство невозможно оценить в серебре. Скатываясь с гор, Заравшан делится в фарсаге от Самарканда на два нешироких рукава: левым протоком будет Карадарья, а правым Акдарья.
Они несут мутные потоки полтора десятка фарсагов порознь, то расходясь на два-три фарсага, то сближаясь по непонятной причине. Степь, по которой они текут, гладкая, насколько видит глаз, ни горушки, ни низинки. Тешась свободой, нерукотворные каналы петляют по бескрайней равнине. Словно две соседки то ссорятся из-за пустяка в ругань и крики, то мирятся, оставляя позади злую склоку. Именно на этом островке, образованном протоками-подружками, издавна селились земледельцы.
Никто и не знает, когда первые люди поселились в этом благословенном крае. Судя по всему в незапамятные времена, давно позабытые не только людьми, но даже сказителями легенд и преданий. Дехкане, распахивая землю под пшеницу и ячмень, сажая плодовые деревья или копая арыки, случайно находили странные предметы. Для какой надобности они были сделаны, у людей не было ни знаний, ни желания знать. Зачем древний мастер слепил глиняный ящик с крышкой, сохранившийся почти целиком, непонятно. Крупу не насыпать, воду не налить. Но если сделал, то кому-то он был нужен, а для чего, зачем и почему – об этом лишь иногда вспоминали в чайхане, сидя за пиалой зелёного чая.
С другими находками всё ясно: вот осколки глиняной косы, глубокой расписной чашки. Вот искорёженный наконечник железного копья. В ржавом обломке с трудом можно признать некогда грозное оружие. Редко находили полезные вещи. Ничего вроде медного фельса, серебряного таньга или скромного колечка на глаза не попадалось. Такие вещи люди не выбрасывали, а теряли реже, чем об этом думают. Нечасто, но находили человеческие кости: безглазый, отполированный талыми водами до блеска череп или не пойми что? Кости руки или ноги? Кто разберёт? Их с молитвами относили на кладбище и предавали земле. Худо непогребённым костям лежать там, где человек работает. Невзначай можно наступить, осквернив тем самым как себя, так и несчастного, умершего уйму лет назад. А если по твоим костям после смерти кто-то топтаться будет? Нехорошо…
Кто знает, может, и есть на земле более удобное место для жизни, но оно было неизвестно людям, полюбившим Мианкаль. Два протока Заравшана размашистыми крыльями сказочной птицы Хумо создавали влажный шатёр, позволяющий пользоваться живительной водой в любое время. Неустанно работая, люди прорыли каналы насквозь от Акдарьи до Карадарьи для обильного полива своих угодий. В здешних садах и огородах росло всё – от развесистой яблони до проса и огурцов.
Те, кому повезло прижиться в Мианкальской долине, по своей воле её не покидали. Всё зависело от правителей, в руки которых попадал этот лакомый кусок плодородной земли. Им одаривали верных приверженцев или врагов, чтобы заткнуть жадную пасть ненадёжного союзника. Народ никто не спрашивал, а дехканам было всё равно, кому платить налоги.
Не все знали названия узбекских племён, населявших Мианкаль. Многие знали живущих рядом и их обычаи – ширин, утарчи, бишйуз, джалаир, кериат, каталан, тан-йарук, алчин, хитай, бархан, найман. Некоторые могли перечислить девяносто два племени, хотя и считать не могли. Все они были из кочевых узбеков, давно осевших
на земле и забывших свои дикие повадки. Перестали совершать набеги, воровать скот и женщин осёдлых соседей, а спокойно ковырялись в земле, добывая пропитание упорным дехканским трудом.
Пришлые народы за сотни прошедших лет породнились с людьми междуречья, переженились и настолько смешались, что постепенно стали терять не только варварские привычки, но и внешний облик становился другим. Прибавился рост, лица из круглых и плоских становились более выпуклыми и выразительными. Осёдлая жизнь для кочевников была спасением: редко кто маялся от недоедания и нужды. Родственники и соседи не давали голодать племянникам, сёстрам или близким друзьям. Если у самих был виноградник или ячменное поле, то уж горсткой кишмиша, кувшином катыка, пресной лепёшкой делились. Сегодня ты мне помог – завтра я тебе, какие счёты между соседями и родственниками? Не зря старики говорят: «Выбирай не дом, а соседа!»
На берегу северной протоки, почти у слияния Карадарьи и Акдарьи, притулился к низкому урезу реки ничем не примечательный городок Афарикент. Сюда время от времени наведывались правители Кермине, древнего красивого города. По меркам безбрежных степей, он располагался недалеко, фарсагов семь. Народу в Афарикенте проживало изрядно, тысяч десять, но такую цифру даже мулла не знал. Правитель Джанибек-султан, любимый племянник погибшего в борьбе с кызылбашами Шейбанихана, мог в любое время посетить свой дворец. Приезжал он не один, а с кучей сардаров, детей, жён, наложниц – отдохнуть, поохотиться, а то и просто предаться праздности вдали от многочисленных дворцовых интриганов, неустанно плетущих козни и ткущих заговоры.
Ещё при жизни Джанибек-султан раздал свои владения четверым сыновьям. При дележе Кермине и Мианкаль достались Искандер- султану, младшему отпрыску воинственного султана. Был тот Искандер тихий, богобоязненный, страшился собственной тени и никогда не ввязывался в родственные распри.
Афарикентцы довольны, что владыки их не забывают – при случае можно пожаловаться на длинноруких сборщиков налогов. Да и безопаснее. Во время приезда султана работы становится больше: то велят панджары подновить, то новых пиал с косами закажут, то курпачи или одеяла с подушками понадобились, да мало ли чего… Они султаны, и причуды у них султанские, простым людям непонятные.
Город со стороны реки вывалился убогими домами на берег, а с другой стороны возведена стена, ненадежная, из щербатого сырцового кирпича, скорее слабая иллюзия защиты, чем настоящее укрепление. С запада и востока в стене сооружены ворота, на которых стояли ленивые нукеры. При виде десятника они с показушным тщанием проверяли дехканские повозки, нагруженные всякой всячиной. А чтобы сквозь город могли пройти караваны, через Акдарью перекинут мост, охраняемый с особым усердием: через мост могла ворваться вражеская конница, а вслед за ней вломятся пешие нукеры. Тогда жди беды. Для охраны города Джанибек-султаном сооружена крепость Дубасия. На трёх башнях крепости, сменяя друг друга, стояли стражи, денно и нощно обозревающие выжженные степи с купами деревьев по окоему реки. Долгое время распоряжался здесь один из старших братьев Искандер-султана, Сулейман-султан.
Караваны, входящие в город по мосту, должны были заплатить особую пошлину за возможность торговать на местном базаре.
Улицы города, кривые и узкие, похожие для чужаков на загадочные лабиринты, для местного люда привычные и знакомые до невесомой пылинки и мелкой выбоинки. Немощёные улочки, зимой слякотные и скользкие, а летом источающие сухой жар, были привычны жителям Мавераннахра, поскольку других они никогда не видели.
Арыки протекали по дворам за дувалами, чтобы за каждой каплей воды хозяйки не выскакивали на улицу. На окраине городка, на берегу Акдарьи стояло два больших чигиря, наполнявших водой сардобу, питающую городские арыки. Люди не замечали слякоти зимой и духоты летом, ходили по улицам и знали каждого жителя если не по имени, то уж в лицо обязательно. Домов за высокими дувалами видно не было, никто не стремился выставлять напоказ свой достаток для зависти или нищету для досужих сплетен. Изредка через дувал свешивалась лоза винограда или кудрявая тень дуба пятнала улицу небывалым узором благодатной тени.
Различали дома по воротам и калиткам, однообразные дувалы, окружающие их, ничем не выделялись. Найти нужного человека можно по особенным воротам или приметной калитке. Здесь каждый старался украсить их если не замысловатой резьбой, то какой-то особенной меткой, запоминающейся чудинкой. Один окрашивал ворота жёлто-оранжевой охрой, залегающей мощными пластами на обрывистых берегах Акдарьи. Другой навешивал узорчатую ручку на калитку. Третий расписывал аятами из Корана. На некоторых воротах были металлическое кольцо и узкая полоска железа. На звонкий стук выходил хозяин или его сын, но обязательно мужчина. А вот деревянный молоток вызывал к калитке женщину: пришли соседки посплетничать или попросить какую-либо мелочь в долг.
По улицам свободно могла проехать арба, запряжённая парой волов, мало ли что понадобится в хозяйстве. Чаще всего улицы были шириной два-три кари. Почему так тесно лепились дома в восточных городах, никто не знал, но продолжали строить и жить по старинке. Дома окнами на улицу не высовывались, всё самое интересное было за дувалом.
Между строениями, через десять-пятнадцать домов зияли пустыри, окруженные неприхотливыми тополями, выстроившимися плотной стеной и дающими прохладу. Арыки, журчали водой, пересекающей пустыри, деловито и мелодично позванивая в своём тесном ложе. По бережкам арыка робко пробивалась трава. Её нещадно поедали бараны с отвисшими курдюками, пасущиеся под присмотром босоногих мальчишек.
Пустыри – место, где резвились и играли детишки – в куликашки побегать, в лянгу поиграть, показать свою ловкость и удаль. Некоторые мальчишки лянгу могли держать так долго на ноге, что игроки уставали ждать: да когда же этот бола устанет наконец и уронит желанный кожаный ошмёток в пыль? Взрослые собирались в тени для серьёзных разговоров.
Почтенные аксакалы, попивая зелёный чай в чайхане и вспоминая детство, хвастались, что лянгу держали от утренней молитвы до полуденной. Окружающие поддакивали, но мало кто верил россказням: за это время игрок не только уставал, но и задыхался от жажды, а без воды какая лянга? А то и родители позовут для срочной работы – прощай, любимая игра! Девочек среди играющих немного, они самозабвенно качались на качелях или загадывали друг другу загадки,
отгадки на которые все давным-давно знали, но резвились они только под присмотром своих старших братьев. Как водится, лет до восьми-девяти, а потом – платок на голову и сиди дома, жди женихов.
Дворец султана прятался за высокой стеной, сложенной из сырцового кирпича. Никому в голову не могла прийти нелепая мысль построить дувал из жжёного кирпича, даже султану. Дорого, затейливо, привлекательно для воров, грабителей и жадных родственников. Вся роскошь в виде изящного дворца, садов, фонтанов, изразцовых стен и резных деревянных колонн была внутри.
Не каждый житель города мог туда зайти, только по особому приказу и не в гости на чай со слоёной лепёшкой, а для срочной работы. Счастливец, побывавший во дворце, рассказывал о невиданных чудесах, привирая если не половину, то не меньше четверти рассказа. Говорил, закатывая в восторге глаза, о павлинах с распушёнными хвостами, сияющими всеми цветами радуги. О глубоких хаузах, выложенных разноцветной глазурованной плиткой, наполненных холодной прозрачной водой. С завистью рассказывал о дорожках, выложенных узорными плитками песчаника. О белых лебедях с крутыми изогнутыми шеями, о гуриях, прекрасных, как полная луна!
Но больше всего лгунишка сочинял нелепостей о вкуснейших сладостях, которыми он объедался по настоянию управляющего. Никто этому не верил: все знали, что никого во дворце не кормили на убой. Голодным не оставляли, но потчевали едой обыкновенной, какую жена может приготовить. Пресная самса с зеленью, мастава, лепёшка, не слоёная и не патыр. Но разве запретишь кому-то покрасоваться невероятным, небывалым рассказом? Сочинителю внимание, а соседям интересно.
Безыскусные вруны становились посмешищем для окружающих, и доброхоты нет-нет да напомнят о том, как Мурада-гончара сам султан одарил золототканым бухарским халатом. Подарок Джанибек-султан вручил гончару за укрощение непокорного ахалтекинца. На этого зверя, уверял словоохотливый гончар, боялись сесть все султанские конюхи. Но Мурад-джигит был великим наездником: сподобился и укротил! К сожалению соседей, халата этого никто не видел, поскольку ложь на тело не натянешь! И кроме осла, никакой ездовой скотины у него не было! Появляясь в чайхане в задрипанном засаленном халате, Мурад вызывал многочисленные вопросы и едкие насмешки:
– Мурад, а где золототканый халат? Или золото с него дождём вчерашним смыло? То-то сегодня все тропинки возле чайханы блестят! Пойди, подбери, а то украдут лихие люди! – после чего неизменно раздавался громовой хохот в десять глоток! Да что взять с простых ремесленников – только во сне, пожалуй, могли надеяться они на такие подарки!
Тот и сам был не рад, что попал на язык, так думать надо, если есть чем!
Рядом с оградой дворца на площади стояла соборная мечеть, в которую ходили султанские чиновники и немногочисленные городские беки. Неподалёку возвышался минарет, в фонаре которого пять раз в день появлялся муэдзин, созывая на молитву правоверных. Считается, что первым муэдзином был абиссинец Билял ибн Рабах, имевший зычный голос, слышный на окраинах Медины. Иногда муэдзинами назначали слепых мальчиков, которые не должны видеть, что происходит во дворах и на улицах, а самое важное: они не могли глазеть на женщин без покрывала.
Афарикентский муэдзин был зрячий, голос имел пронзительный и звонкий, слышный даже в крепости Дубасия! Любому афарикентцу в соборную мечеть дорога была открыта, но люди предпочитали молиться в своей махалле. Городская мечеть, по меркам Бухары или Самарканда, была простенькой, без величественного портала, украшенного бирюзовой плиткой цвета весеннего неба. Пятничная молитва неукоснительно проводилась при большом стечении народа, разодетого в богатые бархатные и шёлковые халаты. А что красоваться-то – люди знали, у кого дома тараканы от голода разбежались, а у кого мыши толще муллы по углам кладовой прячутся?
Молившиеся приносили с собой саджжада, на него мусульманин становился во время молитвы. Кто побогаче, приводили специального слугу – фарраша, расстилающего молитвенный коврик. Саджжада были у всех разные, можно было и без коврика помолиться, мечеть усилиями муллы за счёт вакфа вся устлана коврами, но многие считали это признаком особого благочестия. Хотя Коран предписывал только одно – чтобы место для молитвы было чистым.
Без чайханы не обходилась ни одна махалля. Это было место отдыха мужчин, женщинам и детям вход в чайхану заказан. Здесь они могли поговорить обо всём на свете: от любимой перепёлки до прибавления в султанском семействе. Можно было тихо посидеть после трудового дня, помолчать, послушать соседей или чужих людей. Много рассказов можно было услышать от проезжающих купцов и погонщиков верблюдов. Жаль, что не всегда верилось незнакомым путешественникам. Что и говорить – правда о далёких странах, лежащих за безводными жаркими пустынями, перемежалась с замысловатыми выдумками. Погонщик в изодранном халате описывал себя защитником и спасителем прекрасной, словно райская пери, черноокой красавицы. Толстый и лысый караванщик, еле передвигающийся из-за безмерно жирного брюха, становился победителем сотни разбойников, вооружённых острыми саблями и страшными, как дивы из сказки.
Ещё караванщиков ждали, чтобы послушать новости. Они рассказывали о битвах, сражениях и ханах, от которых простому человеку лучше держаться подальше. А для правителей не было лучше забавы, чем повоевать с врагами, друзьями, братьями и другими родственниками. Ханам невдомёк было, что воевали они руками своих нукеров, молодых парней, у которых не то что жены – невесты ещё нет. А убьют, то и детей не будет. И это уже не сказки.
Другая развесёлая забава собирала в чайхане не только бездельников. Зачастую уважаемые отцы взрослых сыновей страстно увлекались захватывающим зрелищем – схватками бойцовских перепёлок. Мужчины усаживались вокруг ямы, специально вырытой за чайханой. В неё опускали пару петушков. Злить и дразнить этих птичек не было нужды – каждая пичуга считала яму своей и поэтому начинала драться за неё с неимоверной злостью и усердием, выказывая необыкновенную отвагу для такого крохотного существа! Любители разводили петушков и натаскивали их, нещадно натравливая друг на друга. Корма перепёлки требовали немного, но вот чистоту надо было соблюдать особенную, перепёлки очень любили купаться в песке, подолгу пурхаясь в нём, размётывая его на все стороны света.
А заклады на бои? Какая же драка перепёлок без заклада? Некоторые уходили домой после сшибки соседских птичек без тюбетейки и даже без халата – проиграл! А ругались как! Где только слова поганые находили? Не встревай в спор, если не знаешь, что перепёлка Саида-лепёшечника сильнее, чем у Акмаля-водоноса. Чайханщик тоже имел прибыток от таких боёв – после боя победитель угощал чаем всех, кто криками поддерживал его перепела. Иногда победитель так расщедривался, что и самсу с пловом мог заказать и весь выигрыш уходил на угощение.
Плотник Халил, глава большой, дружной и шумной семьи, жил почти на самом краю Афарикента. Обширный дом с квадратным двором построил его прадед Шакир. Может, и не прадед, предок, так будет точнее. Летом огромная чинара укрывала плотной тенью айван и хауз. Возле чинары мастер ещё молодым джигитом вырыл небольшой прудик, в котором купались дети. Сам он в сумерках частенько садился на край водоёма и, опустив ноги в прохладную воду, отдыхал, думая о смысле жизни. Этот крохотный бассейн был его гордостью. Халил изнутри выложил скромный хауз обожженной глиняной плиткой, и вода не просачивалась в землю, мешаясь с глиной. Она оставалась чистой, хоть пей. Присмотрел он это чудо, работая в ханском дворце. Там большой, в сорок кари водоём с фонтанами, мастера выкладывали плиткой, разрисованной узором гирих. Присмотрел и повторил, однако плитка Халила была без узоров, невзрачная рыжая керамика, обожженная в печи и исправно державшая влагу. Отец довольно цокал языком и приговаривал:
– Хорошо, сынок! Молодцу и семидесяти ремёсел мало! – Халил таял от ласковых слов отца – скуп был на похвалы мастер Мурад.
В бестолково выстроенном доме можно было потеряться с непривычки. Поначалу, ещё при прадеде, стоял домишко в одну комнату на два окна, окружённый дувалом. Постепенно народу в семье становилось больше, добавлялись необходимые постройки – сначала мастерская напротив домика, потом балхана над ним, затем пристройки справа и слева. Сыновья вырастали, женились, подрастали внуки – вот и рос дом вместе с семьёй. Рядом с мастерской разместилась зимняя кухня – если летом во всех домах готовили еду на открытом огне, то дождливой осенью и снежной зимой это было не столько неудобно, сколько невозможно.
За зимней кухней притулилась кладовая. В ней рачительные хозяева соорудили ящики для хранения разных припасов – моркови, репы, редьки, свёклы. Рядком стояли хумы с мукой и крупами – фасолью, горохом, машем, рисом, пшеном. Эти огромные кувшины были вкопаны до половины в землю, так продукты не портились. На потолочных перекладинах висели грозди винограда, связки лука, чеснока. На полках в глиняных горшках с плотно приточенными крышками хранились сушёная зелень, кунжутное масло. Под самым потолком висело вяленое мясо.
Постройки в два ряда выстроились вдоль хауза и айвана. Разбитый под окнами виноградник был ровесником первому домику. Корявая лоза толщиной в руку взрослого мужчины щедро плодоносила. Каждый год по осени её тщательно подрезали, удаляя лишние побеги, чтобы на следующий год урожай был такой же богатый. Виноградные стволы поддерживали подпорки, поднимавшиеся выше балханы, отчего лозы свешивались в сторону айвана.
Основной доход семье приносила плотницкая мастерская, где работали все мужчины семьи – мальчики учились ремеслу у своих отцов. Ребёнка ставили к верстаку лет в шесть-семь. Поначалу им поручали что попроще – подай, принеси, подмети. Приучать детей к работе надо было исподволь, ненавязчиво, но строго. Халил помнил, как отец, мастеря замысловатую поделку, называл не только инструменты, шедшие в ход, но и то, как лучше сделать работу. Ата строго следил, чтобы каждая вещь лежала на своём месте, которое ей предназначено. Мурад не любил, когда его инструментом кто-то пользовался и даже близким друзьям-плотникам никогда и ничего не давал в долг даже на время. Он никого не пускал в свою мастерскую: сооруди свою и хоть танцуй в ней, а у меня тебе делать нечего…
Порядок, заведённый прадедом Тахиром, соблюдался неукоснительно – все инструменты лежали на полках в строгом порядке: пилы с пилами, ножи рядом с ножами, всё по размеру. Попробуй перепутать – подзатыльник или затрещина неумолимо настигали неумеху. Верстак должен быть всегда чистый. Если мастер видел опилки, стружки, мелкие обрезки, то неряху ждала чувствительная трёпка. И совсем неважным было то, что ученик, шагирд, это родной сын и ему от роду не больше семи лет. Мусор мешал работать, особенно если заказ был дорогой и срочный.
Опилки со стружками никогда не выкидывали, слишком ценным было дерево в безлесном Мавераннахре. Их сметали в ивовые корзины, потом разбрасывали подстилкой для баранов и коров в молхане. Навоз перемешивался с опилками и становился кизяком. Когда подстилка поднималась на две ладони, её резали на куски и вытаскивали для просушки на солнце. Кизяком не только топили очаг, некоторые из него строили кибитки, в них было тепло и сухо зимой и прохладно летом.
По правой стороне от входа, между двумя жилыми комнатами, расположилась мехмонхона, особое помещение, в котором никто не жил. Это была комната для гостей и для общей мужской молитвы, если те не отправлялись в мечеть. Земляные полы плотно утрамбованы и устланы тростниковыми циновками. Их меняли каждый год. Использованные не выбрасывали, относили в молхону. Семья Халила была не богатой, но и не нищей, поэтому поверх циновок полы везде были застелены паласами. В мехмонхоне красовался ковёр, приданое невестки Зумрад.
Многочисленные ниши в невысоких стенах забиты курпачами, ватными одеялами, пуховыми подушками. Полки предназначены для посуды, её изредка ставили на дастархан – это было приданое всех невесток. Здесь были расписанные нежнейшими узорами ляганы, латунные чеканные кувшины, блестевшие поддельным золотом, белые косы и пиалы с фантастическими цветами по бокам. Любопытный мог увидеть несколько стеклянных вазочек заоблачной цены. Кроме жены Халила, до них никто и никогда не дотрагивался. Стоит разбить такую, потом неделю не сядешь после внушения, сделанного хозяином. Перед гостинной – закуток, и лестница на балахану. Там спали дети.
Жилые постройки были отгорожены от сада невысоким дувалом. Огород больше похож на дикие заросли по берегам Акдарьи, настолько всё запущено нерадивым батраком Расулом. Халил мало понимал, как растить редиску и овёс, его жена и того меньше – семья жила плотницким ремеслом мужчин и рукодельем женщин. Там было место, где бездельничали батрак-подёнщик Расул и его помощник – безымянный, кривой на один глаз старик. Целый танаб земли буйно зарастал по весне сорняками. Плодовые деревья Расул по осени не подрезал, поэтому урюк и яблоки с каждым годом становились всё мельче и походили на крупный горох. Орех в обрезке не нуждался, поэтому плодоносил изобильно.
Халил весь световой день работал в мастерской и на задний двор почти не заглядывал. Расул день-деньской изображал кипучую деятельность, но с плачевными результатами: на участке с трудом можно было отыскать мелкую морковку, редкие посадки лука, чахлые побеги чеснока, кривые и горькие огурцы и немощную редиску. О том, чтобы выдёргивать сорняки или поливать грядки, Расул просто не задумывался – не прогоняет хозяин, значит, работой доволен!
Лишь куры были упитанные и неслись часто – Расул очень любил яйца. Баловал себя и своего кривого помощника печёнными в золе яйцами – до хозяйского стола расуловское лакомство доходило редко. Кривой сыпал проса и ячменя полной мерой, вода всегда была свежая и чистая. К двум коровам эти бездельники относились настороженно, а вдруг на рога поднимут? А следовало бы за полуголодное существование. Поэтому и молока давали эти несчастные так мало, что и говорить об этом не стоило. Коровы не тонули в навозе потому, что опилки и стружки засыпали часто, и Расул, проклиная коровьи лепёшки, вынужден был вычищать молхону.
За единственным хозяйским ослом Расул ухаживал тщательно – Халил на нём развозил заказы и всегда мог заметить, что осел не кормлен и падает от голода в пыль.
Кроме курятника и навеса для перепёлок здесь была и баня – большая редкость для отдельного дома, ею пользовались часто: грязь в любом виде и неприятные запахи плотник терпеть не мог.
У мастера Мурада и его жены Мунисы Халил был единственным сыном. Вон как у других – полон дом братьев и сестёр, а Халил один как перст. Отец мог бы жениться во второй раз и взять любую девушку из города, да и родители невесты согласились бы отдать свою дочь за известного мастера. Но Мурад не хотел второй жены, а в сыне души не чаял. Несмотря на это, во время учёбы лупил любимого сына нещадно. Так все мастера делали. Когда умерла ненаглядная Муниса, Мурад и тогда не женился. Он не подчинился своей матери Адлие, женщине властной и суровой. Язвительными шуточками и едкими насмешками прогонял неугомонных свах. Они бесполезно табунились возле приметных ворот с топориком, вырезанным на калитке.
Халил со временем превратился в искусного мастера, как отец, дед и прадед. Ремесло плотника надёжное и прибыльное. В хозяйстве без деревянных вещей не обойтись. Деревянные тарелки, ляганы и чашки служили не дольше года. Панджара, шкатулки, лаухи и многие другие вещи нужны были реже, но и стоили дороже. Давным-давно появилась в быту простых людей ложка.
Поначалу не прижилась обновка, многие косоротились – «что за диво-дивное, предки без ложек обходились, а мы должны их заветам следовать». Но ложкой удобнее жидкое хлебать, чем через край косы отпивать по глотку обжигающее варево. Мурад первый из местных мастеров стал вырезать ложки, красить их в разные цвета, для прочности покрывать лаком. Ложки пошли нарасхват. Некоторые заказчики, что придирчивей, так и вовсе ложки заказывали особенные, чтобы ручка была резная, и рисунок затейливый. А зачем тебе такой рисунок – у тебя гости на пороге стоят или в воротах ждут особого приглашения. Ты что, ложками своими перед ними размахивать станешь? Но Мурад только кивал, втихомолку подхихикивая над привередливыми заказчиками.
Халил был высоким и стройным, для своих тридцати пяти лет, мужчиной. От далёких согдийских предков он унаследовал каштановые волосы и светлые глаза. Такие светло-карие, цвета редчайшего янтаря, чуть ли не рысьи глаза, с мелкими тёмными крапинками у афарикентских жителей нечасто встречались. Нередко Мианкаль становился добычей разнообразных завоевателей. Пробежались по родным краям в незапамятные времена ахемениды, пешком протопали и осели на благодатной земле войска Искандера Двурогого. Спустя столетия примчались на конях арабы с чёрными глазами навыкате и ярко-красными губами.
Не обошли эти изобильные земли и последние, самые страшные захватчики – монголы. Вот они-то больше всех своего семени оставили среди местных жителей, и пошли рождаться чернявые и узкоглазые малыши. Но что поделаешь – ребёнок есть ребёнок, не давить же его в бешике? За триста лет после нашествия монголов всё перемешалось, но нет-нет, да и пробьётся сквозь напластование завоевательских приземистых тел стройный согдийский стан. Халил никогда не обращал внимания на то, что глаза у него другие и кость у̀же, а волосы светлее – на всё воля Аллаха!
Голову, как предписывает Коран, он брил, а бороду и усы оставлял, иногда подравнивая их ножницами. Руки у плотника не были руками ремесленника – с длинными, тонкими, но сильными пальцами – такие могли и гвоздь, вколоченный в доску по самую шляпку, легко вытащить и согнуть. Но заказов у мастера было много, так что не до баловства. И Халил без устали резал дерево особым ножом, предназначенным для создания замысловатых узоров. Да, много на своём веку он сотворил разнообразных вещей, от работы никогда не отлынивал. Мастер понимал, что он глава большой семьи. От его мастерства и усердия зависит, будет ли в казане мясо или придётся его детям давиться жидкой пшённой похлёбкой с сухой лепёшкой.
Детей им Аллах послал на удивление много – Карим, Саид, Гульчехра, Ситора, Айгуль, Ойниса и самая маленькая – Умида, которой едва исполнилось два года. Тяжёлая сердечная боль мучила Халила, когда последний их ребёнок родился мёртвым, а перед ним ещё и мальчик, не прожив двух дней, умер. Жена убивалась по умершим детям, но Халил знал, что не многим так везёт в жизни – семеро детей здоровы, красивы. Карим и Саид помощники в мастерской, не просто помощники, готовые мастера. Старшие дочки удачно выданы замуж. Карим нынешней весной женился на соседской девчонке. Семья небогатая, но уважаемая, а девушка красивая да кроткая. Вечером, когда все усаживаются за обильный дастархан, да ещё двоюродный брат с женой и ребёнком – словно свадьба во дворе.
Халил любил красивую одежду, но в Афарикенте никто из ремесленников не стремился выделиться ею. Зеркала в доме не было, уж очень редкая вещь, но латунный поднос услужливо отражал зрелого привлекательного мужчину в расцвете лет! Халил носил простые белые куйлаки и штаны-иштон – широкие шаровары, сужающиеся к щиколоткам. Куйлак все мужчины подпоясывали платком – кийикча. Выйти без него на улицу значило опозорить себя на веки вечные. Свёрнутый в жгут платок можно развернуть и использовать при случае вместо молитвенного коврика.
Что и говорить – одежда много говорила о человеке, но вот человек не мог сказать: «У меня новый кийикча, посмотрите, братья, он сделан из бархата и украшен серебряными бляшками!» Человек посмотрит, сплюнет и скажет: «Хвастун, он и есть хвастун». А не скажет, так подумает. Да и некогда мастеровому человеку одёжей гордиться. Гордиться надо умением своим, ремеслом, которое от деда-прадеда перенял. Но когда мастер отправлялся в чайхану или на той – ему нравилось надеть что-то особенное. Зумрад старалась угодить мужу и обшивала куйлаки по вороту узорчатой тесьмой. Соседки с завистью поглядывали на зеленоглазую красавицу – такой славный муж ей достался, какой заботливый, а главное – кормилец и опора семьи. Сплетничая, трезвонили о том, что глянуть не на что, худая и приземистая, одно хорошо – детей рожает каждый год.
Да и то сказать – детей в мусульманских семьях рождалось много, сколько Всевышний посылал. Но выживали не все, многие умирали, не дожив до года. Причины были самые разные. От злого кашля, от горячки, от жидкого поноса, от того, что у матери молоко пропало, а от коровьего у малыша животик вспучило. Вот и росли у ремесленников и дехкан по два-три ребёнка, но люди и этому несказанно радовались. Хуже было, если женщина была неплодная, её муж мог отправить к родителям и потребовать калым обратно. Хотя кто знает, жена неплодная или у мужа не всё хорошо. Народ, особенно молодые джигиты считали, что виновата женщина. «Большинство тех, кто войдет в огонь Ада, будут женщины»11. Такая женщина и родителям не нужна – ходила несчастная в прислугах у всей семьи до самой своей смерти.
Халила отец женил в 917 год хиджры в месяц мухаррам, едва тому исполнилось семнадцать лет. Мужчины могли жениться, лишь накопив денег на калым, лет после тридцати, а иногда и под сорок. Выкуп за невесту был такой, что некоторые так и оставались бобылями. Но Мурад был прижимистый, скупой хозяин, почём зря деньгами не сорил, берёг каждый фельс. Знал, что не всегда бывает работа, не все заказчики расплачиваются вовремя и сполна. Кроме этого его мать Адлия, старшая женщина в доме, была скаредной с длинными, загребущими руками. Но и она не могла переспорить сборщиков налогов, которых называла саранчой. Все в округе знали, что речь идёт о мехтаре и его помощниках.
Да и налоги такие, что сто раз подумаешь, прежде чем захочешь ещё один верстак в мастерской поставить или нового ученика взять. А придёт помощник мехтара да начнёт считать – никакая грамота не поможет понять, почему такой большой налог с крохотной мастерской и одного танаба земли? Всё вымеряет, всюду свой длинный нос сунет, в каждый хум заглянет, каждый кусок земли, засеянной клевером, посчитает, и окажется, что должен ты больше, чем заработал! Третья часть заработка, а иногда и половина уходила на многочисленные налоги! Мурад частенько размышлял, куда же идут налоги, но придумать ничего вразумительного не мог. Стены вокруг Афарикента жители чинили сами. На бегар неукоснительно собирали ремесленный люд, когда на неделю, а когда и на две. Чистить арыки и восстанавливать плотины следовало каждый год. Люди приходили со своими кетменями, лопатами, заступами, со своей едой, так на что же налоги шли? Лишние вопросы никто не задавал, а любопытные вскоре после своих досужих расспросов обнаруживали, что должны куда больше тех, кто скромненько помалкивал.
Адлия нашла своему внуку жену при дворе Джанибек-султана, правителя Кермине, где она иногда читала Коран на женской половине. Грамотных женщин в Мианкале было раз-два и обчёлся. Мурад не спорил с властной матерью, а Халилу было всё равно, на ком жениться: у молодых никогда согласия не спрашивали. Тесть был не великим беком, всего-то десятник охраны, но на виду у начальников.
Зумрад была вышивальщицей, её-то и углядела Адлия, несказанно удивив родственников тем, что нахваливала будущую невестку словно родную внучку. Редко кто мог добиться похвалы от старухи: для этого надо было пролезть в игольное ушко! В приданое девушка принесла в дом мужа не только положенное по соглашению свах и родителей, но и несколько мутов шёлковой, золотой и серебряной нити. Весь остальной приклад – иглы, многочисленные крючки, пяльцы, ножницы и разнообразные принадлежности вышивального ремесла были у неё на загляденье.
Кроме всего этого, у Зумрад был напёрсток. В маленьком серебряном колпачке для защиты среднего пальца было множество крохотных углублений, чтобы игла не соскальзывала и не колола руки. Напёрстком в Афарикенте никто из вышивальщиц не пользовался. Считали неудобной обузой для рук и ненужным хвастовством. А вот те, кто хоть раз побывал с караваном в Китае, рассказывали, что там напёрстками пользуются не только вышивальщицы. Некоторые богачки специально их надевают на пальцы для того, чтобы беречь длинные ногти. Женщины, болтая и сплетничая, изумлялись – а ногти-то длинные зачем? Ни казан не помыть, ни в огороде с длинными ногтями не покопаться! Но кто их, китайцев этих, поймёт? Может, и врут люди, сочиняют невесть что, а потом втихомолку смеются над доверчивостью слушателей.
Невесте едва исполнилось четырнадцать лет, но обычай гласит – месячные очищения начались, значит, можно становиться чьей-то женой, выходить замуж и рожать детей. Её отец, десятник Гайрат, был доволен, что дочка уходит из султанского дворца от повес, желающих превратить его единственную дочь в наложницы. Девочка была приятной наружности, искусная рукодельница, а ещё у неё были зелёные глаза, которые никогда не встречались у узбеков. Но прабабка Зумрад была саклаб, славянская полонянка, от неё и унаследовала в четвёртом поколении дочь Гайрата эти глаза и белую гладкую кожу. Иметь такую наложницу не зазорно даже беку, поэтому десятник торопился пристроить дочку. Хотя насчёт калыма спорил до хрипоты целую неделю. В конце концов любящий отец успокоился: дочка была определена в порядочную семью, а не стала игрушкой и недолгим развлечением для пожилого развратника.
Халил увидел жену лишь на свадьбе, влюбился сразу, окончательно и бесповоротно. Одаривая жену в брачную ночь золотыми серьгами, на которые не поскупился отец, он заверял Зумрад:
– Вы – сердце моё, вы – моя кровь, вы – моё счастье до конца жизни. Обещаю, что никогда не возьму вторую жену, вы всегда будете моей единственной женщиной. – От молодой страсти он мог наобещать чего угодно, но обещание своё нарушать не собирался. Хотя был молод, хорош собой и свахи намекали, что такому молодцу одной жены маловато, – мастер лишь посмеивался в ответ.
Халил разговаривал с женой на «вы» не только при чужих и при родственниках, но даже наедине! Многие мужчины забывают уважение и «тыкают» жёнам, но, если ты сам жену не ценишь, относишься к ней с пренебрежением, кто тогда будет к ней относиться с подобающим почтением?
Зумрад обращалась к мужу, как полагается, – с уважением и почитанием, свекровь стала ей второй матерью. Муниса видела, что зеленоглазой девочке не очень уютно в новом доме – и неловко, и страшновато. Ласковая свекровь только год пестовала свою невестку. Умерла Муниса внезапно и странно: легла вечером спать, а утром не проснулась. Но Зумрад стала старшей на женской половине спустя долгие годы – буви Адлия крепко держала вожжи хозяйства в сухоньких ручонках, покрытых старческими веснушками. Она ушла к порогу Аллаха, когда у Халила с Зумрад было четверо детей.
Мастер Мурад пережил свою любимую на три года – осиротел Халил, осиротела Зумрад, осиротела вся семья, но незыблемой была Адлия-буви, которая покинула бренный мир через два года после смерти старшего сына Мурада.
Спасали от тоски по ушедшим родным дети. Первым у Зумрад с Халилом родился мальчик, которого назвали Каримом. Потом дети рождались почти каждый год, крепенькие и для молодых родителей самые красивые. Зумрад тосковала: ни у одного из детей не было её глаз.
Вскоре ещё одна смерть посетила дом теперь уже мастера Халила – умер его дядя, весельчак и балагур Рустам, пережив мать на пять лет. Таких людей Зумрад никогда не встречала – по вечерам, сидя на айване, Рустам рассказывал сказки: про Ходжу Насреддина, про Алдара Косе, про Бадала-богатыря, про бая и казия, бая и батрака – все не упомнишь и не перечислишь. Откуда он столько сказок помнил, никто не знал, и рассказывал он их смешно и живо: вот глупый бай хочет, чтобы двор блестел, и батрак выливает на землю всё льняное масло, баю убыток, а батраку хоть бы что.
Кроме сказок Рустам рассказывал нелепые истории из своей жизни, все как на подбор небылицы, но такие, что дух захватывало. Окружающие покатывались со смеху, когда дядя в очередной раз сочинял сказку про коня с золотым седлом, который пришёл к ним во двор и ни за что не хотел уходить. Никто этого коня и в глаза не видел. Однако Рустам уверял, что конь был, только никто не смог его разглядеть, поскольку конь волшебный. Увидеть его может человек, ни разу в жизни не совравший… Как его углядел Рустам-лгунишка, было великой тайной!
Рустам часто сиживал в чайхане, рассказывал желающим послушать весёлые измышления о своих воображаемых подвигах и путешествиях. То расскажет, как он простым засапожным ножом смог убить каракала в камышах недалеко от дома, когда огромный котяра набросился на него. Шкуру того каракала сберечь не смог, сгнила почему-то. То сочинит, что в него влюбилась дочь бека и очень хотела выйти за него замуж, но злые братья увезли её на край света, чтобы помешать его счастью… Куда увезли – ему неведомо, а то бы пешком пошёл за ней.
То придумает, как гулял на свадьбе у султана, которому выстругал невиданный по своей красоте лаух, величиной с арбу. Это какая же книга для такого лауха впору будет? Весёлый был человек. И его рассказы никому вреда не приносили, но никто и не относился к нему серьёзно. Знали, что Рустам соврёт – недорого возьмёт! Работал Рустам неохотно, словно не две жены и шестеро детей в доме жили, а сам-два, и кормить и выдавать их замуж – не его забота. Ещё когда Рустам был мальцом, дед Шакир бил его смертным боем за враньё, за сказки непотребные, за лень, но ничего не могло выбить из его сына масхарабозскую дурь.
Но правду сказать – был он лёгким человеком, чувствовал себя счастливым и все окружающие относились к нему как к неизбежному добру. И ещё заметили люди: много уж лет прошло со смерти Рустама, а развесёлые рассказы, при жизни веселившие народ в чайхане и на улице, обрастали уж вовсе несуразными подробностями. Они становились сказками, которые по вечерам рассказывают друг другу на айване. А некоторые и вовсе примеряли на себя эти истории: Халил как-то услышал от молодого гончара, живущего за две улицы от них, как тот ураком убил каракала, забредшего из пустыни на водопой к Акдарье. Народ смеялся – уж очень была эта история всем знакома. Седой арбакеш попенял гончару:
– Ты, бола, ещё и на свет не родился, когда эта история уже произошла. Может, ты ещё и про лаух расскажешь или про пришедшего в твой дом длинногривого коня под бархатной золототканой попоной,? Давай, давай, если сам придумать не можешь, так хоть рассказывай правильно! Не про урак речь шла, а про засапожный нож…
Незадачливый сочинитель не обиделся, смеялся вместе со всеми, а потом, давясь от хохота и сгибаясь в поясе, сказал:
– Уж больно история занятная, смешная. Да я и каракала никогда в жизни не видел. – Отсмеявшись, гончар смущённо потупился.
Тут уж смеялась вся чайхана!
– Ой-бой! Каракал – это такой зверь, у которого восемь глаз в четыре ряда на морде. А хвостов у него три: один – на врунов, другой – на жадных, а третий – на тех, кто на чужих жён засматривается! – Каждый старался вставить что-то своё.
– Да нет, каракал, он в воде живёт и рыбу ест, ты не знал? А если рыбы нет, то и лягушками не брезгует!
Так и жила память о Рустаме, вроде и никчёмный был человек, а воспоминания о себе оставил. Такие люди нужнее воздуха и лучшее снадобье от тягот жизни.
Жены Рустама исправно рожали ему девочек. Юлдуз и Хадича жили дружно, что было удивительно – редко две жены могли спокойно смотреть друг на друга. Но чтобы поверять друг другу секреты и помогать во всём – про такое отродясь никто не слыхивал. Эти женщины были совсем разные: степенная, высокая, под стать мужу, Хадича. И Юлдуз – полненькая, круглолицая, смешливая. Они любили Рустам за добрый и лёгкий нрав, за занятные истории, за внимание и щедрость. Никогда весельчак не возвращался домой с пустыми руками, и если приносил подарки, то обязательно обеим поровну.
Сын у плотника Рустама был один. Ильяс характером и повадками больше походил не на своего отца, а на амаки Мурада. Зато дочки у Рустама – как виноградины в грозди: крепенькие, пухленькие, голосистые, певуньи, но на людях скромные и приветливые. Рустам весело выдавал своих дочек замуж – Мунира, Максуда, Миасар, Мукаддас и Мухаббат в своё время вышли замуж. Да не за каких-то бездельников или четвёртой женой в прислужницы, а первой, любимой и часто единственной.
Несмотря на свою кажущуюся безалаберность, Рустам слабоголовым не был и понимал, что родниться и выбирать мужей для своих голосистых красавиц надо с умом. Ну что толку будет от того, что дочка выдана замуж, главное смотреть, за кого выдана? С грустью вспоминал поговорку: «Замуж идёт – песни поёт, а вышла – слёзы льёт». Не хотел злой участи для любимых девочек. В их двор часто заходили свахи, а Рустам шутил в чайхане:
– Если я буду с каждой свахи, которой показал на ворота, брать по одному фельсу, то смогу до конца жизни вовсе не работать!
Сказать, что это была правда, нельзя, но слова были близки к истине. Свахи такой народ, ломятся в любую калитку, за которой есть девочки, вошедшие в возраст невесты. Всё ради вознаграждения за удачное сватовство – бывает такое, что на покупку коровы может хватить. Когда пришла пора выдавать замуж Мунису и Миасар, родившихся в один год, но от разных его жён, он уверял всех в округе, что выдаст их замуж только за братьев. Чтобы жили любимые дочурки в одном дворе, поскольку разлучаться девушки не хотят. Но в Афарикенте не было такого дома, в котором бы два родных брата не были женаты. И весь город, затаив дыхание, выжидал, как Рустам сможет осуществить свою мечту.
Самым забавным было то, что он и не собирался выдавать дочек за братьев. Муниса и Миасар жили как кошка с собакой. В отличие от его жён, друг друга терпеть не могли, ревнуя своего любимого отца ко второй матери. Об этом мало кто знал, а если и знали, то благоразумно помалкивали, боясь попасть на острый язык Рустама. Балагур хотел, чтобы его разговоры дошли до если не богатых, то хоть бы не до убогих побирушек. Так и случилось: к Мунисе посватался тридцатилетний Сардор, кузнец, а к Миасар – его сосед Надыр, старше и зажиточнее. Хумы нужны в каждом доме, а их Надыр изготавливал великое множество. Для торговли он имел дукан на афарикентском базаре. Почему оба были неженаты, никто не знал. Свахи от них пришли вместе, в два голоса расписывая, что женихи живут рядышком, сёстрам не нужно будет далеко бегать в гости.
Рустам для вида вздыхал, прилюдно сокрушался, что дочери выходят замуж не за братьев, но шуткой своей был доволен. То, что женихи в два раза старше своих невест, его не беспокоило – самостоятельные люди и вторую жену взять не захотят: молодая жена всю душу из него вынет своим юным пылом! У сестёр согласия на замужество тоже не спрашивали, и поселились они после свадебного тоя по соседству. С годами непонятная вражда пропала, а когда пошли дети, то стали роднее родных.
Удачнее всех беспечальному отцу удалось пристроить Максуду. Рустам приметил, что Урман, владелец ювелирной мастерской, не женат. Солидный ремесленник торговал не одними дешёвыми медными и латунными колечками, были у него и золотые украшения. Потолкавшись в караван-сарае, Рустам доподлинно вызнал, что ювелир скуп, живёт со старенькими родителями. Расул вспомнил любимую поговорку матушки Адлии: «Бедный во многом нуждается, а скупой во всём» и решил, что больше всего Урман нуждается в жене.
Его совсем не беспокоило, что скупец вроде бы жениться не собирается. Рустам стал наведываться в дукан к ювелиру, поначалу покупал пустяшные украшения, дарил их жёнам-подружкам. Затем принялся покупать дорогие не только серебряные, но и золотые украшения. Но их жёнам не отдавал, а продавал проезжающим купцам, иногда с выгодой. Урмана же он уверял, что все эти ценности он покупает в приданое своей дочери, для которой ищет достойного жениха. Ювелиру было невдомёк, что его нагло обманывают и дочерей у Рустама больше, чем тому хотелось, а приданое за ними самое незавидное. Когда Урман-ювелир посватался, то Рустам ему заявил, что большого приданого дать не может, так что на горы золотые ювелиру рассчитывать нечего. Бедняга, помня, сколько золотых вещей купил у него Рустам, только затаённо улыбался, соглашаясь на всё.
После свадьбы его постигло жестокое разочарование, поскольку ни единой золотинки ему жена в приданое не принесла. А он так рассчитывал, что все его золотые украшения к нему вернутся и при случае он сможет их перепродать. На вопрос зятя, куда делось золото, Рустам коварно процедил сквозь зубы:
– Я тебе золота целый кап отдал, а ты спрашиваешь, где золото? Да моя дочка не просто золото, она чистый рубин в золотой оправе! А золото, которое я у тебя купил, я за другой дочкой отдаю, уж очень она у меня худенькая! – На самом деле Мукаддас не была худой, она пошла в мать и была такой же высокой.
Поначалу Урман злился, но Максуда с должным уважением относилась к его старикам-родителям. Была послушной, вкусно готовила и через положенное время родила ему двойню – мальчиков, чернявых, крикливых наследников. Впоследствии сам ювелир, рассказывая историю женитьбы и качая мальчишек на коленках, смеялся над собой, приговаривая:
– Не хвались, что сноровист, а то простак облапошит.
Замужество Мукаддас могло показаться странным, но только на первый взгляд. Она действительно была высокая и выглядела старше своих лет. В четырнадцать лет, когда на некоторых девчонок и матери ещё не смотрят как на невесту, к ней уже сватались, пытаясь залучить в дом высокую и, судя по всему, выносливую работящую девушку. В отношении Мукаддас Рустам ещё не придумал никакого способа замужества, но в дом пришли сваты от мираба города, Сулеймана, ищущего невестку. Рустам был в растерянности, стал советоваться с женой, которая всегда была на его стороне и поддерживала не только все его шуточки, но даже его безделье её не смущало. Хадича справедливо рассудила:
– Месячные очищения начались? Начались! Тогда нечего в девках сидеть, и жених не старый, лет двадцать пять ему, и после отца тоже мирабом станет. А мираб это не какой-то там плотник или резчик. – Хадича мужа любила, но он так мало работал в мастерской, что, если бы не Мурад, давно бы пошли по миру с кашкульем!
Судьба Мукаддас была решена без участия Рустама. Хадича всё сделала сама: калым выторговала просто ханский, приговаривая, что её дочка несравненный алмаз, какого не только в Афарикенте, даже в Бухаре не найти. Но девочка долго привыкала к новой семье, всё время отпрашивалась у мужа в гости к маме. Эргаш, узнав, что его жене нет и четырнадцати лет, чрезвычайно удивился, но никому ничего не сказал. Молодой муж справедливо решил, что, женившись на этом взрослом ребёнке, он не может мешать девочке видеться с матерью.
Только последнюю дочку Мухаббат, гранатовое зёрнышко, бусинку из пояса не успел выдать замуж Рустам. Ушёл из жизни к порогу садов Аллаха. Но его жены и племянник Халил сделали всё для счастья сиротки. Мунши Фатхулла, случайно забрёл во двор Халила по плотницкой надобности, да и попал в плен красоты его племянницы. Халил был доволен – не будет на него сердиться дядя Рустам, когда они встретятся в садах Аллаха.
Сын Расула Ильяс с детства был неразговорчивым и замкнутым бирюком. Непонятно, как у балагура Рустама и хохотушки Юлдуз родился молчаливый и неулыбчивый сын. Решив его женить, плотник и думать не думал, какие несчастья ждут того в жизни. Выбирал плотник жену для Ильяса долго и придирчиво, не доверяя своим жёнам-подружкам. Сам ходил на смотрины, но отвергал всех невест: у той глаза узкие, у другой лицо слишком круглое, у третьей рост не вышел, четвёртая неумеха, у пятой ноги кривые. Где и как ему удалось разглядеть ноги невесты, было непонятно, поскольку платья у всех женщин и девушек были до щиколоток. Недостатки, выдуманные или существующие, сводили с ума всех афарикентских свах. Многие из них бросили гиблое дело и отчаялись получить подарки за удачное сватовство. Но ткачиха Зарина чем-то понравилась придирчивому отцу сразу. То ли своей скромностью, то ли тем, что приглянулась как очень умелая работница. Не каждая девушка может за ткацким станком сидеть целые дни напролёт!
Придя домой после очередных смотрин, приказал сыну отправить в дом ткача Анвара подарки и халву – знак того, что жених сватается. Так и появилась в их доме, дочка известного на весь Афарикент Анвара-ткача, маленькая, стройная, тихая и приветливая Зарина-ткачиха.
Смерть Рустама как громом поразила не только его жён – всю семью. Видимо, при всей своей безалаберности и под внешней беззаботностью Рустам скрывал чувствительное, легкоранимое сердце. Оно отзывалось на людскую боль, несчастья, горести, вот и не выдержало. Зумрад горько плакала, словно умер её родной дядя. Все дядюшкины сказки она запомнила и постепенно превратилась в умелую рассказчицу на вечерних посиделках под развесистой чинарой.
Обе дядины жены недолго зажились на этом свете – медленно угасали и чахли без своего любимого. Зумрад видела их заплаканными, потерянными, словно стержень из тела вынули и душу отняли.
Тихо и скорбно обе отошли в мир иной вслед за мужем.
Время взросления и зрелости Халила в Мианкале было неспокойным – последние тимуриды насмерть сцепились с шейбанидами, новыми захватчиками из Дашт-и-кипчака. В сражениях было не до чести и совести. Молодой Захириддин Бабур дошёл до того, что позвал себе на помощь кызылбашей, безбожников, которые убили в одном из сражений Шейбанихана. Но дядя Шейбанихана, Кучкунджихан, всё-таки выгнал Бабура из Мавераннахра и сел ханом в благословенной Бухаре.
Лишь после этого наступило затишье и дехкане с ремесленниками вздохнули свободнее. Новые правители-чингизиды поделили захваченные вилояты, назначили налоги, и всё пошло как раньше, при безродных тимуридах-барласах – дехкане гнули спины на пашне, а беки жирели с их работы. Халил опасался не за себя, а за семью, за родных и близких.
Джанибек-султан частенько воевал, а сменивший его Искандер-султан был правителем степенным, сражаться не любил. Он больше молился, а в народе получил прозвище Султан-дервиш. Злые языки утверждали, что он воевать не умеет. Поэтому всегда старается договориться вместо того, чтобы подпоясаться мечом и проучить наглецов. Халил старался не думать о том, что случится, если вдруг начнётся большая война. Он был мирный человек и никакого оружия в руках, кроме острого плотницкого инструмента, не держал. Не представлял, как можно убить живого человека, смотреть, как из того по капле вытекает красная кровь вместе с остатками жизни. Не баран же, человек, у которого есть жена, дети или старенький отец! Халил не был трусом, смог бы защитить себя и свою семью, но самому пускаться в войну никак не хотелось. Его дело – дерево, работа, жена, дети…
В один из жарких дней месяца шаввал на 932 год хиджры Зумрад ходила по базару, выискивая шёлковые нитки, стремясь найти товар подешевле. Нитки для вышивания нужны разной толщины, и мотки нужны полновесные, не пустышки какие-то. Некоторые купцы, чтобы товар выглядел внушительнее, наматывали нитки не на тонкую камышинку, а на деревянные обрезки, потому как продавались нитки не по длине, а по весу. Зумрад уже отчаялась купить что-то путное, а Саид, ходивший вместе с ней по рядам со всякой всячиной, всерьёз заскучал и подумывал, как вежливее сказать матери, что день не задался, и не мешало бы возвращаться домой.
Случайно мать с сыном столкнулись с табибом, частенько навещавшим их дом, чтобы в сотый раз заглянуть в драгоценную книгу, хранившуюся в семье. Тот вежливо поздоровался и с грустью поведал, что возвращается домой из караван-сарая от больной девочки, – родители умерли от морового поветрия, а девочка хоть и болела, но пошла на поправку. Но никого у неё не осталась, что с ней будет неизвестно… Караван ушёл без неё, не станут же караванщики задерживаться из-за какого-то ребёнка, тем более что платить за неё было уже некому… Жаль девочку, но на всё воля Аллаха. Зумрад слушала табиба и думала, что неслучайно произошла эта встреча. Она три луны назад родила мёртвого ребёнка. Всевидящий Аллах решил испытать её – как она поступит? Надо сказать Халилу и попросить его забрать сиротку к себе: такие дела не только люди похвалят, они Всевышнему угодны.
Табиб уже давно скрылся за каким-то дуканом, а Зумрад, уставившись невидящими глазами в пыль, перестала мечтать о нитках. Все её мысли крутились вокруг того, как поднести Халилу её задумку о необходимости приютить несчастную девочку в их доме. Как сделать так, чтобы муж захотел взять больного ребёнка в дом, но подумал бы, что это его желание. Мужчина – голова, но женщина – шея, и куда шея повернёт – туда и голова смотрит. Зумрад давно овладела искусством показывать мужу правильное направление его взгляда.
В тот же день после ужина и вечерней молитвы Зумрад, вместо надоевших сказок, унылым голосом завела печальную историю о несчастном ребёнке. Караванщики бросили больную девочку в незнакомом городе без друзей, родных, без денег и какой-либо помощи. Мать с отцом умерли, а больное дитё никому не нужно! Она так горестно вздыхала, поглядывая на Ситору, которую собирались выдать замуж, как будто представляла, что именно её дочка осталась где-то в чужих краях, покинутая всеми. Она даже всхлипнула два раза, вытирая слёзы кончиком головного платка. И Саид помог матери, сидя понурив голову, после каждого её слова повторял:
– Вот как бывает… Не приведи Аллах… Никому она не нужна… – Саид не видел эту девчушку, но, глядя на Ситору, живо представил её больной, лежащей на убогом топчане в нищенской кибитке в чужом городе. Он посмотрел на отца, перевёл взгляд на мать и жалостливо протянул: – Аллах милостив! Не дай Господь совершиться несправедливости!
Вся семья наперебой стала обсуждать, что же можно сделать, как помочь? А Зумрад притихла, прикидывая, всё ли она сказала и сделала для того, чтобы муж принял правильное решение? Халил, внимательно вслушиваясь в галдёж детей, поглядывая на всех своими рысьими глазами, спокойно сказал:
– Утром будем решать. Думаю, что один ребёнок нас не объест, если мы её в семью возьмём. Но родных надо будет поискать, есть же где-то дяди или тёти, бабушки и дедушки? Не с неба она свалилась: не бывает такого, чтобы в семье было только три человека. – Глава семьи сказал свое слово, и больше никаких разговоров.
Вот так и появилась у Халила-плотника и Зумрад-вышивальщицы ещё одна дочка, приёмная Лайло.
Девочке было лет двенадцать-тринадцать, она была худенькой и слабой, но выздоровела и потихоньку приходила в себя после пережитых страданий. Табиб часто заходил якобы для того, чтобы проведать болящую, а на самом деле всё читал и перечитывал драгоценную книгу Ибн Сина. Первое время девочка совсем не разговаривала. Зумрад даже подумала, что она немая, но оказалось, что Лайло, кроме кипчакского наречия, никакого языка не знала, что было крайне удивительно. В Мавераннахре даже шестилетние мальцы говорили на двух-трёх языках. Уж очень близко люди разных племён жили друг к другу, и если не все слова знали, то тридцать-сорок слов из других диалектов знал каждый. Халил, как и все в округе, свободно говорил по-кипчакски, но запретил домашним разговаривать на нём, чтобы Лайло быстрее научилась говорить на самаркандском диалекте и за короткое время освоилась. Та приглядывалась, прислушивалась и через некоторое время стала выговаривать слова на местном языке.
Голос у неё оказался низкий, бархатисто-переливающийся. Можно было подумать, что не девочка разговаривает, а у подростка голос
ломается. Вроде бы в платье, а голос как у парнишки. Его раскаты были приятны и необычны, словно майна перепёлку передразнивает. Платье, в котором девочку привели в дом, Зумрад приказала сжечь – вдруг какая зараза угнездилась. Переодели Лайло в обычный для всех наряд – длинное, украшенное узенькой тесьмой по вороту платье, доходящее до щиколоток. На голове яркий платок – мусульманка после восьми-девяти лет должна ходить в платке даже дома. По двору все ходили босиком, и только в зимнюю слякоть надевали хлопчатые носки и чорики, простую обувку из сыромятной кожи.
Никаких украшений у неё не было, и Зумрад на радостях, что девочка выздоровела, подарила ей крохотные серебряные серёжки с бирюзовыми глазками – для оберега. Бирюза самый полезный для здоровья камень. Сама проколола девочке ушки и очень удивлялась, что её родители не сделали этого ещё в младенчестве, – все дочки с рождения носили серебряные серьги, и только у Зумрад в ушах блестели золотые – подарок мужа на свадьбу.
Постепенно Лайло превращалась если не в красавицу, то по крайней мере в привлекательную девушку, не блиставшую броской красотой жителей Мианкаля, но обладавшей прелестью степного цветка. Невысокого роста, плотно сбитая, с маленькими руками и ногами и множеством чёрных косичек. Лицо у Лайло было круглое, как у всех кипчаков, но глаза не узкие, а широко открытые и довольно тёмные. Цвет ресниц и бровей разобрать было невозможно – она старательно намазывала их усьмой, объясняя это тем, что брови и ресницы у неё совсем некрасивые. Девушка не понимала, что красивого в ней не было ничего. Маленький приплюснутый носик, зажатый пухлыми щеками, терялся среди них. Привлекательными были лишь резко очерченный подбородок и яркие полные губы. На такую второй раз никто взгляда не кинет.
Некоторое время Лайло оглядывала всё хозяйство нового дома пытливыми глазами, будто прикидывала – где же она сможет пригодиться, да и пригодится ли вообще? Все обязанности в доме были строго распределены уже давным-давно по возрасту и по склонностям. Зарина кроме своего станка была главной в приготовлении еды – точно знала, что есть в кладовке. В каком хуме какая крупа и мука, в каком кувшине какое масло. Что из продуктов заканчивается, кого оправить на базар, что снять с огорода, что досеять на грядки. Следила за двумя подёнщиками, жившими на участке под навесом. Но для того, чтобы огород и участок приносили хоть какую-то пользу, у неё не было ни умения, ни терпения, ни характера. Расул с ловкостью масхарабоза всегда находил отговорки, если Зарина принималась отчитывать его за плохой урожай маргеланской редьки или жёлтой морковки.
Старшие дочери Халила, кроме того, что обучались рукоделию, помогали взрослым и следили за малышами, приучая их к полезному делу. Зумрад следила за всем остальным – именно так жили все большие семьи. Мужчины работали и зарабатывали деньги. Продажа тюбетеек, вышитых Зумрад, и полотна, сотканного Зариной, тоже была заботой мужчин. Принимали заказы, развозили их, торговались и торговали, искали заказчиков, показывая, что они могут делать. Но чаще всего не Халил искал заказчиков, а заказчики искали Халила. Люди в Афарикенте знали его отца, деда и прадеда как самых лучших резчиков по дереву.
Все с интересом ждали, что же выберет для себя Лайло. Зумрад её не торопила, понимая, что в новой семье, в чужом городе всё чужое, всё не так, как в доме у погибших родителей. Она вспоминала, что первые дни после замужества тоже была растеряна, но радовалась, что свекровь её поняла и не торопила. Да и по всем обычаям молодая жена целую луну носа из своей комнаты не высовывает. Зумрад с теплотой вспоминала, как буви Адлия и свекровь Муниса приучали её к новому очагу, к казанам, к тому, как надо себя вести, чтобы побыстрее привыкнуть к дому и хозяйству. Так и здесь: пусть осмотрится, не в гости пришла на посиделки; самое малое – до замужества, о котором ещё рано думать. Именно Зумрад и будет отвечать за приёмную дочь. Именно её будет благодарить или ругать будущий муж Лайло со всеми своими родственниками.
Никто не ожидал, что Лайло облюбует коров и неухоженный танаб земли. С коровами никто в семье не любил возиться. Молока они давали всего ничего, были худые, неповоротливые. И, несмотря на вроде бы усердную работу подёнщиков, коровы давали столько молока, что его хватало только самым маленьким детям в семье. Каждый хозяин пас коров где мог, ребятишки, что помладше, присматривали за ними. Но где накормить здоровую животину, если вся земля в округе на целый фарсаг распахана и засеяна необходимым? Поэтому коров держали в стойле, а кормили, чем придётся. К дехканской работе все без исключения относились как к чему-то недостойному – они-де ремесленники, и нечего им в земле ковыряться…
Как-то после утреннего чая Лайло, взяв урак и кликнув работников, пошла по берегу Акдарьи, скашивая всю траву, которую могла найти. Расул, ругаясь под нос, увязывал всё в огромные охапки, тащил на свободное место и разбрасывал по земле: так Лайло приказала. Сопротивляться он не посмел, девчушка тут же начинала ругаться трубным голосом заправского погонщика верблюдов. И пригрозила: не станешь слушаться, отцу скажу, что ты яйца втихомолку жрёшь.
Расул был уверен, что никто о его грешке не догадывается.
Часть скошенной травы самозванка приказала кинуть перед коровьими мордами. Тут же заставила почистить скотину от напластований опилок и навоза. Кривой безымянный помощник попытался отвертеться, но получил по спине увесистый удар. Этого бездельники не ожидали и гуськом отправились к старшей хозяйке – жаловаться. Зумрад долго смеялась, потом отправила обоих на задний двор, работать. И пригрозила:
– Хоть один человек нашёлся, который вывел вас на чистую воду. Не нравится – дорога из дома широкая. – Глядя на соседские сады, Зумрад давно поняла, что Расул немыслимый бездельник.
Но что делать – не понимала. А тут такое подспорье.
Взяв в руки скребки, два лодыря принялись чистить коров, совершенно не понимая, для чего это нужно. И делали это из рук вон плохо! Лайло, недолго думая, подняла увесистую суковатую ветку и помахала ею:
– Не будете работать, буду бить. И не смотрите, что я девчонка, я знаю, как это нужно делать. У нас в Оше было вот столько коров. – Она взмахнула двумя ладошками. – И я их всех с утренней молитвы до полуденной вычищала. А вы так мало коров не можете почистить. Так, ты за водой, отстоять надо, чтобы тёплая была, напоишь потом коров. А ты чисть коров, и один справишься. – Она так вертела палку в руках, что было ясно – будет драться. Совсем не больно, но обидно, что девчонка лупит. И никуда не денешься. Хозяйская дочка, хоть и самозванка приёмная.
Спустя неделю – новая затея Лайло, ещё более странная: ей зачем-то понадобились отруби. Хозяин мельницы, расположенной выше по течению Акдарьи отдавал отруби тем, кто молол зерно, так было заведено исстари. Отруби в бедных семьях чаще всего добавляли в хлеб, если нужда подпирала. В семье Халила так никогда не делали. Отруби он оставлял на мельнице, зато за помол платил поменьше. Совсем уж нищие свои горстки зерна на мельницу не носили, а мололи его в своих старых, допотопных зернотёрках. В их муке часто попадались пыль и мельчайшие камушки от зернотёрок. От этого мука получалась грубой и жёсткой. Но не помирать же с голоду. А тут Лайло говорит об отрубях. Она что, есть их собирается? Но нет, придумка у неё была совсем другая – в отстоявшейся воде она заводила болтушку из отрубей. Четыре мута на двухведёрное корыто, и приказывала поить коров. Те звучно тянули болтушку, судя по всему, для несчастных рогатых это было в новинку, но пришлось явно по вкусу. Расул выходил из себя от злости, работать-то ему, но перечить Лайло не смел. У приёмной дочки Халила оказались на редкость острый язык и тяжёлая рука.
Через некоторое время Расул, возмущённо бормоча под нос не очень хорошие слова, ковырял землю вместе со своим кривым помощником на необработанном участке, до которого у него в очередной раз не дошли руки. Лайло стояла рядом и, размахивая руками, что-то втолковывала ему, на смести кипчакского и самаркандского диалектов. Видимо, достаточно едкое: Расул морщился, но работать продолжал – палка со временем стала более увесистая. Наверное, впервые в жизни ему пришлось работать в полную силу, а этого он делать никогда не умел. Странно было видеть, как эта маленькая девчушка, опираясь на блестящий посох, командует взрослым мужчиной. Зумрад в очередной раз изумилась, когда на обработанном участке, несмотря на конец лета, появились всходы.
– Что это ты опять придумала? – Зумрад не хотела напугать девочку, просто никогда не задумывалась, что и от дехканской работы может быть какая-то прибыль.
– Я? Я не придумала. Я знаю, что зимой коровам еды мало. Надо морковь. Надо репу. Надо ботву. Надо много сушёной зелени. А Расул лентяй. Он плохо работает. Он часто днём долго спит. Я видела это, я будила его, а он ногами брыкал, пинался… И плохо молится.
Совсем лентяй. Даже палка не помогает. – Её топорный, грубый го вор усиливал впечатление от недовольства Лайло лентяем Расулом, лоботрясом и пожирателем печёных яиц.
В голосе Лайло было такое возмущение, такая обида, что Зумрад удивилась – девочка-то прижилась, прикипела к дому, болеет за дело, которое ей никто не поручал, за которое сама взялась.
– Хорошо, я скажу отцу. Пусть он решает. Но где найти хорошего работника? Хороший работник своё хозяйство имеет, он сам на себя работает. – Не женское дело, работниками заниматься.
– Да. Это так. Надо такого, который без дома, как я. Тогда будет хорошо работать, – уверенно пророкотала Лайло.
– Ну что ты, девочка! – Зумрад хотела возмутиться, но потом передумала. – Ты не без дома, ты же стала нашей дочкой. Зачем меня такими словами обижаешь?
– Я вас обижаю? Да как я могу? Я просто не очень умная. Я говорить не умею. Но знаю, что работать надо хорошо. Плохо работать и баран умеет. – Она смешно топорщила крашенные усьмой бровки, надувала губы и медленно шевелила пальцами, измазанными в навозе, стараясь показать, как баран работает, отчего Зумрад прыснула со смеху. Она представила Расула в виде барана и поняла, что Лайло совершенно права. «И как это я не досмотрела?»
Но недосмотрела она по простой причине – Зумрад полжизни прожила не просто в городе, а при дворе султана, там о дехканской работе никто никогда не говорил. Вторая половина её жизни пришлась на довольно обеспеченный дом плотника Мурада, хозяином в котором стал её муж Халил. А если и говорили изредка при ней о дехканах, то когда отец с нукерами ходил налоги собирать. И всё время рассказывал, что дехкане ленивы и вечно жалуются на то, что или засуха, или дожди не вовремя пошли, или саранча налетела! Откуда саранча? Никто её в глаза никогда не видел! Но дехкане держались за каждый мут зерна, за каждую вязанку клевера, за каждую курицу и никогда вовремя не могли заплатить харадж. Одно слово – бездельники. И в доме Халила участок был скорее необязательным подспорьем в хозяйстве, чем основным занятием. Теперь Зумрад поняла, что Лайло будет хорошей помощницей на их большом, но таком неухоженном участке земли.
Некоторое время спустя, немного помявшись и тщательно подбирая незнакомые слова, Лайло попросила Зумрад, чтобы на базаре купили соль. Не ту, которую в еду кладут, а каменную, что продают большими кусками. Зумрад не поверила своим глазам, когда увидела, как коровы, мыча, начали лизать эту соль, – они лизали её своими шершавыми языками, будто самое вкусное лакомство в мире! Через полгода коров было не узнать. Они стали гладкие, кости уже не выпирали по бокам подобно кривым хворостинам, а спрятались за слоем мяса. И молока после отёла они стали давать в два раза больше.
Лайло сама доила коров, а перед дойкой что-то шептала в их пушистые уши. Заговаривала их, что ли? Возле стойла было так же чисто, как в большом дворе. И сами коровы лоснились гладкими коричневыми боками. Молока хватало теперь не только для малышей, но и катык сделать, и для курта оставалось. Говорят, что курт привезли с собой монголы. Может быть и так, никто уже и не припомнит этого. Но белые шарики, скатанные из кислого молока и высушенные в тени, были едва ли не самым распространённым лакомством для детей и хорошим подспорьем для тех, кто отправляется в дальнюю дорогу, – сытно и жажду утоляет хорошо. Вкуснее курта, чем делала его Лайло, никто в их доме не пробовал. Когда Зумрад попыталась заговорить обо всём этом с Лайло, та только насупилась, а потом заплакала. Впервые почти через год после смерти родителей:
– Дома у нас были коровы. Много. Я их сильно любила. У них большие глаза. Теперь их мои дяди забрали. Наверное. Они жадные. Мастерская у папы была. Ковры делал. А я маме помогала. Мы молоко и катык продавали. И курт тоже делали. Мама моя научила меня этому. – Несколько слов – и вся жизнь!
В её гортанном голосе звучала застарелая боль, соединённая с печалью незабытой потери. У Зумрад сжалось сердце – она-то совсем не думала о том, что ребёнок ничего не забыл и страдает, мучается.
Может быть, её домой отправить?
– Лайло, дочка, может, тебе лучше домой уехать?
Та подняла на Зумрад заплаканные глаза:
– Вы меня гоните? За что? Я стараюсь работать. И разговаривать по-вашему учусь. Просто я глупая. Если надо, отправляйте. – Голос её дрожал. Даже низкие нотки в голосе стали дребезжащими и скрипучими, бренчали несмазанным колесом арбы. По щекам по током струились слёзы. – Но я не хочу. Здесь могилы моих родителей. Там дяди, они не добрые. Они бы никогда незнакомую нищенку в дом не взяли. А вы добрые. Не отправляйте меня. Пожалуйста.
Я ещё больше буду работать.
– Ну что ты, дочка, тебя никто не отправляет, просто я подумала…
Лайло порывисто схватила Зумрад за руку, прижала к своей груди и прошептала:
– Спасибо, матушка! – впервые так назвав Зумрад, она оставила всю свою прежнюю жизнь за порогом забвения.
Через три года заброшенный садовый участок и молхону узнать было невозможно. Народившихся телят не стали продавать, их выпоили неснятым молоком, кормили как на убой, и скоро они заменили старых коров. А там и новый приплод подошёл. Десяток баранов паслись на скудной растительности по берегу Акдарьи, но и им перепадали то репа, то морковка, то пучки клевера, который привольно разросся почти на половине делянки. Клевер косили каждые две луны, было бы побольше воды – косили бы каждую луну. Но воду надо было таскать из Акдарьи вёдрами. Тут уже вмешался Халил. Он видел, как работает эта девочка, и вместе с сыновьями соорудил чорхпорок, наполнявший большую бадью. Был ещё кусок земли, засеянный овсом, его косили и заготавливали на зиму. После овса тут же сажали капусту, чтобы место не пустовало, как говорила Лайло. Да что там пустовать – не было лоскутка с головной платок, который Лайло упустила бы.
После появления сироты в их доме, уже на другой год, Зарина перестала покупать на базаре овощи, зелень и фрукты, всё было своё. И ещё одна помощница появилась у Лайло – средняя дочка Зумрад полюбила задний двор, всё ей там было интересно: и коровы, и зелёные побеги плодовых деревьев, и засеянный клевером участок. Айгуль была младше Лайло всего на три года, но вся домашняя работа у неё валилось из рук, только что двор хорошо подметала. Расул и его безымянный помощник после очередной выволочки Лайло, разругавшись с хозяином вдрызг, сгинули, как дурной сон. Халил послушал Зумрад и Зарину, в один голос утверждавших, что таких лентяев на всём свете не сыскать.
Вместо них работал один пожилой, но ещё крепкий кипчак, найденный на базаре неугомонной Лайло. Пожилой мужчина сидел на корточках в толпе мардикёров, и никто из хозяев, нуждающихся в работнике, к нему не подходил – больно стар. Она поговорила с ним совсем немного и тут же доложила Зумрад:
– Хороший человек. Хороший работник. Одинокий. Вдовец. Дочки замужем. Сыновей нет, оттого и дом потерял. Кибитка на участке есть, там будет жить. Кушать с нами. Зовут Зия ака. – Тут она заулыбалась, показав ровные белые зубки, и добавила: – Очень работящий. Хороший человек, добрый. – Лайло показала глазами на собаку, которая жалась к ногам Зии. – Посмотрите, матушка, собака гладкая и не голодная, а ведь её каждый день кормить надо, поэтому я и говорю, что человек он добрый. Собака тоже в хозяйстве пригодится. Будет предупреждать, если чужой человек заберётся в сад. Или если мальчишки захотят отведать наши яблоки и орехи.
Зумрад удивлялась тому, как говорила Лайло – только по делу, ни одного лишнего слова. Фразы рублены словно тесаком, чёткие и короткие. В её окружении все старались говорить цветистым языком, добавляя какие-то красивости, яркие сравнения, от которых на сердце становилось легко и приятно. Хоть и неправда, а всё равно лестно! То соседка сравнит её с райской пери, то кудо скажет, что такой умной женщины свет не видывал. А уж дочки и сыновья просто рассыпались в похвалах. И муж красивых слов не жалел. А вот у Лайло словно заноза в языке застряла. Может, голоса своего стесняется, а может, ещё плохо язык знает. Но это не так. Втихомолку, скрываясь ото всех, Лайло сочиняла стихи, и все они были про её любимиц, про коров. Зумрад случайно подслушала, сначала рассердилась, стихи про коров! А потом поняла: что Лайло любила, про то и сочиняла:
Две коровы, два телёнка, и мычат они так звонко.
Я люблю смотреть на них, когда рядом нет чужих.
У коровы молоко, очень белое оно.
Подою корову утром, чтоб назавтра сделать курта.
Дети любят молоко, очень вкусное оно.
Если сквасить его днём, завтра станет катыком.
Зумрад хотела посмеяться над Лайло, но подумала и решила ни кому ничего не говорить – пусть сочиняет, если это ей помогает в работе. Несмотря на свой юный возраст, Лайло так хорошо справлялась с участком, что в дом стали заглядывать свахи, – такая работница в любом хозяйстве будет желанной. Лайло весь световой день возилась в огороде: полола, прореживала, поливала, ухаживала за плодовыми деревьями, подрезала, окучивала. Зия не отставал. Несмотря на возраст, работал так хорошо, что Зумрад решила платить ему больше на десять медных фельсов. Она безуспешно ломала голову – как удержать драгоценную работницу, чтобы из рук не уплыла? Может, за Саида выдать замуж?
Но совсем недавно Зумрад подметила, что уж совсем не по-отцовски смотрит на Лайло Халил. Вначале это опечалило её, она вспомнила обещание, которое муж дал на свадьбе – не брать второй жены. Но время текучая река, её любимый молод, а Зумрад уже тридцать пять лет. Именно в этом возрасте умерла Муниса, её свекровь. Если она умрёт, то Халил женится, это так же точно, как и то, что по утрам восходит солнце. Придёт в дом неизвестная женщина, всё добро, которое годами наживалось, достанется неведомо кому. Наверняка разлучница родит детей, а остальные побоку… А вот если Лайло?
Зумрад стала думать, мысли перескакивали с одного на другое. Теперь, когда в доме всё благополучно, можно иногда посидеть сложа руки, прохлаждаясь на женской половине. Она почему-то вспомнила историю появления в Афарикенте прадеда Халила, Тахира. Грустная история. Поучительная.
Место для дома, в котором жила теперь Зумрад, Тахир выбрал сам. Тогда Афарикент был значительно меньше. Ближе к мечети, к площади всё было застроено – мышь не протиснется. Прадеду пришлось строить дом на окраине, на берегу реки. Но места себе отхватил столько, что на усадьбу богатого человека хватит. Первое, что Тахир сделал, обнёс участок высоким дувалом. Две луны ломался на этой работе с тремя работниками, но дувал до сих пор нигде не обвалился. За его домом уже целая улица отстроена – что вдоль дороги, что напротив. В то время, когда был жив ещё Шакир, сын Тахира, вокруг города была построена оборонительная стена, так и оказался дом прадеда невдалеке от дворца султана.
В их махалле есть и мечеть, и маленький базар, и чайхана. По всей улице живут в основном ремесленники. Люди не очень богатые, но и не голытьба шалопутная, которая ни себе ничего сделать не может, ни людям пользы от неё никакой. Ремесленники люди работящие, богобоязненные, помогающие во всём друг другу. Прадед попал в Афарикент после того, как по Кермине в очередной раз прокатилась разнузданная волна ханских междоусобиц. Многие тогда потеряли не только кров, но и голову. Прадеду повезло, но из Кермине он убегал, в чём был. Хорошо, семью сохранил. Жену, троих сыновей и кожаный мешочек с двумя десятками таньга.
Денег хватило на купчую танаба земли да на первый, самый трудный год. Именно в тот год умерли его два сына, ещё маленькие, чтобы нагрешить, но достаточно большие, чтобы заболеть и оставить этот мир. Прадед Тахир работал не покладая рук, вставал с курпачи до света, ложился в темноте. Соорудил навес, под которым работал, мастерская появилась позже. Из инструментов на первых порах были пила да топор. Выстроил дом в одну комнату, посадил чинару и виноградник.
Его жена Халида, перенеся все тяготы поспешного бегства, даже в самые трудные случаи жизни могла найти слова утешения, подбадривала, а то и просто понимающе молчала. Как и муж она с утра до ночи работала, возилась с их тогда ещё маленьким огородиком. Низкий поклон соседям, поделились семенами. Лук, морковь, маш, фасоль, огурцы, райхон, редис дружно взошли по весне. Там же прижились три урючины, несколько яблонь, четыре дерева грецкого ореха и куст граната. Урожай с них ждали несколько лет, но плоды были вкусные и сладкие. Уже через год рядом с их домом, справа и напротив, выросли дома других ремесленников. Теперь уже Халида делилась с соседями семенами и советами. Где и что посадить, откуда лучше брать воду для полива огорода, и какой торговец может отпустить товар под честное слово, если денег нет.
Постепенно обрастали хозяйством: завели овец, купили корову, сын подрос и стал помощником отцу, и не просто помощником, а хорошим резчиком по дереву. От заказов на разную утварь, шкатулки, ларчики отбоя не было. В то время к основному дому были сделаны пристройки, а двор перестал выглядел пустым и бедным. Но прадед, помня о набеге, в котором было потеряно всё, свой достаток напоказ не выставлял. Хотя мог сделать и резные ворота, на зависть всем соседям, и узорчатую балхану.
Состарившись и вспоминая пережитое, Тахир часто рассказывал сыну и соседям, как в его дом в Кермине ворвались безбожники в драных халатах. Они набросились на немощного отца, вцепившегося в единственную ценную вещь – чеканный латунный кувшин. Когда Тахир вступился за отца, его самого ударили по голове камчой. Он без памяти свалился и уже не видел остального. А отца убили, убили за дрянной латунный кумган, оказавшийся дороже человеческой жизни. Хорошо, что ещё до разнузданного грабежа Тахир догадался спрятать жену и детей в яме за домом и завалить их хворостом, приказав молчать, что бы ни случилось. Так живы остались и жену не отдал на поругание. Видел он, как рыдали опозоренные женщины, как одна из них бросилась в воду и утонула, не вынеся надругательства. Как стиснув кулаки, плакали мужчины, но сделать ничего не могли. По счастью, закопанные деньги оказались целы. «Нет худа без добра», если бы его камчой не ударили до беспамятства и начали пытать – то неизвестно, смог бы мужчина смолчать и ничего не рассказать про жену, детей и деньги.
После гибели отца, собрав жалкие остатки, на которые не позарились воины доблестного султана из кипчаков, он с женой и малыми детьми пошёл куда глаза глядят. Горько было покидать родные места, но страшно оставаться в столичном городе. Опасно. Дошёл до Афарикента и понял, что нашёл свой дом! В саду, который цвёл и плодоносил вовсю, пока не пришёл Расул, вырыл неподалёку от дувала незаметный схрон, землянку. На тот случай, если придёт беда. Схрон ни разу не понадобился, но Аллах бережёт заботящихся о себе людей.
Зумрад знала про этот схрон, а ещё знала про место в дальнем конце сада. Там, в двух шагах от граната в сторону реки был закопан маленький глиняный горшочек с пятьюдесятью серебряными таньга. Она молилась Аллаху, чтобы он там и оставался и никогда не понадобился для бегства. Предусмотрительными были мужчины из рода Тахира. Рачительные хозяева и самые надёжные спутники жизни. Теперь надо сделать так, чтобы Лайло вышла замуж за Халила – тогда и умирать можно спокойно. Были причины думать о смерти – заметила Зумрад, что сердце у неё иногда покалывает, будто маленький гвоздик забивают крохотным, но тяжёлым молоточком. Женщина про болезнь никому ничего не говорила.
У Халила всегда было много работы. Чтобы праздно посидеть за болтовнёй и чаем об этом и мыслей не возникало. Но для жены у него всегда было время – посидеть рядом, поговорить о том, что в доме творится, кто заглядывал в гости в его отсутствие. Да мало ли о чём можно поговорить с женой и не просто женой – подругой, помощницей, любимой. Лишь об одной вещи Халил боялся не то, что заговорить, подумать страшился. О том, что приёмная дочка, работящая и упорная Лайло, вот уже сколько времени не даёт ему спокойно спать. Несмотря на усталость, ворочаясь без сна, он видел Лайло, видел не глазами, а всем своим нутром. Видел такой, какой она была, и не мог понять, как она лишила взрослого мужчину покоя? Невеликого росточка, приземистая, ширококостная, с маленькими, но крепкими ручками. Чёрные волосы заплетены в косички, тёмные зоркие глаза, высматривающие малейший непорядок, лицо смуглое и обветренное. Такую девушку красавицей, даже если захочешь, не назовёшь: нет в ней того, что есть в Зумрад и его дочерях. Неужели его привлекает молодость и персиковая свежесть? А может, то, что она день-деньской работает, не покладая рук?
Долгое время он не замечал Лайло – бегает по хозяйству, жена всё время хвалит её. Девчонка драчливая, работников выгнала, какого-то кипчака приютила, да с собакой. Их Халил терпеть не мог. Орёт на заднем дворе, если что не по ней, даже в мастерской слышно. Но Халил как-то пропускал мимо ушей похвалы, расточаемые Зумрад, считал, что так и должно быть. Приютили, кров дали, живёт в доме на равных с его родными детьми – неужто мало этого? Так и продолжалось бы, если не один совсем малозначительный случай.
Ранней весной Лайло натолкнулась на него, когда сломя голову по какой-то непонятной прихоти бежала на женскую половину дома. Бежала, ничего не видя, но в этот момент Халила обдало незнакомым
запахом – такого сладкого, притягательного аромата он никогда в жизни ни от кого не ощущал. Весь мир в единый миг перевернулся – мимо него пробежала прекрасная пери, за ней можно пойти на край света! В этот миг он влюбился! И в кого – почти в родственницу, дочку… Как неловко, как нехорошо. Справиться с собой Халил не мог. На Лайло почти не смотрел, зная, что, если лишний раз повернёт голову в её сторону, неизвестно, что может сделать. Но каверзное дело разрешилось самым простым образом, о котором Халил и мечтать не смел.
Тёплым днём, ближе к вечеру Зумрад, сидя на айване, вышивала тюбетейку на заказ. Заказ был срочный, тюбетейка была для дочери состоятельного уважаемого человека, муллы их мечети: девчонка была своенравная и капризная, а отец потакал всем её прихотям, словно она единственная дочь хана. Ребёнку было всего девять лет, но головной убор она заказывала с таким знанием дела, что Зумрад диву давалась:
– Мне нужен узор из алого шёлка, чтобы с золотой ниткой, и розы должны быть яркие, как мои губки! А впереди должна быть занавесочка из серебряных нитей с мелкими бусинками бордового цвета. Я хотела жемчужинки, но батюшка сказал, что мне рано драгоценности носить. И сделайте мне тюбетейку круглую, а не квадратную. Мы скоро поедем в Бухару, там меня познакомят с моим женихом! – голос у маленькой невесты был ворчливый и скрипучий, словно из озорства мальчишка-несмышлёныш по стеклу железным ножом скребёт. Зумрад заказ приняла, подивилась, что жениха с невестой знакомят заранее, но про себя решила, что одну из роз она вышьет подвявшей. Заметит своенравная девочка – придётся переделать, а не заметит, так пусть носит тюбетейку с изъяном, если сама такая.
Только она начала мастерить убогую розу, как на курпачу рядом с ней опустился Халил:
– Душенька моя, вы всё работаете, отдохните немного, отложите иголку в сторону и налейте мне чая – чай из ваших рук вкуснее, чем из рук ангела! – умел Халил угодить жене красивыми словами, ох как умел! Да не только словами, весь его вид – наклонённая фигура, ласковое прикосновение тонких длинных пальцев, широкая улыбка на красивом загорелом лице выражали не просто расположение, а почтение и трепет к любимой женщине.
Зумрад налила чай в пиалу и поняла – вот он, подходящий миг для непростого, трудного разговора. Подав чай, она решила начать издалека:
– Халил-ака, вы не хотите устроить жизнь нашей сиротки? Тут приходила женщина с Кушан-махалли. Спрашивала, не отдадим ли мы Лайло в жёны их старейшине? Ему всего пятьдесят два года, его жёны стары и уродливы, детей мало, и он хотел бы взять её четвёртой женой. – Зумрад затихла: сейчас решится, ошибалась она и напридумывала себе или муж действительно влюбился в Лайло?
– Жена, какой четвёртой? Вы что говорите? У него же и так четыре жены? Кем будет Лайло – наложницей, любовницей? Позор на наши головы? Что соседи скажут? Скажут, что продали сиротку на утеху старику, поживились с детских слёз? – Халил мгновенно забыл все красивые обороты речи и заговорил как строгий глава семьи: почему без его согласия важный разговор шёл, кто разрешил?
– Халил-ака, сваха сказала мне, что он разведётся со своей второй женой, и Лайло станет его четвёртой женой. Но считаться будет первой. – Зумрад поняла, что Халилу этот разговор неприятен. Он всех сватов, которые приходили в дом сватать девушку, выгонял. Нет, вежливо выпроваживал, говорил, что та ещё мала и ей рано замуж.
– И вы поверили? И не самому старейшине, а свахе? Да они соврут – недорого возьмут! Вы что, не знаете, что обещания до женитьбы – это снег у нас в Мианкале – ночью выпал, а утром от него ничего не осталось? – Чай остывал в его пиале…
Зумрад задумалась. После смерти двух последних детей она понимала, что не сможет больше родить здорового ребёнка. И так Всевышний одарил её сверх меры. Все дети, кроме последних, живы и здоровы, лишь внуков пока не хватает. Но она чувствовала, что больше ей не родить. Время жизни смотрит в сторону заката, лет ей уже тридцать пять, и она старуха. И месячные очищения – то есть, то нет…
– Поэтому я с вами и разговариваю, Халил-ака. Простите меня за настойчивость, но что нам с Лайло делать? Может быть, за Саида выдать, разница в возрасте небольшая, а что без приданого, так мы не обеднеем. И Саид её знает, в одном дворе растут. – А ну-ка посмотрим, что муж про Саида думает?
Халил нахмурился. Для Саида он уже присмотрел невесту, дочку мастера Хайдара. Семья почтенная, достойная. Живут на другом конце Афарикента, но не беда, реже молодая жена к матери будет бегать. На дочку Хайдара он обратил внимание, когда той было лет десять, и была она стеснительной и тихой девочкой, немного худенькой. Но выйдет замуж, родит и станет, как все, – кругленькой, где надо, а где не надо – пусть остаётся худенькой.
– Нет, жена. С Саидом я давно решил. Дочка Хайдара-каменотёса Бодам будет его женой, мы с её отцом уже и по рукам ударили.
– Вот как? Хвала Всевышнему! А приданное какое? Калым? Да и про дом для Саида мы ещё не думали… – какая невеста неважно, главное в сватовстве, чтобы приданое было побольше, а калым поменьше, – Зумрад не хотела больших расходов, поскольку свадьба старшего сына Карима вышла не такой дешёвой, как она мечтала.
– Калым – десять овец, одна корова, резные ворота, пять дверей. Денег тридцать таньга.
– Вай дод! Они нас разорить хотят? Мы за жену Карима отдали восемь баранов! И коров они не просили! И про ворота разговора не было! Деньгами десять таньга! – от возмущения Зумрад даже покраснела и повысила голос, что опасалась делать в разговоре с мужем.
– Точно, не просили. А всё почему? Потому что соседи наши, и не такие богатые. Дочке их было уже пятнадцать лет, взрослая, а не замужем. Не сватался никто, вы сами знаете. Дочек у них четыре штуки: мал, мала, меньше. – Халил взмок и всё боялся, вдруг жена догадается, почему он не хочет Лайло отпускать из дома.
– Приданое, какое приданое? – Лишь бы не согласился Халил на маленькое приданое, из-за желания породнится с Хайдаром-каменотёсом.
– Приданое хорошее. Двадцать курпачей новых, пять ватных одеял, три котла, пять ляганов, двадцать пять косы, сорок пиал, кумганы, пять платьев, казакины, жилетки, да и остальных мелочей не пересчитать. Два паласа и ковёр большой. – Выдавая замуж Гульчехру,
старшую дочку, Халил умудрился договориться с гончаром Суннатом, кудо: все расходы на свадьбу будут со стороны жениха, а с невесты только приданое.
Зумрад почесала переносицу, что было у неё признаком глубокого раздумья, вспомнила, что за неё отец взял пятнадцать баранов и деньгами двадцать таньга. Давно это было. Но в приданое она принесла неизмеримо больше: кроме ковров, паласов, курпачей, одеял, одежды и многого другого – своё искусство вышивальщицы. В молодости она была красавица, все в округе об этом говорили – матовая кожа, а не тёмная, как у узбечек. И глаза большие, зелёные, не зря Зумрад назвали. С длинными ресницами и бровями, что соединялись на переносице. Полные губы цвета распустившегося бутона розы, когда улыбалась – сверкали белые зубки. За красоту муж и любил. А ещё за ум. Зумрад всегда внимательно слушала, что муж говорит, думала, и только после этого отвечала. Не сразу тараторить начинала, как некоторые несдержанные трещотки.
– Дом для Саида построить – два хашара, один плов, – продолжил Халил. А родня Саиду нужна сильная, да и Хайдар-каменотёс доволен будущей роднёй.
– Муж мой, вы всё правильно говорите, а что с сироткой делать станем? Можно выдать за Селима с соседней улицы, сына Акмаля-водоноса… – нарочно вспомнила неповоротливого увальня, вечно полусонного и неопрятного. Знала, что Халил терпеть не может грязи и неряшества.
– Жена, вы сегодня к вечеру что-то плохо соображаете. Разве это ремесло – водонос? Воду носят люди, которые ни руками, ни головой ничего делать не умеют. У Акмаля-водоноса перепёлки хорошие, а голова пустая! Неужели вы думаете, что Лайло сможет жить в их лачуге после нашего дома? И едят они один раз в день, по вечерам. Кроме пшена с катыком, ничего нет, даже свежие лепёшки раз в неделю в аль-хамис. Вот уж точно, спроси совета у женщины – и сделай наоборот.
– Халил-ака, хочу вам что-то сказать, но не сердитесь враз. А почему бы вам самому на ней не жениться? – ошарашила Халила жена. И как всё хорошо разрешилось бы! Руки рабочие в семье останутся.
На калым не тратиться, лишь на подношение мулле, чтобы дал разрешение на брак, как-никак приёмной дочкой считается. И дом будет на кого оставить, если Аллах призовёт её к себе. Халил выпучил карие глаза и в недоумении воззрился на Зумрад:
– Вы в своём уме? – у него все кишки в животе скрутились в тугой узел, лоб мгновенно покрылся испариной. – Я же вам давал обещание – помните, никогда не приводить в дом второй жены.
– А вы и не приведёте, она и так у нас живёт! – Зумрад хитро улыбнулась, глядя на растерянное и родное лицо мужа – таким она его помнила, когда Халилу было семнадцать лет. – Я сама вас посватаю, соглашайтесь, ака-джан?
В дальнем конце двора играли дети. Две их дочки, которые определённой работы по дому не делали, а выполняли поручения старших. Младшая, пятилетняя Умида, старательно мела угол двора прутиками, сложенными в убогий веник. А та, что постарше, семилетняя Ойниса, делала вид, что вышивает: её бровки, выкрашенные усьмой, были насуплены, вместо иголки в руках она держала малую щепочку, вроде иглы и делала точные движения – вышивала! Внимательно за матерью присматривает, знатная вышивальщица выйдет!
Кроме этого она не забывала приглядывать за сестрёнкой:
– Смотри, в углу сор остался, гореть моей душе, кто же тебя замуж возьмёт, такую неумеху? – ругала сестрёнку по-взрослому. Умида послушно возвращалась на указанное место и опять начинала махать прутиками.
На другом конце двора возле очага хлопотали взрослые – жена Карима Гульшан, только три месяца назад пришедшая в дом, двенадцатилетняя Айгуль и Лайло – готовили ужин на всю большую семью. Руководила ими Зарина, жена Ильяса.
На дереве в клетках, прикрытых платками, стрекотали перепёлки. Воздух был тёплым, а не горячим, как в середине лета. Но Халилу стало жарко, как будто чилля уже наступила, и он целый день работал в своей мастерской. Перед глазами свежим абрикосом мелькнула Лайло. Он поднял глаза на жену и понял – та давно уже всё поняла про сердечную муку и всё за него продумала. Как ему было жаль её, когда умерли два их ребёнка! Он не успел их полюбить и не жалел о них, а вот о жене очень горевал – потихоньку от него Зумрад плакала всё это время, вздыхала и о чём-то упорно думала.
Так вот о чём! А может, и хорошо, может, и правильно? Всё в ру ках Всевышнего. А если нет? Если Господь послал ему искушение, а потом накажет? Как наказать Он-то уж знает. И мор может послать, и болезнь на детей, и неудачу в делах. На что решиться? Немного подождать с решением, а пока исподволь выспросить у муллы, что в таких случаях делать. Для себя Халил уже решил: «Женюсь», но жене говорить не стал. Да и не нужно было. Она всё поняла без лишних разговоров. Как-никак двадцать лет вместе, с полувздоха друг друга понимали.
– А что, жена, мы сегодня ужинаем или натощак спать ляжем? – у Зумрад отлегло от сердца, всё так, как она хотела. А уж приструнить сиротку в случае чего она всегда сможет!
Такой дастархан, как у Халила на ужин, у других ремесленников только по праздникам бывает, а они каждый вечер готовят еду с мясом. Не со свежим, конечно, так никаких денег не напасёшься, а с вяленым. Но мясо есть мясо, может быть, оттого и дети всегда веселы и здоровы. Машхурда удалась на славу, в меру жирная, густая, с индийскими специями. На дастархане лежали в лягане нарезанные огурцы, редис, пучки укропа, петрушки и другой зелени. В ивовой плетёнке – горкой свежие лепёшки. В крутобоких чайниках зелёный чай, на плоском блюде – орехи, грецкие и земляные, дети их очень любили. Всё со своего огорода, со своего сада. Отдельно горшочек с кислым молоком, Лайло чая не любила, а вот молока пила так много, что все остальные удивлялись – куда в такую маленькую девушку столько жидкости помещается?
Мысли Халила вертелись вокруг предстоящей женитьбы. Как соседи посмотрят на его поступок, как уже взрослые дети примут его вторую жену? Осудят? Трудно сказать, но решение принято. Он хозяин и сделает так, как считает нужным, объяснять никому ничего не станет. И что с приданым? Самому подготовить, а потом самому же им пользоваться? Но приданое-то делается на случай развода, чтобы женщина голышом из дома не уходила и при случае могла снова выйти замуж. Надо пристройку сделать для будущей жены, негоже двум женщинам в одной комнате жить. А Саид подождёт – невеста его ещё мала, всего тринадцать лет. Забот на полгода, если не больше, а на это время Лайло нужно переехать к его родственникам, ну хотя бы к гончару Суннату. И туда же потихоньку-полегоньку переправлять её приданое, чтобы люди знали, что Халил поступает по отношению к ней честно. Надо с караванщиками передать весть в Моголистан, поискать её родственников. Но не помнит Лайло, откуда она, из какого она города, вроде бы из Оша, а там кто знает? Надо послать весточку, надо!
Молодая луна успела состариться после памятного разговора, а дело делалось намного быстрее, чем думалось Халилу. Знакомые караванщики подрядились поискать родственников Лайло. Не бесплатно, конечно, а за два новых халата из бекасама. Безусловно, это очень дорого, но кто бесплатно ноги до коленей стирать будет, разыскивая чужую родню? С отцом Замира, Суннатом, договорились – будет у них Лайло жить гостьей на полгода. В самый раз после хаита и никах можно провести. Приданое для неё заказано такое, что и богатой невесте впору. Самый тяжёлый и дорогой разговор был с муллой. Меньше чем за пятнадцать таньга и новый ковёр для мечети тот не соглашался совершать никах. Но что поделаешь – хочешь на верблюде прокатиться, то сначала влезь на него.
Настало время отправлять Лайло к Суннату, и вот тут она, не зная, в чём дело, начала рыдать и причитать, чем переполошила весь дом. Она была остра на язык и могла себя защитить от любой напасти, а тут растерялась от неизвестности.
На женской половине стояла суматоха – непонятно было, что происходит, почему сестрица должна куда-то уходить. Может быть, натворила чего-то, что за странный и необъяснимый отъезд? Утром за чаем Зумрад сказала, чтобы Лайло собрала все свои вещи, потому что она будет жить у родителей Замира, Сунната и Озоды, подружкой Гульчехры. А сколько времени, будет зависеть не от неё. Сначала Лайло ничего не поняла, а когда поняла, то тихонько убрала за всеми посуду, накрыла чистыми полотенцами лепёшки, замолчала и ушла в сад – работать и жаловаться на несправедливость своим любимым коровам. Хрипло шептала себе под нос разную ерунду до полуденной молитвы, а затем заныла, заплакала и начала упрашивать Зумрад, чтобы её не отсылали из дома.
– Матушка, за что гоните меня, сироту несчастную, – причитала она в голос, стоя на коленях и обнимая ноги Зумрад. – Не прогоняйте, я ваша жертва навсегда! Матушка, я буду ваши волосы расчёсывать, мыть вам ноги. Я больше не буду за дастархан садиться, я буду прислуживать вам, только не гоните. Я умру без вас, матушка! – слёзы заливали её лицо, и она грязными руками размазывала их по щекам. Если кто ни разу не видел водопада – мог бы и посмотреть. Руки без конца теребили концы платка, грязного и вымокшего от слёз, глазки превратились в две щёлочки, сквозь которые мелькал недоумённый и обиженный взгляд.
По уговору Халил и Зумрад хотели сохранить тайну, не говорить, какие у них задумки насчёт Лайло, но сердце Зумрад не выдержало. Она усадила девчушку рядом с собой и, ласково поглаживая её по волосам, туго заплетённым во множество длинных косичек, завела разговор:
– Лайло, ты уже взрослая, пятнадцать лет исполнилось, месячные очищения начались давно, тебе замуж пора. Вот из дома Сунната и будешь замуж выходить. А я тебе приданое справлю. Родственников твоих мы хотим отыскать, уже людей послали.
– Матушка, спасибо вам! Спасибо Всевышнему, хвала Ему, услышал мои молитвы! – слёзы как по волшебству высохли, Лайло улыбнулась. – Простите меня, неблагодарную, я знала, что вы меня любите. А уж как я вас люблю – никто никого так не сможет любить! Вы меня спасли, когда я больная была. Вы меня не служанкой сделали в доме, а дочкой. Спасибо, матушка! – опять слёзы, теперь уже слёзы радости, покатились из её глаз. – Матушка, а мне позволено будет спросить?
– Спрашивай, дочка. – Зумрад догадывалась, о чём её хочет спросить Лайло. Знала, что скоро она эту девушку будет сестрой называть.
– Матушка, а кто у меня жених? Я знаю, что не положено знать, но вы никогда меня не отдадите в неуважаемую семью… Из какого места мой будущий муж? И почему из нашего дома нельзя? – что-то в низком голосе Лайло насторожило Зумрад, но она подумала, что девушка от радости голос потеряла. Просто переволновалась, расстроилась, а теперь в себя приходит.
– А вот этого тебе пока знать не нужно. Придёт время, всё узнаешь – нечего впереди арбы вместо волов бежать. – Лайло встала с курпачи, в пояс поклонившись Зумрад и опять зарокотала:
– Пойду батюшку поблагодарю, с братьями и сёстрами попрощаюсь.
– Вот и хорошо, беги, дочка. Саид уже давно запряг в тележку нашего ослика. А чего прощаться? Рядом живём, в гости всегда забежать сможешь, если Озода отпустит. Складывай в неё свои вещи и сама, словно ханша, поезжай к дому Сунната. Они там тебя уже ждут. Я тебя провожу да с Озодой поболтаю.
– Матушка, матушка! Всевышний вас благословит! Вы лучше всех на свете!
Переезд и устройство Лайло на новом месте прошло благополучно, она и в доме Сунната пришлась ко двору, вернее, к молхоне. Она не захотела просто гостить и бездельничать, а тут же побежала смотреть на коров. Конечно, заметила все недостатки и с воплями, криком и шумом стала наводить на заднем дворе свои порядки. Озода не могла нарадоваться на новую помощницу, даже работник Ульмас, неповоротливый толстяк, начал медленно, но верно худеть. Гульчехра гордилась, что у неё такая умелая и работящая сестрёнка.
Приходя к Зумрад посплетничать, Озода расточала цветистые похвалы Лайло, не забывая без конца напоминать, что это благодаря Зумрад та всё умеет, – видимо, совсем забыла, что до появления Лайло их с Халилом сад был самый заброшенный в Афарикенте. И всё выпытывала, за кого же Лайло выходит замуж. Но ни хитростью, ни похвалами, ни откровенной лестью ничего узнать не удалось – Зумрад твёрдо держала свой рот на замке. В самом доме обожаемые девушкой коровы и остальное хозяйство тоже не остались без присмотра. Айгуль научилась всем премудростям: и катык делать такой же вкусный, и ароматный курт не уступал тому, который делала старшая сестра.
К рукоделию Айгуль не имела никакой склонности. Тонкую иглу она держала в руке, как воин держит пику – крепко, всеми пятью пальцами, так что мать уже отчаялась чему-то научить дочь. Не в мастерскую же к мужчинам её отправлять? Так и не была пристроена девочка ни к чему. Но спустя некоторое время после появления Лайло зашла на задний двор раз, потом второй, а немного погодя стала помогать. Конечно, не всё сразу получалось, да и что с первого раза получится у десятилетней девочки? Хорошо было то, что ей по-
нравились коровы, она старательно повторяла всё за Лайло и через три года уже сама доила коров. В первый раз подоила смирную рыжую коровёнку под присмотром старшей сестры, а потом сама изловчилась. Зумрад успокоилась – любая работа, сделанная хорошо, это залог будущего благополучия в семье. И потихоньку радовалась, что не настаивала, чтобы Айгуль стала вышивальщицей. К этому ремеслу надо иметь склонность, талант и огромное терпение. Сама же Зумрад словно родилась с иголкой в руке.
Спустя две луны после достопамятного разговора пришли известия из Моголистана, и пришли они совершенно не в том виде, в котором их с нетерпением ожидал Халил. На пыльной улице перед домом Халила, перед приметными воротами, украшенными в углу калитки вырезанным топориком, появились двое мужчин, одетых, несмотря на жару, в толстые халаты и ичиги – ну как кочевники. Видно, что пришли издалека – халаты были покрыты степной пылью. На плече у одного был ковровый хурджун. Оба приземистые, круглолицые, с редкой растительностью на лице. Пахло от них как от кочевников – густо, терпко и нестерпимо противно. Постояв некоторое время за воротами, переговариваясь по-кипчакски, они постучали в калитку одновременно и железным кольцом и деревянным молоточком. На странные звуки выглянула Айгуль, навстречу которой дружно заулыбались круглые кипчакские лица.
– Ас-салому алейки, маленькая ханум! Здесь ли живёт достопочтимый мастер Халил-ака, знаменитый на весь Мавераннахр плотник?
– Ва-аллейкум ас-салям ва-рахмату-Ллахи ва-баракатух, почтенный ака, – уважительно прижав руку к груди и чуть склонив голову, ответила девушка. – Батюшка дома, только он в мастерской во дворе, проходите в дом, гостями будете. – Айгуль чувствовала себя и впрямь ханум, она поклонилась гостям, провела их к айвану и, усадив, побежала за отцом. Тем более что отвечала приезжим на арабском языке, как это было принято во всём Мавераннахре, оказав гостям уважение.
– Ата-джан, Карим-ака, Саид, дядя Ильяс, у нас гости в доме! – закричала она громко, чтобы все знали – это она их пригласила. Она первая оказалась у ворот и выполнила самый главный закон всех мусульман – закон гостеприимства. Но про себя поудивлялась: неужели гости не знают, что деревянным молотком к воротам приглашают женщин? От дома и от мастерской уже спешили мужчины, на ходу снимая фартуки и улыбаясь прибывшим.
– Ас-салому алейкуму, достопочтенные гости! Здоровы ли прибыли, издалека ли, садитесь на айван, здесь вам будет уютней! Удобно ли вам будет скинуть халаты, на улице довольно тепло? Как ваши родные, всё ли благополучно в ваших семьях? Нет ли какого неудобства, испытываемого вами? – Халил рассыпался в общепринятых фразах приветствия, а сам лихорадочно размышлял – надо последить за словами, чтобы невзначай чего лишнего не сболтнуть.
– Слава Аллаху, всё благополучно. – Гости, не чинясь, уселись на айване, скинув халаты с ичигами и от этого завоняв ещё сильнее.
Язык, на котором говорили в Самарканде, гости не очень хорошо понимали и хозяева тут же перешли на кипчакский, знакомый всем. На пересечении караванных путей жили и языки знали – не только свой, но также арабский и фарси, без этого никак. Гости оглядывали двор, айван, клетки с перепёлками, тандыр, дом с балханой, мастерской и калиткой, ведущей в сад, дружно и уважительно кивали хозяевам и своим мыслям. Виноград по летнему времени уже стал наливаться соками, изрядные кисти оттягивали лозу вниз, к самому дастархану. Видимо, осмотр гостей порадовал. Они вытащили из своих ковровых перемётных сумок лепёшки, положили на дастархан и, поджав под себя ноги, застыли невыразительно-сонными истуканами.
Снятые стоптанные ичиги остались стоять под айваном. От грязных ног гостей тянул такой удушливый смрад, что Халил невольно поморщился, но стерпел. Прочитав молитву, принялись за чай со сладостями. На дастархане были сушёный кишмиш, урюк, миндаль, орехи. Свежие, утром испечённые лепёшки, маленькая пиала с мёдом, халва и величайшая редкость – сахар, который ели только по большим праздникам. Беседу вели самую обыкновенную, какую ведут незнакомые люди, – о красивом городе Афарикенте, о вкусной воде, о чистом дворе – пустяшная беседа. Такая беседа преддверие серьёзного разговора. Халил недолго гадал, он понял, что это известия касающиеся Лайло. «Вот и славно, а то я уже беспокоиться начал и жалеть о двух халатах из бекасама».
Гости, отведав угощений и утолив жажду душистым зелёным чаем, поцокав языками, разговор о деле начали издалека:
– Давно, несколько лет назад, наш брат пошёл в хадж со своей женой и дочкой. Пошёл в Мекку, молить Всевышнего о том, чтобы Тот дал ему сына, но пропал по дороге. Мы ничего не знали о том, что с ними приключилось. Мы тщательно ухаживали за оставленным хозяйством старшего брата, за коровами, работали в его мастерской. Проходящие караванщики рассказали грустную историю об умершей семье в Афарикенте, о том, что многие паломники, заболев тогда, скончались в дороге. Мы и поминки провели, как положено. Но луну назад нас нашёл незнакомый человек и сказал, что наша племянница жива. Что живёт в доме Халила-плотника как дочка. Уж как мы обрадовались, как благодарили Аллаха, что Он услышал наши молитвы. И вас благодарим Халил-ака за то, что вы такой благородный человек, не обидели сиротку, дали ей кусок хлеба. За ней приехали, хотим забрать домой. – Всё было так, да не совсем. Не всю правду сказали братья, решили схитрить. Всё равно никто не проверит: они и раньше знали о том, что девочка осталась жива и была брошена караванщиками на произвол судьбы. Но не стали беспокоиться – может уже померла, зачем лишние траты, зачем искать?
Старший брат покосился на дастархан и, легко вздохнув, подумал про себя: «Как же, кусок лепёшки. Наверное, и мясо едят раз в неделю». Зависть – плохое чувство, Джалил это понимал, но поделать с собой ничего не мог. Всё имущество пропавшего брата они уже с Одылом поделили, да только от него ничего, кроме пыли не осталось… Найденную племянницу они решили с выгодой для себя выдать замуж. Насчёт калыма сговорились с уважаемым человеком в Оше. Правда, четвёртой женой, да и лет жениху уже давно за пятьдесят. Хорошо, что приданое за ней просят небольшое, сиротка всё-таки. А так поправят они с Одылом свои дела. Вовремя нашлась девчонка. Джалил думал, смотрел по сторонам и наконец спросил:
– А могу ли я видеть Лолу? – рассевшись хозяином на айване и напившись чаю с никогда не виданным доселе сахаром, он никак не мог вспомнить имя потерявшейся племянницы.
– Какую Лолу? – Халил от удивления поперхнулся чаем. – Вы, уважаемый, ошиблись, у нас никакой Лолы нет!
– Ой, простите, Лайло! Лайло, как же я забыл?! Так давно это было! Я её, маленькую, на коленке качал, играл с ней! – гость нисколько не смутился, но решил последить за языком, вдруг хозяин подумает, что они обманщики?
Халил досадливо нахмурился: проделать длиннющий путь за единственной племянницей, прийти в дом к людям, у которых три года жила твоя родственница с пустыми руками? Две сухие лепёшки не в счёт, такие во время хаита беватанам подают! Халил стал наливаться злостью.
Он не был жадным. Старался по мере возможности помогать людям, делился, чем мог. Но никогда не смотрел в сторону бездельников. Тех, кто придумывал для себя причины лодырничать. Терпеть не мог лентяев и попрошаек, жалующихся на жизнь и на внезапные, случайные никогда не заканчивающиеся неудачи! Считал, что каждый человек может хорошо жить, если у него есть голова на плечах, здоровье и умелые руки.
Досада на гостей росла с каждым мгновением – она складывалась от ощущения вони их грязных ног, от запаха никогда не мытых тел и потной одежды. Раздражение проистекало от всего их вороватого и хитрого вида. Но что делать, надо потерпеть, надо всё узнать и только потом что-то решать. И почему-то ему не верилось, что братья не знали, что племянница жива, – не верилось, и всё тут! Бросили как ветошь, а теперь прослышали, что она жива и здорова, живёт в состоятельной семье, оттого и налетели коршунами. Халил улыбался, как радушный хозяин, донельзя обрадованный приезду долгожданных и дорогих гостей, делая вид, что верит каждому их слову. Но злость, кипевшая в нём, не унималась. Хотя он и пытался, как мог, скрыть своё рвущееся наружу негодование и не показать своего раздражения. Грех, великий грех обидеть гостя в своём доме.
Карим и Саид уже начали готовить плов. Выбрали на заднем дворе несколько самых жирных перепёлок, быстро скрутили им головы, ощипали и выпотрошили. Они понимали, что разговор будет долгий и трудный, и хорошо видели раздражение отца. Братья догадывались, что неспроста сестрицу Лайло отослали к родственникам, – что-то готовится. Они тихонько переговаривались возле очага, готовя казан, нарезая морковь и лук. Все женщины находились в доме, к гостям не выходили, но Карим успел шепнуть жене и матери, что приехали родственники Лайло и, судя по всему, хотят её забрать с собой. На женской половине воцарилось уныние, но больше всех досадовала Зумрад. Сколько хлопот и всё зря! Приданое почти готово, а расходов-то, расходов, чтобы сгореть их душам! Она так привыкла к Лайло, что в действительности стала относится к ней как к родной дочери. С каким бы наслаждением вместо сахара и чая она налила им отравы, лишь бы не видеть эти хитрые рожи! Слишком хорошо всё складывалось, чтобы быть правдой!
Тем временем Закир по знаку отца пошёл топить баню. Вода в бане всегда была припасена. Как и дрова. Дело простое, им Закир занимался с семи лет, а теперь он был заправским банщиком, чем безмерно гордился. Баня стояла за низким дувалом в конце двора. Невысокое строение из трёх отделений, как и положено по учению Ибн Сина, – холодное, тёплое и горячее. В центре горячего отделения стоял большой котёл, под ним разжигали огонь, и от кипящей воды поднимался пар. Дым из бани отводили через глиняную трубу на улицу. В котёл кидали разные душистые травы, так запах от тела после мытья был приятный. Скамейки в бане были из дерева, на них пошёл дешёвый тополь, который быстро рос. Его рубили, а посадки регулярно возобновлялись. Топили баню кизяком.
Халил пригласил гостей:
– Джалил-ака, и вы, Одыл-ака, милости прошу с дороги в баню: смыть дорожную пыль и очиститься полным омовением. А тем временем моя жена сходит к родственникам за Лайло и приведёт её.
Кочевники, оказавшись в бане, смотрели на неё как на место изощрённых пыток, явно не понимая, для чего тратить столько кизяка и воды, чтобы совершить полное омовение. Пришлось Ильясу зайти в баню вместе с ними. Такого дикого и несуразного поведения Ильяс никогда не видел. Сначала братья никак не хотели снимать свою вонючую, пропылённую и грязную одежду. Потом поняли, что в рубахах и штанах мыться неудобно, тем более что Ильяс дал им передники, чтобы по обычаю прикрыть переднюю часть тела от пояса до коленок. После этого они не могли взять в толк, что ичиги тоже не для бани. Стаскивая их с ног, ворчали себе под нос, что они с детства полное омовение совершают при помощи песка, и ничего, живы до сих пор. Мыло ввело их в состояние ужаса, и они стали подозревать, что их хотят, если не убить, то отравить уж точно! Только после того как Ильяс намылил всё своё тело и стал растирать мочалкой пену, повизгивая от удовольствия, жители степей слегка успокоились и стали повторять все движения за Ильясом.
Женщины забрали из предбанника грязную и зловонную одежду братьев и замочили её в горячей воде, а вместо неё положили рубашки и штаны Ильяса. Лишь его одежда была впору гостям, остальные мужчины были рослыми и худощавыми. Рядом поставили кожаные кавуши. Что делать с их вонючими, стоптанными до тонкой подошвы ичигами, на которых не осталось ни намёка на узор, женщины ещё не решили. Может, купить им новые, а старые спалить? Но тогда от гадкого запаха перемрут все жители Афарикента.
Вода в тазах, поставленных перед братьями, сразу стала чёрной. Её Ильяс, стараясь не дышать носом, вылил на пол. По уклону она стекала в ложбинку у стены, а затем наружу. После второго намыливания врда посветлела, и только после третьего раза Ильяс кивнул. А вот ноги… Ильяс взял два небольших тазика, поставил гостям под ноги, налил в тазики горячей мыльной воды и попросил гостей подержать там свои ноги некоторое время. Затем достал ножницы. Это было преддверие гибели – в глазах братьев мелькнул откровенный ужас. Панические мысли забили их размякшие мозги: «Сначала помыли, а теперь убьют!» Ильяс показал, как надо остригать ногти на ногах и руках. Джалил дрожащими руками взял ножницы и попробовал остричь ногти на так и не отмытых до конца мозолистых руках – не получилось. Ильяс помог – показал на себе, что надо делать. Джалил внимательно наблюдал. И только с третьего раза ему удалось остричь свои жёлтые, обломанные и огрубевшие ногти. Одыл, глядя на старшего брата, справился намного быстрее. Ещё раз намылились, теперь уже с явным удовольствием, ополоснулись тёплой водой.
Братья думали, что их мытарства закончились, но не тут-то было. Ильяс достал с полки глиняный горшочек, в котором навёл густую мыльную пену, и острейшим лезвием тонкого ножа ловко сбрил обоим братьям волосы на голове. Дома для них бритьё было самым сложным, поэтому они брили голову раз в луну и после этой пытки оставались глубокие порезы, которые под малахаем начинали воспаляться и зудеть. А здесь ни один из них не испытал никакого неудобства. Братья даже не заметили, с какой скоростью их головы оказались похожи на перепелиные яйца.
Посидели в тёплом отделении, попили кисловатого шербета, потом перешли в холодное отделение, где оделись в чистые, пахнувшие мятой и райхоном рубахи и штаны. Джалил с завистью думал: «А чего им не жить так хорошо? Они не кочуют с места на место, и ножницы у них есть. А я ногти свои откусываю, когда мешать начинают, а на ногах просто ножом срезаю. Конечно, они городские, ремесленники». Лукавил Джалил, он никогда не кочевал, но от обычаев своих предков не отказывался. Про баню знал, но презирал тех, кто в неё ходит. В чайхане и по дороге к дому плотника они с братом слышали разговоры про Халила и его семью. Все горожане в один голос твердили, что семейство это не бедное.
Он не думал о том, что всё это – и сахар, и ножницы, и баня, и остальные приятные вещи – результат каждодневного упорного труда. Что ничего просто так Всевышний не даёт и с неба ничего по волшебству не падает! Джалил не мог, да и не хотел в этом признаться даже самому себе!
Зумрад улучила миг, пока гости моются в бане и не слышат их, чтобы пошептаться с мужем:
– Халил-ака, что делать? – Зумрад себе места не находила. Если не поговорить с Халилом и не услышать его ответы, она просто сойдёт с ума.
– А разве что-то случилось? Ну приехали родственники Лайло, ну погостят. Ну не такие, как мы думали, на всё воля Аллаха. Поэтому мы должны сделать так, чтобы гости остались довольны и поскорее убрались восвояси. – Халил говорил спокойно, но понимал, что без Лайло моголистанцы не уедут. Значит, придётся платить. Только бы понять, что для семьи будет лучше: уехать Лайло с дядьями или остаться в Афарикенте его женой? Вот испытание Аллах послал, вот чего он не ожидал, но боялся.
– Неужели можно гостей выгонять из дома, соседи осудят! Аллах никогда не простит! – Голос жены совсем потерял прежние краски, стал неживым, словно сухая трава зимой.
– А вас кто-то заставляет гостей выгонять? Мы их и так как па дишахов приняли. Напоили, накормили, баню растопили, одежду чистую нашли, подарили, потому что свою они уже надеть не смогут: Гульшан сказала, что их одежда расползлась, рассыпалась во время стирки! Что ещё нужно? Мы скажем, что Лайло засватали, но калыма не взяли, потому что бесприданница. Вот они и уедут. И что помолвку расторгать нельзя, жених уважаемый человек, обидится! Для человека, который дал слово и нарушил его, – это позор, харам, а мы это слово дали! Вы сейчас идите к Суннату, приведите Лайло и самого Сунната пригласите. Да Хамида с женой, а то некрасиво получится: у нас гости в доме, а наши кудолари в стороне! Вам по дороге будет. Да одни не выходите на улицу, Закира с вами пошлю.
Зумрад закивала: «Какой у меня муж умный, какой заботливый, какой предусмотрительный, обо всём продумал». Быстро накинула на голову большой платок поверх домашнего, сунула ноги в первые попавшиеся чорики и отправилась к Суннату. Благо, его семья жила недалеко, на соседней улице. По дороге завернула к родителям Гульшан, жене Карима, Хамиду и Максуде.
Лайло обрадовалась приходу матушки, но по её лицу поняла, что дома что-то неладное творится.
– Суюнчи с тебя, дочка, за тобой твои дяди приехали, радуйся! – Зумрад говорила оживлённым голосом, но сама внимательно смотрела, что Лайло скажет?
– Матушка, а как же мой жених, я никуда не хочу ехать. Я с вами останусь! – Лайло говорила несогласные слова и понимала – никто её слушать не станет, а сделают так, как решили. Если решили отпустить и позволить родственникам увезти её в Ош, то увезут! Она вспомнила своих дядюшек, люто завидовавших её отцу. Тому, что он старший в семье и был наследником дедушки. Тому, что отец валял добротные кошмы и ткал крепкие паласы на продажу и в их доме был достаток. Нет, не хотела она возвращаться в Ош – пыльный и некрасивый, без говорливой речки возле дома, заросшей по берегам плакучими ивами и камышом.
11
Хадис Сахих Муслима. Глава 1140.