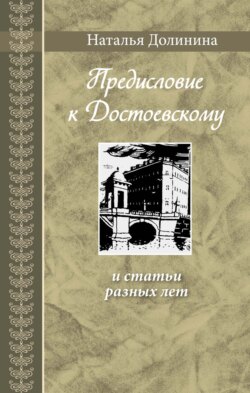Читать книгу «Предисловие к Достоевскому» и статьи разных лет - Наталья Долинина - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Предисловие к Достоевскому
Часть первая
Глава I. Старик и его собака
2. Фантастический мир Петербурга
ОглавлениеВо втором абзаце разговорный тон исчезает. Перед нами возникает один из главных героев Достоевского: город, Петербург. Вспомним ещё раз описание Петербурга, данное Гоголем:
«Но страннее всего происшествия, случающиеся на Невском проспекте. О, не верьте этому Невскому проспекту. Я всегда закутываюсь покрепче плащом своим, когда иду по нем, и стараюсь вовсе не глядеть да встречающиеся предметы. Всё обман, всё мечта, всё не то, чем кажется… Он лжёт во всякое время, этот Невский проспект, но более всего тогда, когда ночь сгущенною массою наляжет на него и отделит белые и палевые стены домов, когда весь город превратится в гром и блеск, мириады карет валятся с мостов, форейторы кричат и прыгают на лошадях, и когда сам демон зажигает лампы для того только, чтобы показать всё в не настоящем виде».
Петербург у Гоголя – живое существо, страшный, фантастический город-спрут, который губит всё человеческое, возвышенное, искреннее, как погубил художника Пискарёва в «Невском проспекте». Гоголь описывает город, пользуясь, как это ему свойственно, чудовищными преувеличениями: «гром и блеск, мириады карет», «сам демон зажигает лампы», но главное у него: город – живой, «он лжёт во всякое время», он ужасен, как чудовище.
У Достоевского город – тот же, и описание его, без сомнения, навеяно гоголевским: «Я люблю мартовское солнце в Петербурге, особенно закат, разумеется, в ясный, морозный вечер. Вся улица вдруг блеснёт, облитая ярким светом. Все дома как будто вдруг засверкают. Серые, жёлтые и грязно-зелёные цвета их потеряют на миг всю свою угрюмость; как будто на душе прояснеет, как будто вздрогнешь или кто-то подтолкнёт тебя локтем. Новый взгляд, новые мысли… Удивительно, что может сделать один луч солнца с душой человека!»
Да, это гоголевский Петербург, в нём те же «серые, жёлтые и грязно-зелёные дома» с их угрюмостью. Но описание Достоевского не так безысходно; в этом мрачном городе мелькает иногда хоть «один луч солнца», и в этом пейзаже присутствует человек, его душа, умеющая радоваться тому, что на мгновенье «улица вдруг блеснёт», «дома как будто вдруг засверкают». Так входит в роман тема человека и города, которая потом разовьётся в «Преступлении и наказании».
«Но солнечный луч потух; мороз крепчал и начинал пощипывать за нос; сумерки густели; газ блеснул из магазинов и лавок».
Этот Петербург уже, без сомнения, гоголевский, тот самый, где носы разгуливают по улицам в мундирах статских советников, а портреты выходят из своих рам; город, где не только могут, но и должны случаться «престранные», фантастические происшествия.
И, действительно, внезапно остановившись посреди Вознесенского проспекта, рассказчик почувствовал, что с ним «вот сейчас… случится что-то необыкновенное». И снова повторяет через несколько строк: «Например, хоть этот старик: почему при тогдашней встрече с ним я тотчас почувствовал, что в тот же вечер со мною случится что-то не совсем обыденное?»
Внешность старика описана подробно, очень подробно – с теми подробностями, на какие способен только Достоевский:
«Старик своим медленным, слабым шагом, переставляя ноги, как будто палки, как будто не сгибая их, сгорбившись и слегка ударяя тростью о плиты тротуара, приближался к кондитерской. В жизнь мою не встречал я такой странной, нелепой фигуры… Его высокий рост, сгорбленная спина, мертвенное восьмидесятилетнее лицо, старое пальто, разорванное по швам, изломанная круглая двадцатилетняя шляпа, прикрывавшая его обнажённую голову, на которой уцелел, на самом затылке, клочок уже не седых, а бело-жёлтых волос; все движения его, делавшиеся как-то бессмысленно, как будто по заведённой пружине, – всё это невольно поражало всякого, встречавшего его в первый раз».
Первая же фраза построена так, что в ней как будто и не сказано, что старик шёл. Между подлежащим «старик» и сказуемым «приближался» – три строчки, тогда как в обычае русского языка ставить сказуемое сразу вслед за подлежащим. Достоевский отодвигает его целой серией деепричастных оборотов: «переставляя ноги, как будто палки», «как будто не сгибая их», «сгорбившись и слегка ударяя тростью о плиты тротуара» – и только после всего этого: «приближался», то есть как будто и не шёл, а слабо, медленно, еле-еле двигался…
Читая это описание, мы не только видим перед собой странного, таинственного старика. Мы начинаем понимать и рассказчика: благодаря его точному взгляду, его метким замечаниям, мы проникаемся интересом и жалостью к старику. Ведь это рассказчик сравнивает старческие ноги с палками, он замечает сгорбленную спину, «мертвенное восьмидесятилетнее лицо», видит ветхость одежды: пальто – «разорванное по швам», шляпа – «изломанная», «двадцатилетняя»; обращает наше внимание на уцелевший «клочок уже не седых, а бело-жёлтых волос» и, наконец, прямо обращаясь к читателю, восклицает: «В жизнь мою не встречал я такой странной, нелепой фигуры!»
Но вот что мы узнаём, читая описание старика: «И прежде, до этой встречи, когда мы сходились с ним у Миллера, он всегда болезненно поражал меня». Значит, рассказчик видел старика и раньше, отчего же в этот вечер у него впервые возникло предчувствие, что должно случиться «что-то необыкновенное»?
Сам рассказчик объясняет это просто: «Впрочем, я был болен; а болезненные ощущения почти всегда бывают обманчивы». Но ведь и Раскольников в «Преступлении и наказании» чувствовал себя больным, был в бреду все те дни, когда решалась его судьба: превратиться в убийцу? исполнить своё решение или нет? дознаются люди или преступление останется нераскрытым? И, наконец, как избавление от бреда пришло решение сознаться в содеянном самому. Состояние нездоровья, полубреда свойственно героям Достоевского в решительные, трудные, переломные моменты их жизни, а в такие-то моменты писатель и показывает нам своих героев.
Так, может быть, рассказчик потому предчувствовал «что-то необыкновенное», что уже знал: в жизни его происходит перелом, наступает период событий стремительных, трагических и неизбежных?
Об этом мы скоро узнаем. А сейчас вернёмся к старику, направляющемуся вместе со своей собакой в кондитерскую Миллера, где уже не раз встречал его рассказчик. Портрет старика всё ещё не закончен: «Поражала меня тоже его необыкновенная худоба: тела на нём почти не было, и как будто на кости его была наклеена только одна кожа. Большие, но тусклые глаза его, вставленные в какие-то синие круги, всегда глядели прямо перед собою, никогда в сторону и никогда ничего не видя, – я в этом уверен… Лицо его до того умерло, что уж решительно ничего не выражает. И откуда он взял эту гадкую собаку, которая не отходит от него, как будто составляет с ним что-то целое, неразъединимое, и которая так на него похожа?»
Если внимательно прочитать всё описание старика, можно заметить: ничего фантастического в его внешности нет – оборванный, несчастный, очень старый старик, вызывающий жалость. Всё фантастическое – от воображения рассказчика: «тела на нём почти не было», и кожа его, кажется рассказчику, кем-то «наклеена» на кости, глаза – кем-то вставлены «в какие-то синие круги». И собака старика представляется рассказчику не только «гадкой», но странной, таинственной, похожей на своего хозяина и «неразъединимой» с ним.
Собаке посвящён целый абзац: её портрет тоже очень подробен, и в нём опять-таки прежде всего виден взгляд и слышен голос рассказчика: «Этой несчастной собаке, кажется, тоже было лет восемьдесят; да, это непременно должно было быть. Во-первых, с виду она была так стара, как не бывают никакие собаки, а во-вторых, отчего же мне, с первого раза, как я её увидел, тотчас же пришло в голову, что эта собака… не такая, как все собаки; что она – собака необыкновенная… Глядя на неё, вы бы тотчас же согласились, что, наверно, прошло уже лет двадцать, как она в последний раз ела. Худа она была, как скелет, или (чего же лучше?) как её господин. Шерсть на ней почти вся вылезла, тоже и на хвосте, который висел, как палка, всегда крепко поджатый. Длинноухая голова угрюмо свешивалась вниз. В жизнь мою я не встречал такой противной собаки…»
Ещё и ещё раз подчёркивая необыкновенность собаки (как и её хозяина), рассказчик сообщает: «…в ней непременно должно быть что-то фантастическое… это, может быть, какой-нибудь Мефистофель в собачьем виде…»
Как завершение, как вывод, описание старика и собаки заканчивается следующим предположением: «Помню, мне ещё пришло однажды в голову, что старик и собака как-нибудь выкарабкались из какой-нибудь страницы Гофмана…»
Гофман – немецкий писатель, романтик, сказочник, повести его полны таинственных чудес и фантастических превращений. Да, речь идёт о таинственной собаке, вызывающей в воображении то «Фауста» Гёте («какой-нибудь Мефистофель в собачьем виде»), то странные и страшные повести Гофмана, которыми зачитывались современники Достоевского. Но мне почему-то всё вспоминается другой Гофман, «не писатель Гофман, но довольно хороший сапожник…» – персонаж из повести Гоголя «Невский проспект».
В кондитерской Миллера, описанной Достоевским, собирались пошлые ремесленники, довольные собой и своими низменными интересами. Внезапно в этот мир пошлого самодовольства медленным, слабым шагом вошли старик и его собака.
Рассказчик не впервые увидел здесь этих посетителей. Оказывается, старик приходил в кондитерскую ежедневно: он «никогда ничего не спрашивал», даже газет не читал, не произносил ни слова, просто сидел «в продолжение трёх или четырёх часов» на одном месте, «смотря перед собою во все глаза… тупым, безжизненным взглядом», а собака неподвижно лежала у его ног. «Казалось, эти два существа целый день лежат где-то мёртвые и, как зайдёт солнце, вдруг оживают единственно для того, чтобы дойти до кондитерской Миллера и тем исполнить какую-то таинственную, никому не известную обязанность».
Благопристойный мир кондитерской не может долго выносить присутствие неблагообразного старика – столкновение неизбежно, и оно происходит. Один из гостей Миллера, «купец из Риги», почувствовав на себе неподвижный взгляд старика, сначала обиделся, затем возмутился и, наконец, вышел из себя: «…он вспыхнул и… пылая собственным достоинством, весь красный от пунша и от амбиции, в свою очередь уставился своими маленькими, воспалёнными глазками на досадного старика». Хозяин кондитерской почёл своим долгом заступиться за посетителя и, думая, что старик глух, громко и тоже с чувством собственного достоинства обратился к нему с требованием «прилежно не взирайт» на посетителя.