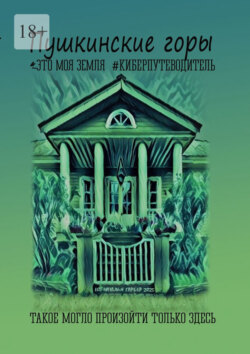Читать книгу Пушкинские Горы. Это моя земля. Киберпутеводитель - Наталья Гарбер - Страница 7
Россия глазами поэтов:
путь к оптимистическим литаниям XXI века
ОглавлениеМы не рождаемся,
ибо мы не хотим оторваться. От Бога.
Мы не ленимся и не спим,
мы наблюдаем и поем. Бога.
Мы не сближаемся и не созидаем,
мы эмигрируем. В Бога.
Мы не владеем и не утрачиваем,
мы парим. Близ Бога.
Мы не умираем, мы возвращаемся. К Богу.
Мы стоим на Земле в преддверии рая.
Мы, люди, сегодня стоим там – все.
В России просто это особенно ясно видно.
Осталось понять: зачем?
Точнее, для всех – what’s for?
⠀
Наталья Гарбер, стихотворение к сборнику «Россия глазами поэтов», 2013
Впервые я приехала в Пушкинские Горы в начале 2000-х на конференцию о любимом поэте. Обошла Петровское, Михайловское и Тригорское, постояла на берегу Сороти, окинула взглядом озеро Кучане – и поняла, что нашла для себя место силы. Приехав еще несколько раз, я написала о Пушкинских Горах поэму «Кантата мира» – о том, как исцеляет, раскрывает и возвышает меня эта земля. Поэма получила премию «Заветному звуку внимая» Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского и Союза писателей России в 2005 году, на награждении ее читала актриса Марина Александрова со сцены Большого зала Московской консерватории. А следующие десять лет я проводила лето в Пушкинских Горах и «себя под Пушкиным чистила», изучая его видение России и прилагая светлый гений первого поэта России к цифровой эпохе.
В 2005—2007-м я училась на Высших литературных курсах в мастерской литературного критика Евгения Юрьевича Сидорова, бывшего министра культуры РФ. В следующие годы вела Школу малой прозы и поэзии для детей и взрослых в Москве зимой и в Пушкинских Горах летом, где рядом со мной жила старушка с немецкими корнями, Ирина Вильгельмовна Вейс, которую я считала святой. От нее шел неземной свет любви к людям и вообще всем живым существам. Мы очень любили друг друга. Восхищенная глубиной сердечности старушки, я звала ее «моей Ариной Родионовной» и писала о ней стихи. Когда Ирина Вильгельмовна умерла в 2012 году, по ним поставила спектакль питерский театральный педагог Екатерина Громакова, чьих детей я учила писательству. Они показывали спектакль на Театральном фестивале «Лик» в Пушкинских Горах. Моя серия стихов памяти Ирины Вильгельмовны вошла в новеллу «Божий малинник» ниже, а видеозапись детской постановки вы можете найти по QR коду:
Эта серия – лауреат межрегионального конкурса «Вслед за путеводной звездой» Русского географического общества (2013) и международного конкурса «Дорога к храму» Союза писателей Израиля и журнала «Интерпоэзия» (2014).
В итоге в 2013 году я издала учебник «Как писать в XXI веке?» с примерами пушкиногорских новелл и стихов своих учеников. И поехала в столицу России пушкинских времен – Санкт-Петербург, чтобы под эгидой Международного писательского форума провести серию мастер-классов своей Школы и собрать коллекцию историй о культурном бренде нашей страны в рамках международного конкурса «Россия глазами поэтов». Отталкиваясь от пушкиногорского опыта и стремясь продолжить традиции первого русского поэта в XXI веке, я отбирала присланные из разных стран тексты, с наибольшей глубиной и силой говорившие о нашей земле.
Сборник сложился через полгода после моего интервью с Анхольтом в декабре 2012 года, стал ответом на его вопрос «What’s for?» о России – и вкладом участников конкурса в созидание светлого образа и пути в будущее нашей земли, которое я веду от гения чистой красоты русской поэзии – Александра Сергеевича. В числе финалистов было много участников моей Школы малой прозы и поэзии, а также ряд новых для меня русскоязычных писателей и поэтов. Всем этим замечательным людям я была безмерно благодарна за возможность собрать, как мозаику, единую оптимистическую литанию о современной России. И все-таки, запуская этот инновационный проект «на фоне Пушкина», я не ожидала, что сборник произведет на меня сильное впечатление. Все-таки уже довольно много прочитано и, объявляя любой конкурс, понимаешь: Толстого и Достоевского мы не дождемся, а о новом Пушкине даже не мечтаем. В русской литературе давно уже не золотой век, и даже не серебряный. Даже бронзовый вроде прошел.
Однако когда я собрала работы финалистов в их внутренней, родовой, национальной логике, то «сквозь магический кристалл» увидела две вещи, впечатлившие меня: все истории были новеллами о преддверии рая, об ожидании его – и во всех был воздух надежды на лучшее будущее даже в самых темных обстоятельствах жизни. В книжку собрались народные гуляния и истории из родильной палаты, семейные легенды и описания русских земель, новеллы о городских бомжах и истории волшебной степи, поселковые драмы и деревенские заговоры, печали россиян и ностальгия эмигрантов. Весь этот живописный постмодерн и поэтический самоанализ как-то незаметно сошелся в единую, искомую мною оптимистическую литанию о совершенной – всезнающей и безусловной – любви, которая, по апостолу Павлу, «никогда не перестает». Вслушиваясь в гармонический хор авторов, я различила несколько показательных сквозных тем, приведших меня к созданию эпиграфа к сборнику, с которого начинается этот текст.
Ключевая тема России – травма. Она предстает родовой, унаследованной от предков, историей жизненной муки, и физической, полученной от несчастливого появления на свет и годами не залеченной врачами. Это тема социальной раны от людского безразличия возникает и в беспомощной роженице в суровом родильном доме, и в снах наяву неприспособленных к жизни непробивных людей, и в тихой погибели опустившихся страдальцев. Частью национальной травмы проявилась в этих рассказах тема смерти и забытья как средств избавления от жизни, в которой для бессильного сонма героев есть нечто невыносимое: им и родиться здесь тяжко, и родить муторно, а уж жить-то – просто неподъемно. Поэтому читателю становится легче, когда в сюжетах наконец возникает тот, кто твердо ведет машину с раненым, разгребая светом темноту и почти не тормозя на поворотах. Он дает надежду, что в этой литании мы все-таки доедем до дома со светящимся окном.
Второй сквозной темой оказалось одиночество в семье. Женское – прямое и ясное, необратимо разлучающее расхождением по сути и смыслу жизни, а также мужское, творчески осознающее свою внутреннюю эмиграцию. И наконец, комически отстраненное и обоюдное. Откуда и о чем это одиночество? Оно из земли, на которой мы живем, – и о нашей душе, являющейся частью общенационального и общемирового духа. Оно сквозит в ощущении утраты народом глубин и высот русской речи, в потере контакта интеллигенции с радостями задумчивой зимней и бойкой весенней природы России. Оно порождается юношескими ожиданиями и кризисами среднего возраста, чтением сказок детства и поэзии зрелости, романтикой каменных городов и сумрачным погружением в деревенские вечера. Одиночество настигает женщин, переживающих коротко живущих мужчин, творческих мужчин, ищущих свободы, – и всех возвышенных людей, живущих среди обычных.
Куда это нас ведет? К мучительным раздумьям об истории, гармоническим песням о родных городах, разделенной с провинцией тишине, цветущим полям, диким ритмам городов и нескончаемому дорожному путешествию. А еще – к веселому женскому хулиганству, воспетому Пушкиным творческому «тунеядству», заразительным пляскам и общению с чужими народами, которые оказываются порой ближе своего, к дауншифтингу из офисного рабства и мечтам о лучшей жизни.
Чем же успокаивается во всем этом волнении российское сердце? Вдохновенным пением лесов и полынным дыханием степи, приморскими просторами и путешествием по старым городам, небесной нежностью внутренней поэзии страны и земной нежностью ее стариков. Чем же на это откликаются поэты? Творческим желанием подслушать непрозвучавшее и выразить глубинное – объемно, безудержно, огнедышаще… и чуть слышно. Желанием, стоя на земле, наконец достигнуть неба, познать, как рождается поэзия, и пройти сквозь всемирный сумрачный лес, в котором заблудился когда-то Данте Алигьери в начале «Божественной комедии». Мечтой попасть в центр мира, ощутить в себе всю планету, найти колыбель жизни и источник всего сущего, – и наконец достичь того рая, на пороге которого Россия веками безнадежно стоит.
Что для этого нужно? Прочувствовать смерть как часть жизни, чтобы сделать свое поэтическое видение пронзительно острым и спокойно глобальным. И тогда можно увидеть Планету как часть Космоса – и благословить идущих за нами с надеждой, что у них все сложится лучше и счастливей. И пережить, наконец, чувство глубокого и гармонического – и музыкально-волнового – единства современного мира. Мира, кажущегося снаружи столь корпускулярным, разрозненным – и гибнущим от неразрешимого внутреннего конфликта. Это и есть оптимистическая литания.
Никому не расскажешь, как рождается поэзия, естественная как вдох и выдох, от которого омывается грозой тот самый сумрачный лес, возникает космическое обращение к любимому человеку на Thou, как к земному божеству, и оживает Россия, увиденная глазами поэтов XXI века. За мной, читатель, и Вам откроется истина: зачем Планете нужна Россия. И сквозь образ отечества прозреете Вы и what’s for живет человек на Земле.
В этом стремлении, издав сборник о России глазами современных поэтов, я поехала на лето в Михайловское, как обычно – «себя под Пушкиным чистить». Ибо в его солнечном гении надеялась найти ответы на вопросы, мучающие современников. В этом поиске оптимистической литании XXI века душе моей настало пробужденье от общения с источником гения чистой красоты. И под крылом Александра Сергеевича я написала книгу, которая сейчас перед вами, – чтобы вдохновить себя и Россию на новый виток культурного развития страны и мира.
Пушкин – самое удивительное явление в русской культуре и огромный дар для человечества всей планеты. Поэтому моя книга о Пушкинских Горах – это трамплин для раскрытия гармонии культурного бренда России XXI века на мировой арене. Ключевая ее новелла показывает, как соединить ресурсы человеческого ума и сердца в заботе о себе, стране и планете. Она называется «Настройщик гармоний» и получила призы VIII международного мультимедийного фестиваля «Живое слово» при поддержке Роспечати (Большое Болдино) и межрегионального конкурса «Вслед за путеводной звездой» Русского географического общества в 2013 году.
Три новеллы о земле поэта – «Ливень», «Мишка Пушкиногорский» и «Ни-ни-ни» – вышли в журнале Союза писателей Москвы «Кольцо А». Журнал «Юность» опубликовал триптих историй о культурном бренде России «Одиссея Олександра Николаевича», «Пушкин, а Пушкин?» и «Коля Хлебный», снабдив его предисловием, в котором порадовался, что в XXI веке «появляется литератор, желающий поговорить с нами о Пушкине не как филолог, с литературоведческим апломбом, а как неравнодушный человек – о пушкинских ситуациях, интонациях, землях. Последним с нами так говорил, наверное, Синявский в своих „Прогулках“… Из каких же лоскутов соткан наш сегодняшний Пушкин? Мы пока помним, что Николай Васильевич оценил Александра Сергеевича как явление чрезвычайное, а Федор Михайлович добавил к оценке сей эпитет „пророческое“. При этом мы и Хармса пока не забыли: „Однажды Гоголь переоделся Пушкиным…“ Но памяти такой маловато будет. Писатель Наталья Гарбер в своих незамысловатых заметках пытается настроить нас на волну поэта, подводит к природной сути гения и обозначает приметы неиссякаемой, пусть и потаенной духовной жизни народа. Так же, как, возрождая после войны Пушкиногорье, его труженик-директор Семен Степанович Гейченко отыскал в свое время место снесенной часовенки в еловом лесу сельца Михайловского».
Остальные новеллы вошли в книгу «Тайные истории Пушкинских Гор», которую я издала – и надолго отложила, уйдя в изучение глубин и высот искусства развития планеты. Этот путь вернул меня в визуальное искусство. И, отвечая на вопрос «What’s for?» инструментами живописи и фотографии, я вошла в эпоху искусства с использованием искусственного интеллекта, которое позволило объединить искомые смыслы и образы в иллюстрации книги, лежащей перед вами.
И тогда я решила отредактировать и пересобрать истории о Пушкинских Горах как месте моей силы для серии «Это моя земля», опираясь на накопленный за жизнь опыт писателя, художника, педагога, коуча творческих карьер и специалиста по культурным брендам России. Я захотела по-новому удивиться культурному бренду нашей страны, стартуя от «солнца русской поэзии» – и самого удивительного феномена русской культуры – во вторую четверть XXI века.
В январе 2025-го я отредактировала и пересобрала книгу, намывая чистое золото любви к своей стране из потока сознания 2013 года. Повествование о самой поэтичной земле России завершает моя поэма «Кантата мира», с которой началось мое творческое осмысление Пушкиногорья как «своей земли». Собрав новую версию книги, я чувствую, как эта земля заиграла в ней всеми красками никогда не перестающей любви поэтических сердец к гению чистой красоты русской природы и культуры.
Сегодня Пушкинские Горы – место силы и «своя земля» не только для меня, но и для всех этих людей. Прозревая Россию сквозь собранные здесь воедино новеллы и стихи, я непроизвольно шепчу: «…и сердце бьется в упоенье, и для него воскресли вновь и божество, и вдохновенье, и жизнь, и слезы, и любовь». Это и есть ответ на вопрос, «What’s for?» Пушкинские Горы стоят на Земле. И мне очень интересно, что в наших оптимистических литаниях увидите Вы, читатель?
⠀
Наталья Гарбер
2005—2025