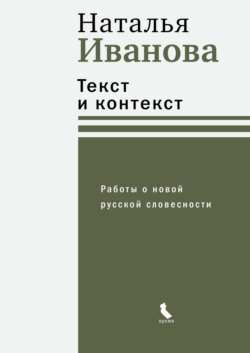Читать книгу Текст и контекст. Работы о новой русской словесности - Наталья Иванова - Страница 5
I. От больших надежд к утраченным иллюзиям
Юрий Трифонов. Забвение или память?
ОглавлениеПовесть Трифонова «Дом на набережной», опубликованная журналом «Дружба народов» (1976, № 1), – пожалуй, самая особенная его вещь. В этой повести, в ее остром содержании, было больше «романного», чем во многих разбухших многостраничных произведениях, горделиво обозначенных их авторами как «романы».
Романным в новой повести Трифонова было прежде всего художественное освоение и осмысление прошлого и настоящего как взаимосвязанного процесса. В интервью, последовавшем после публикации «Дома на набережной», сам писатель так разъяснял свою творческую задачу: «Увидеть, изобразить бег времени, понять, что оно делает с людьми, как ксе вокруг меняет… Время – таинственный феномен, понять и вообразить его так же трудно, как вообразить бесконечность… Но ведь время – это то, в чем мы купаемся ежедневно, ежеминутно… Я хочу, чтобы читатель понял: эта таинственная “времен связующая нить” через нас с вами проходит, что это и есть нерв истории»[19]. В беседе с Р. Шредером Трифонов подчеркивал: «Я знаю, история присутствует в каждом сегодняшнем дне, в каждой человеческой судьбе. Она залегает широкими, невидимыми, а иногда и довольно отчетливо видимыми пластами во всем том, что формирует современность… Прошлое присутствует как в настоящем, так и в будущем»[20].
Р. Шредер охарактеризовал художественный метод Трифонова как «роман с историей», и Трифонов определил эту характеристику как «очень меткую»[21].
Время в «Доме на набережной» определяет и направляет развитие сюжета и развитие характеров, временем проявляются люди; время – главный режиссер событий. Пролог повести носит откровенно символический характер и сразу же определяет дистанцию: «…меняются берега, отступают горы, редеют и облетают леса, темнеет небо, надвигается холод, надо спешить, спешить – и нет сил оглянуться назад, на то, что остановилось и замерло, как облако на краю небосклона». Это – время эпическое, бесстрастное к тому, выплывут ли «загребающие руками» в его равнодушном потоке. Но главное время повести – это социальное время, от которого герои повести чувствуют свою зависимость. Это время, которое, беря человека в подчинение, как бы освобождает личность от ответственности, время, на которое удобно все свалить. «Не Глебов виноват, и не люди, – идет жесткий внутренний монолог Глебова, главного героя повести, – а времена. Вот пусть с временами и не здоровается». Это социальное время способно круто переменить судьбу человека, возвысить его или уронить туда, где теперь, через 35 лет после «царствования» в школе, сидит на корточках спившийся, в прямом и переносном смысле слова опустившийся на дно Левка Шулепников, потерявший даже свое имя («Ефим – не Ефим», – гадает Глебов. И вообще – он теперь не Шулепников, а Прохоров). Трифонов рассматривает время с конца 1930-х годов по начало 1950-х не только как определенную эпоху, но и как питательную почву, сформировавшую такой феномен уже нашего времени, как Вадим Глебов. Писатель далек от пессимизма, не впадает он и в розовый оптимизм: человек, по его мнению, является объектом и – одновременно – субъектом эпохи, то есть формирует ее.
«Да, – замечал Трифонов, – само собой разумеется, человек похож на свое время. Но одновременно он в какой-то степени, каким бы незначительным его влияние ни казалось, – творец этого времени. Это двусторонний процесс»[22].
Трифонов пристально следит за календарем, ему важно, что Глебов встретил Шулепникова «в один из нестерпимо жарких августовских дней 1972 года», и жена Глебова аккуратно выцарапывает детским почерком на банках с вареньем: «Крыжовник 72», «Клубника 72» (ср. Клио-72 в «Нетерпении»).
Из горящего лета 1972 года Трифонов возвращает Глебова в те времена, с которыми еще «здоровался» Шулепников.
Трифонов движет повествование от настоящего к прошлому, и из современного Глебова восстанавливает Глебова 25-летней давности; но сквозь один слой просвечивает другой. Портрет Глебова намеренно двоится автором: «Почти четверть века назад, когда Вадим Александрович Глебов еще не был лысоватым, полным, с грудями, как у женщины, с толстыми ляжками, с большим животом и опавшими плечами… когда его еще не мучили изжога по утрам, головокружения, чувство разбитости во всем теле, когда его печень работала нормально и он мог есть жирную пищу, не очень свежее мясо, пить сколько угодно вина и водки, не боясь последствий… когда он был скор на ногу, костляв, с длинными волосами, в круглых очках, обликом напоминал разночинца-семидесятиика… в те времена… был он сам непохожий на себя и невзрачный, как гусеница».
Трифонов зримо, подробно, вплоть до физиологии и анатомии, до печенок, показывает, как время протекает тяжелой жидкостью через человека, похожего на сосуд с отсутствующим дном, подсоединенный к системе; как оно меняет его облик, его структуру; просвечивает ту гусеницу, из которой выпестовало время сегодняшнего Глебова – доктора наук, с комфортом устроившегося в жизни. И, опрокидывая действие на четверть века назад, писатель как бы останавливает мгновение.
От результата Трифонов возвращается к причине, к корням, к истокам глебовщины. Он возвращает героя к тому, что он, Глебов, больше всего ненавидит в своей жизни и о чем не желает теперь вспоминать, – к детству и юности. А взгляд «отсюда», из 1970-х годов, позволяет дистанционно рассмотреть не случайные, а закономерные черты, позволяет автору сосредоточить свое внимание на образе времени 1930–1940-х годов.
Трифонов ограничивает художественное пространство: в основном действие происходит на небольшом пятачке между высоким серым домом на Берсеневской набережной, угрюмым, мрачным зданием, похожим на модернизированный бастион, построенным в конце 1920-х годов для ответственных работников (там живет с отчимом Шулепников, там находится квартира профессора Ганчука), – и невзрачным двухэтажным домишком в Дерюгинском подворье, где обитает глебовское семейство.
Два дома и площадка между ними образуют целый мир со своими героями, страстями, отношениями, контрастным социальным бытом. Большой серый дом, затемняющий переулок, многоэтажен. Жизнь в нем тоже как бы расслаивается, следуя поэтажной иерархии. Одно дело – огромная квартира Шулепниковых, где можно кататься по коридору чуть ли не на велосипеде. Детская, в которой обитает Шулепников-младший, – мир, недоступный Глебову, враждебный ему; и, однако, его туда тянет. Детская Шулепникова экзотична для Глебова: она заставлена «какой-то странной бамбуковой мебелью, с коврами на полу, с висящими на стене велосипедными колесами и боксерскими перчатками, с огромным стеклянным глобусом, который вращался, когда внутри зажигалась лампочка, и со старинной подзорной трубой на подоконнике, хорошо укрепленной на треноге для удобства наблюдений». Лифт возносит мальчиков в эту квартиру, а лицо лифтера, когда лифт возносится, выражает «застылый испуг». В этой квартире – мягкие кожаные кресла, обманчиво-удобные: когда садишься, опускаешься на самое дно (тоже своеобразная метафора), что происходит с Глебовым, когда отчим Левки допрашивает его о том, кто напал во дворе на его сына Льва; в этой квартире есть даже своя киноустановка. Квартира Шулепниковых – это особый, невероятный, по мнению Вадима, социальный мир, где мать Шулепникова может, например, потыкать вилкой торт и объявить, что «торт несвеж» – у Глебовых, напротив, «торт всегда был свеж», иначе и быть не может, несвежий торт – совершенная нелепость для того социального слоя, к которому они принадлежат.
В этом же доме на набережной живет и профессорская семья Ганчуков. Их квартира, их среда обитания – другой социальный слой, тоже данный через восприятие Глебова. «Глебову нравились запах ковров, старых книг, круг на потолке от огромного абажура настольной лампы, нравились бронированные до потолка книгами стены и на самом верху стоявшие в ряд, как солдаты, гипсовые бюстики».
Опускаемся еще ниже: на первом этаже большого дома, в квартирке около лифта, живет Антон, самый одаренный из всех мальчишек, не угнетенный сознанием своего убожества, как Глебов. Здесь уже все просто, обыденно, никакой экзотики: казенная мебель, чистенькая бедность, портрет погибшего отца на стене.
Дом на набережной – внешне недвижим, но не стабилен. Все в нем находится в состоянии напряженного внутреннего движения, борьбы. «Все рассыпались из того дома, кто куда», – говорит Шулепников Глебову, встретившись с ним уже после войны. Некоторых выселяют из дома, как лирического героя повести: сцена отъезда – одна из ключевых в повести: это и смена социального статута, и прощание с детством, взросление; перелом, переход в другой мир – герой уже не в доме, но еще и не на новом месте, под дождем, в грузовике.
Напротив большого дома – дом маленький, где живет Глебов. Он видит вдруг отчужденно, как будто со стороны, свой «кривоватый домишко с бурой штукатуркой», куда он «поднимался по темной лестнице, по которой следовало идти осторожно, потому что ступени были местами выбиты; подходил к двери, обсаженной, как старое одеяло заплатами, множеством табличек, надписей и звонков; погружался в многослойный керосиночный запах квартиры…» Запах большого дома совсем иной: «…в лифтах… настаивались необычные запахи: шашлыков, чего-то рыбного, томатного, иногда дорогих папирос или собак». Символична и встреча Глебова в лифте с собакой: «Воспитанность и скромность громадной овчарки удивили Глебова, и в то же время в ее немигающих ореховых глазах ему почудилось спокойное превосходство: ведь она была жильцом этого дома, а он лишь гостем» (курсив мой. – Н. И.).
Большой дом и маленький определяют границы социальных претензий и миграций Глебова. Его с детства обуревает жажда достичь другого положения – не гостя, а хозяина в большом доме.
А между домами – пдощадка детских «военных действий», типично дворовых, но в то же время насыщенных иным, более серьезным смыслом. Там гнездится всякая «подозрительная публика»: «разбойники, для которых не было ничего святого, клятвопреступники и разорители мирных купеческих караванов, флибустьеры и авантюристы, пиратская шайка…»
С домом на набережной и с Дерюгинским подворьем связаны те испытания, через которые проходят юные герои повести. Испытания как бы предвещают то серьезное, что придется детям испытать потом: разлуку с родителями, тяжелые условия военного быта, гибель на фронте. Но пока еще – испытания предостерегающе-игровые, полудетские. Например, пройти по наружному карнизу балкона. Или – по гранитному парапету набережной. Или – через Дерюгинское подворье, где властвуют знаменитые разбойники, сиречь – шпана из глебовского дома. Мальчики даже организуют специальное общество по испытанию воли – ТОИВ.
То, что критика по инерции обозначает как бытовой фон прозы Трифонова, здесь, в «Доме на набережной», держит структуру сюжета. Предметный мир отягощен содержательным социальным смыслом; вещи не аккомпанируют происходящему, а действуют; они и отражают судьбы людей, и влияют на них. Так, мы прекрасно понимаем род занятий и положение Шулепникова-старшего, устроившего Глебову форменный допрос в кабинете с кожаными креслами, по которому он расхаживает в мягких кавказских сапогах. Так, мы точно представляем себе жизнь и нравы коммуналки, в которой обитает семейство Глебовых, да и нравы самого этого семейства, обратив внимание на такую, например, деталь вещного мира: бабушка Нила спит в коридоре, на топчане, и ее представлением о счастье является покой и тишина («чтобы судками не дренькали»). Перемена судьбы непосредственно связывается с переменой среды обитания, с переменой внешнего облика, которая в свою очередь определяет даже мировоззрение, как об этом иронично говорится в тексте в связи с портретом Шулепникова: «Левка стал другим человеком – высокий, лобастый, с ранней пролысинкой, с темно-рыжими, квадратиком, кавказскими усиками, которые были не просто тогдашней модой, а обозначали характер, стиль жизни и, пожалуй, мировоззрение». Так и лаконичное описание новой квартиры на улице Горького, где уже после войны поселилась мать Левки с новым мужем, раскрывает всю подоплеку комфортной – во время тяжкой для быта всего народа войны – жизни этого семейства: «Убранство комнат как-то заметно отлично от квартиры в большом доме: роскошь попышней, старины больше и много всего на морскую тему. Там модели парусные на шкафу, тут море в рамке, там морской бой чуть ли не Айвазовского – потом оказалось, что вправду Айвазовского…» И опять Глебова гложет прежнее чувство несправедливости: ведь «люди в войну последнее продавали»! Его семейный быт резко контрастирует с бытом, украшенным полотном кисти Айвазовского.
Детали внешнего облика, портретов и особенно одежды Глебова и Шулепникова тоже резко контрастны. Глебов постоянно переживает свою «заплатанность», невзрачность. У Глебова на курточке, например, огромная заплата, правда, очень аккуратно пришитая, вызывающая умиление влюбленной в него Сони. И после войны он опять «в своем пиджачке, в ковбойке, в заштопанных брюках» – бедный приятель начальственного пасынка, именинника жизни. «На Шулепникове была прекрасная, из коричневой кожи, со множеством молний американская куртка». Трифонов пластически изображает закономерное перерождение чувства социальной неполноценности и неравенства в сложную смесь зависти и неприязни, желание стать во всем подобным Шулепникову – в ненависть к нему. Трифонов пишет взаимоотношения детей и подростков как социальные.
Одежда, например, есть первый «дом», самый близкий к человеческому телу: первый слой, который отделяет его от внешнего мира, укрывает человека. Одежда так же определяет общественный статут, как и дом; и именно поэтому Глебов так ревниво относится к Левкиной курточке: она для него показатель другого социального уровня, недоступного образа жизни, а не просто модная деталь туалета, которую, по молодости, и ему хотелось бы иметь. А дом – продолжение одежды, окончательная «отделка» человека, материализация стабильности его статута. Вернемся к эпизоду отъезда лирического героя из дома на набережной. Его семью переселяют куда-то к заставе, он исчезает из этого мира: «Те, кто уезжает из этого дома, перестают существовать. Меня гнетет стыд. Мне кажется, стыдно выворачивать перед всеми, на улице, жалкие внутренности нашей жизни». Вокруг ходит Глебов, по кличке Батон, как стервятник, оглядывая происходящее. Его волнует одно: дом.
«“А та квартира, – спрашивает Батон, – куда вы переедете, она какая?”
“Не знаю”, – говорю я».
«Батон спрашивает: “Сколько комнат? Три или четыре?” – “Одна”, – говорю я. “И без лифта? Пешком будешь ходить?” – Ему так приятно спрашивать, что он не может скрыть улыбку».
Крушение чужой жизни приносит Глебову злобную радость: хотя он сам пока ничего не достиг, но другие лишились дома. Значит, не все так уж намертво закреплено в этой жизни, и у Глебова есть надежда! Именно дом определяет для Глебова ценности человеческой жизни. И путь, который проходит Глебов в повести, – это путь к дому, к жизненной территории, которую он жаждет захватить, к более высокому социальному статуту, который он хочет обрести. Недоступность большого дома он чувствует крайне болезненно: «Глебов не очень-то охотно ходил в гости к ребятам, жившим в большом доме, не то что неохотно, шел-то с охотой, но и с опаской, потому что лифтеры в подъездах всегда смотрели подозрительно и спрашивали: “Ты к кому?” Глебов чувствовал себя почти злоумышленником, пойманным с поличным. И никогда нельзя было знать, что ответят в квартире…»
Возвращаясь к себе, в Дерюгинское подворье, Глебов, «возбужденный, описывал, какая люстра в столовой шулепниковской квартиры, и какой коридор, по которому можно ездить па велосипеде».
Отец Глебова, человек тертый и опытный, – убежденный конформист. Главное жизненное правило, которому он учит Глебова, – осторожность – тоже носит характер «пространственного» самоограничения: «Дети мои, следуйте трамвайному правилу – не высовывайтесь!» Герметическая мудрость отца рождена «давнишним и неизжитым страхом» перед жизнью. И, следуя своей мудрости, отец понимает неустойчивость жизни в большом доме, предостерегая Глебова: «Да неужто вы не понимаете, что без собственного коридора жить куда просторней?.. Да я за тыщу двести рублей в тот дом не перееду…» Отец понимает неустойчивость, фантасмагоричность этой «стабильности», он, естественно, испытывает страх по отношению к серому дому.
Маска балагурства и шутовства (под которой у отца, в отличие от Левки, скрывается страх) сближает отца Глебова с Шулепниковым, оба они Хлестаковы: «Они были чем-то похожи, отец и Левка Шулепников». Врут они заливисто и беспардонно, получая истинное наслаждение от шутовского трепа. «Отец сказал, что видел в Северной Индии, как факир на глазах выращивал волшебное дерево… А Левка сказал, что его отец однажды захватил шайку факиров, их посадили в подземелье и хотели расстрелять как английских шпионов, но, когда утром пришли в подземелье, там никого не оказалось, кроме пяти лягушек…
– Надо было расстрелять лягушек, – сказал отец».
Глебов охвачен серьезной, тяжелой страстью, тут не до шуток, не мелочь, а судьба, чуть ли не рок; его страсть сильнее даже его собственной воли: «Ему не хотелось бывать в большом доме, и, однако, он шел туда всякий раз, когда звали, а то и без приглашения. Там было заманчиво, необыкновенно…»
Поэтому Глебов столь внимателен и чуток к подробностям обстановки, столь памятлив на детали.
«Я хорошо помню вашу квартиру. Помню, в столовой был огромный, красного дерева буфет, а верхняя часть его держалась на тонких витых колонках. И на дверцах были какие-то овальные майоликовые картинки. Пастушок, коровки. А?» – говорит он уже после войны матери Шулепникова.
«– Был такой буфет, – сказала Алина Федоровна. – Я уж о нем забыла, а ты помнишь.
– Молодец! – Левка шлепал Глебова по плечу. – Наблюдательность адская, память колоссальная. Можешь работать…»
Глебов использует для достижения своей мечты все, вплоть до искренней привязанности к нему дочери профессора Ганчука, Сони. Лишь поначалу он внутренне посмеивается – неужели она, бледная и неинтересная девица, может на что-то рассчитывать? Но после студенческой вечеринки в квартире у Ганчуков, после того, как Глебов отчетливо услышал, что кто-то желает «мырнуть» в ганчуковские терема, его тяжелая страсть обретает выход – надо действовать через Соню. «…Глебов остался ночью в квартире Сони и долго не мог заснуть, потому что стал думать о Соне совсем иначе… Утром он стал совсем другим человеком. Он понял, что может полюбить Соню». И когда сели завтракать на кухне, Глебов «посматривал вниз, на гигантскую излуку моста, по которому бежали машины и полз трамвайчик, на противоположный берег со стеной, дворцами, елями, куполами – все было изумительно картинно и выглядело как-то особенно свежо и ясно с такой высоты, – думал о том, что и в его жизни, по-видимому, начинается новое…
Каждый день за завтраком видеть дворцы с птичьего полета! И жалеть всех людей, всех без исключения, которые бегут муравьишками по бетонной дуге там внизу!»
У Ганчуков есть не только квартира в большом доме – есть еще и дача, «сверхдом» в понимании Глебова, нечто еще более укрепляющее его в «любви» к Соне; именно там, на даче, и происходит между ними все окончательно: «он лежал на диване, старомодном, с валиками и кистями, закинув руки за голову, смотрел на потолок, обшитый вагонкой, потемневшей от времени, и вдруг – приливом всей крови, до головокружения – почувствовал, что все это может стать его домом. И, может быть, уже теперь – еще никто не догадывается, а он знает – все эти пожелтевшие доски с сучками, войлок, фотографии, скрипящая рама окна, крыша, заваленная снегом, принадлежат ему! Была такая сладкая, полумертвая от усталости, от хмеля, от всего истома…»
И когда уже после близости, после Сониной любви и признаний, Глебов остается в мансарде один, отнюдь не чувство – хотя бы привязанности или сексуального удовлетворения – переполняет Глебова: он «подошел к окну и ударом ладони (жест не гостя, а хозяина, победителя. – Н. И.) растворил его. Лесной холод и тьма опахнули его. Перед самым окном веяла хвоей тяжелая еловая ветвь с шапкой сырого – в потемках он едва светился – снега.
Глебов постоял у окна, подышал, подумал: “И эта ветвь – моя!”»
Теперь он – наверху, и взгляд сверху вниз есть отражение его нового взгляда на людей-«муравьишек». Но жизнь оказалась сложнее, обманчивей, чем представлялось Глебову-победителю; отец-то в своей трамвайной мудрости в чем-то был прав: Ганчук, у которого Глебов пишет дипломную работу, знаменитый профессор Ганчук пошатнулся.
И тут происходит главное, уже не детское, не шуточное испытание героя. Те, ранние испытания воли как бы предвещали то, что случится потом. Это было сюжетным предвосхищением роли Глебова в ситуации с Ганчуком.
Вспомним: мальчики предложили Глебову вступить в тайное общество испытания воли, и Глебов обрадовался, но ответил совершенно замечательно: «…рад вступить в ТОИВ, но хочет быть вправе когда угодно из него выйти. То есть хотел быть членом нашего общества и одновременно не быть им. Вдруг обнаружилась необыкновенная выгода такой позиции: он владел нашей тайной, не будучи полностью с нами… Мы оказались у него в руках».
Во всех детских испытаниях Глебов стоит чуть в стороне, в выгодной и «выходной» позиции – и вместе, и как бы отдельно. «Он был совершенно никакой, Вадик Батон, – вспоминает лирический герой. – Но это, как я понял впоследствии, редкий дар: быть никаким. Люди, умеющие быть никакими, продвигаются далеко».
Однако здесь звучит голос лирического героя, а отнюдь не авторская позиция. Батон только с первого взгляда «никакой». На самом же деле он отчетливо проводит в жизнь свою линию, удовлетворяет свою страсть, добивается любыми способами того, чего хочет. Вадик Глебов «вползает» наверх с настойчивостью, равновеликой роковому «опусканию» Левки Шулепникова вниз, на самое дно; все ниже и ниже, вплоть до крематория, где он служит теперь привратником, сторожем царства мертвых – его уже как бы и не существует в живой жизни, и даже имя у него другое – Прохоров; поэтому и его телефонный звонок сегодня, жарким летом 1972 года, кажется Глебову звонком с того света.
Так вот, в самый острый момент глебовского торжества и победы, достижения цели (Соня – невеста, дом – почти свой, кафедра обеспечена) Ганчука обвиняют в низкопоклонстве и формализме и хотят при этом использовать Глебова: от него требуется публичный отказ от руководителя. Мысль Глебова мучительно суетится: ведь зашатался не просто Ганчук, заколебался весь дом! И он, как истинный конформист и прагматик, понимает, что дом теперь надо себе обеспечивать как-то иначе, другим путем. Но так как Трифонов пишет не просто подлеца и карьериста, а именно конформиста, то начинается самообман. И Ганчук-то, убеждает себя Глебов, не столь хорош и правилен; и в нем есть неприятные черты. Так и в детстве уже было (опять предвосхищение сюжета в предвоенной части повести): когда Шулепников-старший ищет «виновных в избиении его сына Льва», ищет зачинщиков, Глебов выдает их, утешая себя, однако, вот чем: «В общем-то, он поступил справедливо, наказаны будут плохие люди. Но осталось неприятное чувство – как будто он, что ли, кого-то предал, хотя он сказал чистую правду про плохих людей».
Глебов не хочет выступать против Ганчука – и не может избежать выступления. Он понимает, что сейчас выгоднее быть с теми, кто катит бочку на Ганчука, – но хочет остаться чистеньким, в стороне; «лучше всего оттянуть, замотать всю эту историю». Но оттягивать бесконечно – невозможно. И Трифонов подробно анализирует ту иллюзию свободного выбора (испытание воли!), которую выстраивает самообманный рассудок Глебова: «Это было как на сказочном распутье: прямо пойдешь – голову сложишь, налево пойдешь – коня потеряешь, направо – тоже какая-то гибель. Впрочем, в некоторых сказках: направо пойдешь – клад найдешь. Глебов относился к особой породе богатырей: готов был топтаться на распутье до последней возможности, до той конечной секундочки, когда падают насмерть от изнеможения. Богатырь-выжидатель, богатырь-тянульщик резины. Что это было – …растерянность перед жизнью, что постоянно, изо дня в день, подсовывает большие и малые распутья?» В повести возникает иронический образ дороги, на которой стоит Глебов: дороги, которая никуда не ведет, то есть тупика. У него только один путь – наверх. И только этот путь освещает ему путеводная звезда, судьба, на которую Глебов в конце концов положился. Он отворачивается к стене, устраняется (в переносном и в буквальном смысле слова, лежит у себя дома на кушетке) и ждет.
Совершим небольшой шаг в сторону, обратимся к образу Ганчука, играющему столь существенную роль в сюжете повести. Именно образ Ганчука, считает Б. Панкин, в целом расценивающий повесть как «не самую удачную» среди городских повестей Трифонова, является «интересным, неожиданным». В чем же видит своеобразие образа Ганчука Б. Панкин? Критик ставит его в один ряд с Сергеем Троицким и Гришей Ребровым, «как еще одну ипостась типа». Позволю себе длинную цитату из статьи Б. Панкина, в которой ясно обозначено его понимание образа: «…Ганчуку… суждено было воплотить в собственной судьбе и связь времен, и их разрыв. Он родился, начал действовать, вызрел и проявил себя как личность именно в ту пору, когда возможностей проявить и отстоять себя и свои принципы (отстоять или погибнуть) было у человека больше, чем в иные времена… бывший красный конник, рубака превратился сначала в студента-рабфаковца, потом в преподавателя и ученого. Закат же его карьеры совпал с порой, к счастью, кратковременной (?! – Н. И.), когда нечестности, карьеризму, приспособленчеству, рядясь в одежды благородства и принципиальности, легче было одерживать свои жалкие, призрачные победы… И мы видим, как, идя навстречу поражению, предчувствуя его неотвратимость, он, и ныне остающийся рыцарем без страха и упрека, и сегодня пытающийся, но тщетно, одолеть своих врагов в честном поединке, тоскует по тем временам, когда он не был столь безоружен»[23]1 (курсив мой. – Н. И.).
Верно обрисовав биографию Ганчука, критик, на мой взгляд, поспешил с оценкой. Дело в том, что рыцарем без страха и упрека Ганчука назвать никак нельзя, исходя из полного объема информации о профессоре-рубаке, который мы получаем в тексте повести; а уже вывод о том, что на Ганчуке строится авторская позитивная программа, и совсем бездоказателен.
Обратимся к тексту. В откровенных и непринужденных беседах с Глебовым профессор «с наслаждением» рассказывает «о попутчиках, формалистах, рапповцах, Пролеткульте… помнил всякие изгибы и перипетии литературных боев двадцатых – тридцатых годов».
Трифонов раскрывает образ Ганчука через его прямую речь: «Тут мы нанесли удар беспаловщине… Это был рецидив, пришлось крепко ударить… Мы дали им бой…»; «Кстати, мы обезоружили его, знаете каким образом?» Авторский комментарий сдержан, но многозначителен: «Да, это были действительно бои, а не ссоры. Истинное понимание вырабатывалось в кровавой рубке». Писатель отчетливо дает понять, что Ганчук пользовался в литературных дискуссиях методами, мягко говоря, не чисто литературного порядка: не только в теоретических спорах утверждалась им истина.
С того момента, когда Глебов решает «вползти» в дом, используя Соню, он начинает бывать у Ганчуков каждый день, сопровождает старого профессора на вечерних прогулках. И Трифонов дает подробную внешнюю характеристику Ганчука, перерастающую в характеристику внутреннего облика профессора. Перед читателем возникает не рыцарь без страха и упрека, а человек, удобно расположившийся в жизни. «Когда он надевал каракулевую шапку, влезал в белые, обшитые кожей шоколадного цвета бурки и в длиннополую шубу, подбитую лисьим мехом, он становился похож на купца из пьес Островского. Но этот купец, неторопливо, размеренными шажками гулявший по вечерней пустынной набережной, рассказывал о польском походе, о разнице между казачьей рубкой и офицерской, о беспощадной борьбе с мелкобуржуазной стихией и анархиствующими элементами, а также рассуждал о теоретической путанице Луначарского, заблуждениях Покровского, колебаниях Горького, ошибках Алексея Толстого… И обо всех… говорил хотя и почтительно, но с оттенком тайного превосходства, как человек, обладающий каким-то дополнительным знанием».
Критическое отношение автора к Ганчуку очевидно. Ганчук, например, совершенно не знает и не понимает современной жизни окружающих людей, заявляя: «Через пять лет каждый советский человек будет иметь дачу». Он равнодушен и к тому, как ощущает себя на 25-градусном морозе сопровождающий его в студенческом пальтишке Глебов: «Ганчук сладостно сипел и отдувался в своей душегрейкой шубе».
Таким образом, Ганчук отнюдь не положительный герой Трифонова. Но противники его – компания Друзяева и Ширейко – отвратительны. Конечно же Ганчук ведет себя сейчас порядочно: он пытается защитить ни в чем не повинных людей, которых критикуют в недопустимой форме. Но в прошлом тот же Ганчук не останавливался перед жестокими методами. «Ганчук – это звучало страшновато для врагов. Потому что ни колебаний, ни жалости». Нетерпимость – вот главное, пожалуй, качество «купца» в шубе на лисьем меху. Беспощадно, не задумываясь, расправлялся Ганчук с противниками, и сейчас он жалеет только об одном: что Дороднова тогда «не добили»: «Недопеченный гимназистик со скрытой то ли кадетской, то ли нововременской психологией обвиняет меня в недооценке классовой борьбы… Да пусть молится богу, что не попался мне в руки в двадцатом году, я бы разменял его как контрика!»
«Разменял», «обезоружили», «нанесли удар» – вот и вся «паучная терминология» Ганчука. Он строит обвинения на классовом происхождении своих врагов, разглагольствуя о «недодавленной» мелкобуржуазной стихии. Юлия Михайловна, жена Ганчука, вторит ему: «…сказал, что про Дороднова не знает, но про Друзяева известно точно: он сын мельника».
Юлия Михайловна гордится своей чистотой, осуждает окружающих, безапелляционна и категорична в своих оценках: она видит, например, у многих страсть к имуществу. «Зачем? Что вам далась эта квартира? – Она поднимала плечи и оглядывала комнату брезгливо, почти с отвращением. – Вы думаете, в вашей комнатке в деревянном домике вы не можете трудиться?» Соня ей отвечает вполне резонно: «Но ты почему-то не уезжаешь отсюда в деревянный домик…»
Однако горькая ирония жизни состоит и в том, что Ганчука и его жену, рассуждающих о мелкобуржуазной стихии, Трифонов наделяет отнюдь не пролетарским происхождением: Ганчук, оказывается, из семьи священника, а Юлия Михайловна с ее прокурорским тоном, как выясняется, – дочь разорившегося венского банкира…
Как и тогда, в детстве, Глебов предал, но поступил, как ему казалось, «справедливо» с «плохими людьми», так и сейчас ему предстоит предать человека, видимо, не самого лучшего.
Но Ганчуки – жертва в сложившейся ситуации. И то, что эта жертва – не самая симпатичная личность, не меняет подлого существа дела. Более того: нравственный конфликт лишь усложняется. И в конце концов самой большой и безвинной жертвой оказывается святая простота, Соня.
Трифонов, как мы уже знаем, иронически определял Глебова как «богатыря – тянульщика резины», лжебогатыря на распутье. Но и Ганчук – тоже лжебогатырь: «крепепький, толстый старичок с румяными щечками казался ему богатырем и рубакой, Ерусланом Лазаревичем». «Богатырь», «купец из пьес Островского», «рубака», «румяные щечки» – вот те определения Ганчука, которые ничем не опровергнуты в тексте. Его жизнеустойчивость, физическая стабильность феноменальны. Уже после разгрома на ученом совете, с блаженством и подлинной увлеченностью Ганчук… поедает пирожное-наполеон. Даже навещая могилу дочери – в финале повести, он торопится скорее домой, чтобы поспеть к какой-то телевизионной передаче… Персональный пенсионер Ганчук переживет все нападки: они не задевают его «румяных щечек».
Конфликт в «Доме на набережной» между «порядочными» Ганчуками, ко всему относящимися с «оттенком тайного превосходства», и Друзяевым-Ширейко, к которым внутренне примыкает Глебов, меняющий Ганчука на Друзяева, как бы на новом витке возвращает конфликт «Обмена» – между Дмитриевыми и Лукьяновыми. Фарисейство Ганчуков, презирающих людей, но живущих именно таким образом, который они на словах презирают, так же малосимпатично автору, как и фарисейство Ксении Федоровны, для которой другие, «низкие» люди вычищают выгребную яму. Но конфликт, который в «Обмене» носил преимущественно этический характер, здесь, в «Доме на набережной», становится конфликтом не только нравственным, но и идеологическим. И в этом конфликте, казалось бы, Глебов расположен точно посередине, на распутье, он может повернуться и так и эдак. Но Глебов ничего не хочет решать; за него решает вроде бы судьба: накануне выступления, которого так требует от Глебова Друзяев, умирает бабушка Нила – незаметная, тихонькая старушка с пучочком пожелтевших волос на затылке. И все решается само собой: Глебову никуда не надо идти. Однако предательство все равно уже совершилось, Глебов занимается откровенным самообманом. Это понимает Юлия Михайловна: «Лучше всего, если вы уйдете из этого дома…» Да и дома-то для Глебова здесь больше нет, он разрушился, распался, дом теперь надо искать в другом месте. Так завершается, закольцовывается один из главных мотивов повести: «Утром, завтракая на кухне и глядя на серую бетонную излуку моста (почти дословный повтор пейзажа; между первоначальным и последним взглядом Глебова из окна дома на набережной вниз натянут весь сюжет повести. – Н. И.), на человечков, автомобильчики, на серо-желтый, с шапкою снега дворец на противоположной стороне реки, он сказал, что позвонит после занятий и придет вечером. Он больше не пришел в тот дом никогда».
Дом на набережной исчезает из жизни Глебова, дом, казавшийся столь прочным, на самом деле оказался хрупким, ни от чего не защищенным, он стоит на набережной, на самом краю суши, у воды; и это не просто случайное местоположение, а намеренно выбранный писателем символ[24]. Дом уходит под воду времени, как некая Атлантида, со своими героями, страстями, конфликтами: «волны сомкнулись над ним» – эти слова, адресованные автором Левке Шулепникову, можно отнести и ко всему дому. Один за другим исчезают из жизни его обитатели: Антон и Химиус погибли на войне; старший Шулепников был найден мертвым при непроясненных обстоятельствах; Юлия Михайловна умерла, Соня сначала попала в дом для душевнобольных и тоже скончалась… «Дом рухнул».
С исчезновением дома намеренно забывает все и Глебов, не только уцелевший при этом потопе, но и достигший новых престижных вершин именно потому, что «он старался не помнить. То, что не помнилось, переставало существовать». Он жил тогда «жизнью, которой не было», – подчеркивает Трифонов.
Не хочет помнить не только Глебов – ничего не хочет; помнить и Ганчук. В финале повести неизвестный лирический герой, «я», историк, работающий над книгой о 1920-х годах, разыскивает Ганчука: «Ему было восемьдесят шесть. Он ссохся, согнулся, голова ушла в плечи, но на скулах еще теплился неизбытый до конца ганчуковский румянец». И в рукопожатии его еще ощущается «намек на прежнюю мощь». Неизвестный жаждет расспросить Ганчука о прошлом, но наталкивается на упорное сопротивление: «И дело не в том, что память старца ослабла. Он не хотел вспоминать».
В. Сахаров иронически определил прозу Трифонова как «воспоминательную» – и с этим определением, подчеркивающим важнейшее качество этой прозы, можно согласиться безо всякой иронии. Не только мотив памяти характерен для этой прозы – память становится художественным организатором сюжета и идейной направляющей силой прозы Трифонова, и отнюдь не только его одного. Так называемая деревенская проза вся построена на близкой исторической памяти. Такие разные произведения, как «Пряслины» Ф. Абрамова, «Кануны» В. Белова, «Трава забвения», «Святой колодец», «Разбитый кувшин, или Волшебный рог Оберона» В. Катаева, «И дольше века длится день…» Ч. Айтматова, «Живи и помни» В. Распутина (этот ряд можно продолжать очень долго), объединяет мотив памяти. Военная проза тоже стала – даже композиционно – строиться на этом мотиве; воспоминания ретроспективно разворачивают в прошлом, которое приходит при свете сегодняшнего дня, военные эпизоды. По этому принципу написаны «Берег» и «Выбор» Ю. Бондарева, «Пастух и пастушка» В. Астафьева, «День победы в Черново» В. Кондратьева, рассказы А. Генатулина, Ю. Нагибина, «Меньший среди братьев» Г. Бакланова… При этом неизбежна – иногда – перекличка мотивов, ситуаций, эпизодов. Но есть тот священный огонь, который светит всем, – это огонь памяти. Без него невозможны были бы ни «Блокадная книга» А. Адамовича и Д. Гранина, ни «Прощание с Матёрой» В. Распутина, ни «Всякий, кто встретится со мной» О. Чиладзе, ни «Императорский безумец» Я. Кросса. Близкая либо далекая, память истории для писателя 1970–1980-х годов сверхактуальна.
Это явление, впрочем, сопровождалось своего рода гримасами, когда приобрело характер массовый, стало даже своего рода модой – от ретрокино до ретроодежды, из мироотношения – через стиль – превратившись в поверхностную стилизацию. При этом историческое содержание, естественно, адаптировалось. Паломничества к «святым местам» русской истории и культуры стали не менее престижными, чем абонемент на международный кинофестиваль, и т. п. Память из фактора культурно-идеологического и исторического превращалась тем самым в побрякушку, бантик, украшеньице, лишь оттеняющее «современный» образ жизни. Потребительское отношение к памяти, паразитирующее на важном культурном явлении нашей жизни, было живо уловлено борзописцами и мгновенно нашло своих производителей. Так, печально известный роман В. Пикуля «У последней черты» стал своеобразным свидетельством ремесленно-безответственного использования «исторической жажды» читателя.
Память…
Даже историко-литературные даты стали отмечаться с теплотой, характерной для семейного праздника. Повысился престиж музея как живого хранилища памяти: архив перестал восприниматься как нечто далекое от жизни, на повестку дня встал вопрос об архивах семейных, тоже необходимых для сохранения памяти и, в конечном счете, для истории. Очередные тома академического «Литературного наследства» стали бестселлерами; получили невиданную популярность мемуары, книги о забытом прошлом, будь они документального или художественного жанра. Можно определенно сказать, что 1970-е годы в искусстве и литературе были освещены открытием прошлого, его неисчерпанной художественной силы, его родовой взаимосвязанности с современностью и несомненной причастностью к будущему.
Память в культуре осуществляется на деле как традиция – и критики заговорили о традиции.
Исследователь поэзии свидетельствует: «Для современной поэзии все большее значение приобретает ее самоопределение по отношению к традиции. Очевидно, с полным правом эту фразу еще долго можно будет ставить в начале любой статьи… настолько явно интерес к этой проблеме возрастает с каждым годом»[25].
Конечно же, из прошлого, из наследия разными писателями извлекаются разные уроки, в том числе и прямо противоположные. Но здесь важно отметить, что активное возрождение памяти способствовало углубленному исследованию, отходу от односторонней и прямолинейной оценки. Именно оценки. Из учителей, высокомерно выставлявших балл тому или иному деятелю культуры прошлого, мы обратились в учеников, в наследников с неожиданно вскрытым завещанием, в котором стоит повнимательнее разобраться. «Память вовсе не механична. Это важнейший творческий процесс», – пишет академик Д. С. Лихачев.
«Память противостоит уничтожающей силе времени».
«Память – это преодоление времени, преодоление смерти.
В этом величайшее нравственное значение памяти». И далее: «Совесть – это в основном память, к которой присоединяется моральная оценка совершенного. Но если совершенное не сохраняется в памяти, то не может быть и оценки. Без памяти нет совести». Д. Лихачев таким образом формулирует свое понимание общественной роли памяти, близкое трифоновскому. Но вот каким еще и социальным вопросом задается ученый: «Может быть, следует подумать – не основывать ли нравственность на чем-либо другом: игнорировать прошлое с его порой ошибками и тяжелыми воспоминаниями и быть устремленным целиком в будущее, строить это будущее на разумных основаниях самих по себе, забыть о прошлом с его и темными и светлыми сторонами?»[26]. На этот вопрос Д. Лихачев дает категорически отрицательный ответ.
Так же как наша культурная жизнь невозможна без памяти (жанр – это память литературы, по определению М. М. Бахтина), так она не может и основываться на памяти избирательной. Это такой же грех против памяти, как и полное забвение.
Следовательно, память, воспоминание есть акт не только культурный, но и социально-нравственный.
Л. Теракопян совершенно справедливо замечает, что повесть «Дом на набережной» построена «на интенсивной полемике с философией забвения, с лукавыми попытками спрятаться за “времена”. В этой полемике – нерв произведения»[27]. То, что Глебов и иже с ним пытаются забыть, выжечь в памяти, восстанавливается всей тканью произведения, и подробная описательность, присущая повести, есть художественное и историческое свидетельство писателя, воссоздающего прошлое, противостоящего забвению. Позиция автора выражена не только в антипатии к Друзяеву, Дороднову или Глебову; она выражена именно в стремлении восстановить, ничего не забыть, все увековечить в памяти читателя.
Действие повести, напомню еще раз, разворачивается сразу в нескольких временных пластах: начинается 1972 годом, затем опускается в предвоенные годы; потом основные события падают на конец 1940-х – начало 1950-х годов; в финале повести – 1974 год. Голос автора звучит открыто только однажды: в прологе повести, задавая историческую дистанцию; после вступления все события приобретают внутреннюю историческую завершенность. Живая равноценность разных слоев времени в повести очевидна; ни один из слоев не дан абстрактно, намеком, он развернут пластически; каждое время в повести имеет свой образ, свой запах и цвет.
В «Доме на набережной» Трифонов сочетает и разные голоса в повествовании. Большая часть повести написана от третьего лица, но в бесстрастное протокольное исследование глебовской психологии вплетается внутренний голос Глебова, его оценки, его размышления. Более того: как точно отмечает А. Демидов в упоминавшейся статье, Трифонов «вступает с героем в особый лирический контакт»[28]. Какова же цель этого контакта?
Осудить Глебова – слишком простая задача. Трифонов ставит своей целью исследование психологии и жизненной концепции Глебова, что и потребовало столь тщательного проникновения в микромир героя. Трифонов следует за своим героем как тень его сознания, погружаясь во все закоулки самообмана, воссоздает героя изнутри его самого. Глебов – единственный из юных героев повести, «выплывший» после потопа, и эта его мимикрийная живучесть, способность не только держаться на плаву, но и идти «вверх», становится предметом авторского исследования. Однако Глебов не хочет вспоминать – поэтому Трифонов не мог выбрать форму повествования от первого лица, от лица Глебова. Выбор третьего лица как формы повествования имеет глубоко содержательный характер: внутреннее исследование при сохранении некоторой дистанции гарантирует объективность, столь важную для Трифонова.
Повествование от третьего лица с вплетенным в него косвенным монологом Глебова несколько раз на протяжении повести перебивается лирическими отступлениями и от первого лица, того самого «я», о котором уже говорилось выше. В этих отступлениях воссоздается то же самое время, о котором рассказано в основной части повествования; действуют те же самые герои. Присутствует там и открытая, явно осуждающая, жесткая оценка Глебова. Но главное, ради чего написаны эти отступления, содержится не в этой оценке, а в самом взгляде со стороны, вызванном к жизни тем, что начисто отсутствует у Глебова: памятью. Лирические отступления начинаются с одних и тех же слов: «Я помню…», «я помню…», «и еще я помню». Глебов в этих отступлениях – лишь частность, деталь воспоминаний, внимание на нем не концентрируется. В этих коротких кусках – лишь несколько страниц на большую повесть – появляется иная, явно лирическая стихия, сообщающая повествованию новое дыхание, новое измерение. Это стихия памяти, живой и неподвластной всесокрушающему времени. Если кто-то помнит, то значит – было. «Я помню всю эту чепуху детства, потери, находки… И то, как передвигали дом с аптекой, и еще то, что во дворах был всегда сырой воздух, пахло рекой, и запах реки был в комнатах, особенно в большой, отцовской…»
Память старается удержать все мелочи и подробности жизни, и на вопрос – «надо ли вспоминать?», заданный в начале романа «Время и место», отвечают лирические отступления уже в этой повести. Так закладывается Трифоновым новая вещь; исходя из структуры повести, можно прогнозировать дальнейшее развитие его прозы.
Повесть «Дом на набережной» стала для писателя поворотной во многих отношениях. Трифонов резко переакцентирует прежние мотивы, находит новый, не исследованный ранее в литературе тип, обобщающий социальное явление глебовщины, анализирует социальные изменения через отдельно взятую человеческую личность. Идея обрела наконец художественное воплощение. Ведь рассуждения Сергея Троицкого о человеке как нити истории можно отнести и к Глебову: он и есть та нить, которая из 1930-х годов протянута в 1970-е годы, уже в наше время. Исторический взгляд на вещи, выработанный писателем в «Нетерпении», на близком к современности материале дает новый художественный результат: Трифонов становится историком-летописцем, свидетельствующим о современности.
Но не только в этом заключается роль «Дома на набережной» в творчестве Трифонова. В этой повести писатель подверг критическому переосмыслению свое «начало» – повесть «Студенты». Анализируя в первых главах книги эту повесть, мы уже обращались к сюжетным мотивам и героям, как бы перешедшим из «Студентов» в «Дом на набережной». Перенос сюжета и переакцентировка авторского отношения подробно прослежена и в прокомментированной выше статье В. Кожинова «Проблема автора и путь писателя».
Обращусь теперь лишь к частному вопросу, затронутому В. Кожиновым и представляющему не только сугубо филологический интерес. Этот вопрос связан с образом автора в «Доме на набережной». Именно в голосе автора, считает В. Кожинов, незримо присутствуют в «Доме на набережной» давнишние «Студенты». «Автор, – пишет В. Кожинов, оговариваясь, что это не эмпирический Ю. В. Трифонов, а художественный образ, – одноклассник и даже приятель Вадима Глебова… Он тоже герой повести – отрок, а затем юноша… с благородными устремлениями, несколько сентиментальный, расслабленный, но готовый бороться за справедливость».
«…Образ автора, неоднократно появляющийся в предыстории повести, полностью отсутствует при развертывании ее центральной коллизии. Но в самых острых, кульминационных сценах… редуцируется, почти совсем заглушается даже и самый голос автора, который достаточно отчетливо звучит в остальном повествовании»[29]. В. Кожинов подчеркивает именно то, что Трифонов не корректирует голос Глебова, его оценки происходящего: «Голос автора существует здесь в конце концов как бы только для того, чтобы со всей полнотой воплотить позицию Глебова и донести его слова и интонации. Так именно и только Глебов создает образ Красниковой. И этот малоприятный образ никак не корректируется голосом автора…
Неизбежно получется так, что голос автора в той или иной степени солидаризируется здесь с голосом Глебова»[30].
Попробуем разобраться.
Действительно, в лирических отступлениях, как мы уже отмечали, звучит голос некоего лирического «я», в котором В. Кожинов видит образ автора. Но это лишь один из голосов повествования, по которому нельзя судить исчерпывающе об авторской позиции по отношению к событиям, и тем более к самому себе в прошлом – ровеснику Глебова, автору повести «Студенты». В этих отступлениях прочитываются некоторые автобиографические детали (переезд из большого дома на заставу, потеря отца и т. д.). Однако Трифонов специально отделяет этот лирический голос от голоса автора-повествователя.
Свои обвинения по адресу автора «Дома на набережной» В. Кожинов подкрепляет не литературоведчески, а фактически, прибегая к своим собственным биографическим воспоминаниям и к биографии Трифонова как к аргументу, подтверждающему его, Кожинова, мысль. В. Кожинов начинает свою статью со ссылки на Бахтина, прибегнем к Бахтину и мы. «Самым обычным явлением даже в серьезном и добросовестном историко-литературном труде является черпать биографический материал из произведений и, обратно, объяснять биографией данное произведение, причем совершенно достаточными представляются чисто фактические оправдания, то есть попросту совпадение фактов жизни героя и автора, – замечает ученый, – производятся выборки, претендующие иметь какой-то смысл, целое героя и целое автора при этом совершенно игнорируются; и следовательно, игнорируется и самый существенный момент – форма отношения к событию, форма его переживания в целом жизни и мира». И – далее: «Мы отрицаем… тот совершенно беспринципный, чисто фактический подход к этому, который является единственно господствующим в настоящее время, основанный на смешении автора-творца, момента произведения, и автора-человека, момента этического, социального события жизни, и на непонимании творческого принципа отношения автора к герою; в результате непонимание и искажение – в лучшем случае передача голых фактов – этической, биографической личности автора…»[31] Прямое сопоставление фактов биографии Трифонова с авторским голосом в произведении представляется некорректным.
Позиция автора отличается от позиции любого героя повести, в том числе и лирического. Он никак не разделяет, скорее опровергает, например, точку зрения лирического героя на Глебова («он был совершенно никакой»), подхваченную многими критиками. Нет, Глебов – очень определенный характер. Да, голос автора местами как бы сливается с голосом Глебова, вступая с ним в контакт. Но наивное предположение, что он разделяет позицию Глебова по отношению к тому или иному персонажу, не подтверждается. Трифонов, повторю еще раз, исследует Глебова, подсоединяется, а не присоединяется к нему. Не голос автора корректирует слова и мысли Глебова, а сами объективные действия и поступки Глебова корректируют их. Жизненная концепция Глебова выражена не только в прямых его размышлениях, потому что зачастую они иллюзорны и самообманны. (Ведь Глебов, например, «искренне» мучается над тем, идти ли ему выступать по поводу Ганчука. «Искренне» он убедил себя и в любви к Соне: «И он думал так искренно, потому что казалось – твердо, окончательно и ничего другого не будет. Их близость делалась все тесней. Он не мог прожить без нее ни дня».) Жизненная концепция Глебова выражена в его пути. Результат Глебовым важен, овладение жизненным пространством, победа над временем, которое топит многих, и Дородновых и Друзяевых в том числе, – они лишь были, а он есть, радуется Глебов. Он вычеркнул прошлое – а Трифонов его скрупулезно восстанавливает.
Именно в восстановлении, противостоящем забвению, и состоит авторская позиция.
Далее: В. Кожинов упрекает Трифонова в том, что «голос автора не осмелился, если можно так выразиться, открыто выступить рядом с голосом Глебова в кульминационных сценах. Он предпочел устраниться вообще. И это принизило общий смысл повести»[32]. Но именно «открытое выступление» и принизило бы смысл повести, превратило ее в частный эпизод личной биографии Трифонова! Рассчитываться с самим собой Трифонов предпочел своим способом. Новый, исторический взгляд на прошлое включал в исследование «глебовщины» и его самого, тогдашнего, автора «Студентов». Трифонов не отделял и не выделял себя – прошлого – от того времени, которое он пытался постичь и образ которого он написал заново в «Доме на набережной».
В «Другой жизни» память одного человека – Ольги Васильевны – восстанавливала жизнь Сергея, жизнь, освещенную светом поисков исторической правды. В «Доме на набережной» Трифонов обращается как свидетель к памяти своего поколения, памяти, которую хочет перечеркнуть Глебов («жизнь, которой не было»). И позиция Трифонова выражена в конечном счете через художественную память, стремящуюся к социально-историческому познанию личности и общества, кровно связанных временем и местом.
1983
19
Литературное обозрение, 1977, № 4, с. 101.
20
Вопросы литературы, 1982, № 5, с. 67.
21
Вопросы литературы, 1982, № 5, с. 67. Анализу мотивов времени и пространства у Трифонова посвящена опубликованная в этом же номере «Вопросов литературы» статья С. Ереминой и В. Пискунова «Время и место прозы Трифонова». Авторы статьи классифицируют время у Трифонова как «историческое», «бытовое» и «внутреннее» (экзистенциальное).
22
Вопросы литературы, 1982, № 5, с. 67.
23
Дружба народов, 1977, № 5, с. 251, 252.
24
Этот символ убедительно раскрыт А. Демидовым в статье «Минувшее» (Театр, 1981, № 7).
25
Ермилова Е. Диалог с традицией. В кн.: Контекст-1981. М., 1982, с. 216.
26
Лихачев Д. С. Служение памяти // Наш современник, 1983, № 3, с. 171, 172.
27
Теракопян Л. Городские повести Юрия Трифонова. В кн.: Трифонов Ю. Другая жизнь. Повести, рассказы. М., 1978, с. 683.
28
Театр, 1981, № 7, с. 99.
29
Контекст-1977, с. 40, 41.
30
Контекст-1977, С. 42.
31
Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979, с. 11, 12.
32
Контекст-1977, с. 46.