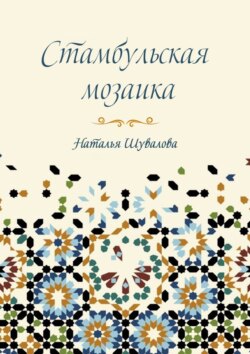Читать книгу Стамбульская мозаика - Наталья Шувалова - Страница 4
Смальта Византии
Совесть императрицы Феофано
ОглавлениеСпит Константинополь.
Тихо плещется Босфор, перекатывает тяжелые сонные волны; задремала в небе круглая золотая Луна, и кажется, сам ветер уснул – ни листочка не колышется в дворцовом саду.
Спят, уронив голову на грудь, дворцовые стражники, на дереве зашевелился и пронзительно вскрикнул фазан, один из стражников встрепенулся, но, поняв, что это всего лишь птица, успокоился и снова уткнулся подбородком в грудь.
Лишь одно окно светится в этот поздний час во дворце – окно покоев императрицы.
Красивая, статная женщина меряет шагами комнату, поджимает губы.
В эту ночь ей не спится – не удается избавиться от гнетущих мыслей, не выбросить из головы встречу, что была сегодня на площади.
Феофано наконец успокоилась, присела за невысокий письменный столик, в задумчивости постучала пальцами по гладкой поверхности дерева.
– В конце концов – кто она и кто я? – сказала она сама себе, – Я – Феофано, Богом оглашенная и избранная!
Слова прозвучали не слишком уверенно.
Снова вспомнилась девушка, почти девочка, босая, в небесно-голубых одеждах, что назвала ее сегодня другим именем – тем, что в далекой прошлой жизни дали родители.
Анастасо.
Ее отец Кротир, родом из Лаконии, плебей темного происхождения, держал кабак в одном из бедных предместных кварталов города. От имени «Анастасо» пахло закопчённой кухней и пережаренной в специях слегка протухшей дичью, которую она, дочь трактирщика, выносила изрядно выпившим гостям, а они, не стесняясь, хватали ее на руки и грудь, пьяно хохоча, увлекали в комнаты. Это имя лоснилось тысячами толстых, нездоровых, опухших, сизых лиц, что чередой текли мимо юной Анастасо, пока однажды шутница-судьба не послала на трактирный двор уставшего с дороги юного наследника престола Романа.
Уж она не растерялась! Уж она в тот вечер наизнанку вывернулась, чтобы угодить будущему императору! И ведь получилось, зацепила, закружила парню голову, и из придорожного кабака оказалась во дворце.
Как говорится, из грязи да в князи.
Когда в октябре 959 года Константин VII умер, Феофано, естественно, вступила вместе с Романом II на престол.
Ей было тогда восемнадцать лет, юному императору – двадцать один.
Все поменялось, и она уже почти забыла старое имя свое, и тут – она, Параскева.
Она пришла в Константинополь неизвестно откуда, и сплетники замололи языками, обсуждая и додумывая то, чего не знали точно.
Говорили, что она знатная родом, и что добро свое она раздала страждущим, оставив себе ровно столько, чтобы самой не стоять с протянутой рукой. Говорили, что пост и молитва – вот ее занятия, и что цель ее – уйти в Святую землю и молиться там за всех живущих.
Пусть бы говорили, толпа всегда говорит, но дело пошло дальше – их начали сравнивать!
Ее, императрицу – и эту непонятную, неизвестно откуда явившуюся девушку.
В бессильной злости Феофано стукнула кулачком по столу – куда бы она не пошла, всюду говорили о той, пришлой.
И сравнение толпы было далеко не в пользу императрицы.
Какая она красавица!
Как чиста, как юна и невинна, как жертвенны ее дела!
Из-за Параскевы все будто с ума сошли – лучшие юноши города хотели взять ее в жены, но она ни на кого не обращала внимания. Монахи молились за ее здравие, да что монахи – патриарх! Патриарх Полиевкт, суровый и непреклонный, попал под очарование этой воплощенной невинности.
А девушке было все равно. Девушка ходила по Константинополю, заходила в храмы, говорила тихим голосом своим о добродетелях, и слова ее прорастали в душах людей светлыми цветами.
– Змея, – прошипела императрица, – сущая змея!
И тут же одернула себя – злись или не злись, но слова Параскевы разносил ветер по всему городу.
И никакая сила не могла заставить ее замолчать.
Феофано старалась не замечать голосов сплетников. Стремилась не слышать, как спорили на улицах и в закоулках дворца о том, кто же она – святая? Волшебница? Вила лесная?
А сегодня она, не боясь, вышла к ней, к самой императрице! На площадь вышла, перед всеми, перед замершей толпой протянула к ней, всесильной, руки и тихим голосом своим сказала:
– Покайся! Омой грехи свои слезами покаяния…
Внутри у Феофано все окаменело от этих слов.
Огромные, синие как небо, глаза смотрели в самую суть, крупные слезы жемчугом струились по чистому, одухотворенному лицу; лишь нечеловеческой силой воли императрица молча отвернулась от них и, гордо подняв голову, вошла в паланкин.
Негоже ей, императрице, удостаивать беседой неизвестно кого.
Но отчего же так муторно?
Отчего не идет сон?
Почему она прокручивает в голове несостоявшийся диалог, и раз за разом ищет аргументы, словно оправдываясь перед этой никчемной?
– Что ты ведаешь о грехах? И о тех, кто их совершает из любви или ради того, чтобы помешать свершиться другим, гораздо худшим грехам? – тихо сказала Феофано, будто бы девушка в голубом могла ее услышать, – Тебе ли меня судить?
Какое право имеет эта бродяжка призывать ее, императрицу, к покаянию? Патриарх Полиевкт, и тот не смел так дерзить ей в лицо, хоть и был обличён патриаршей властью, и в любой момент мог сослаться на Божью волю.
Императрица усмехнулась – патриарх был достойным врагом. Умным, хитрым, вызывающим уважение.
Хотя – не всегда они были в разных лагерях.
Сразу после смерти Романа именно он помог вознести на престол Никифора Фоку, с его подачи народ на площадях скандировал: «Никифор, хотим Никифора!».
Как будто бы народ мог чего-то хотеть, глупое стадо, идущее туда, куда направляют.
А после Полиевкт возвестил себя отцом церкви, и не было ему более необходимости в союзе с императрицей, так что вчерашний союзник пошел против нее, припомнив и сомнительное происхождение, и прежний образ жизни.
Теперь патриарх утверждал, что на престоле коронованная шлюха, вероломная и гнусная, готовая на все ради власти. Дескать, чтобы не отдать трон, богопомазанная императрица Фофано отравила своего свекра и ближайших родственников мужа, насильно заключила в монастырь пятерых своих золовок, а свою свекровь Елену раньше времени свела в могилу. Старая Елена не вынесла унижения, стоя на коленях, умоляя пощадить дочерей, а дочери рыдали, обнимая друг друга, и взывали к милости Божией.
– Наверное, милость Божия не пришла к милым бедным девочкам, потому что я не пустила ее, – иронично прошептала императрица в темноту комнаты, – я же чудовище на троне. Что же ты молчал о том, что милые девочки имели склонность к тайной дипломатии и интригам? Отчего, выставляя меня монстром, исчадием ада, ты молчишь о том, что лично совершил над ними обряд пострижения? Отчего не рассказываешь, как трогательные милые девочки визжали, срывая с себя монашеское одеяние, богохульствовали и сквернословили как портовые девки? Почему ты молчишь, Полиевкт, о том что уступил им – и сам разрешил носить роскошные одежды, использовать благовония и пить вино? Но зато ты не преминул поставить мне в вину то, что сестры нарушают правила жизни в святой обители и служат соблазном для прочих сестер. А сам брак с Никифором Фокой? Я, императрица, я не могу позволить себе утратить трона, сохранить его для сыновей было моей обязанностью…
Императрица снова погрузилась в думы, вспоминая, как она, двадцатидвухлетняя красавица-вдова соблазняла Никифора, старого солдафона, как отдавала красоту свою за право удержаться у власти.
У кого-то повернется назвать блудницей женщину, что выходит за противного ей мужчину во имя сохранения жизни и права своих сыновей?
Что это, если не жертва?
А патриарх объявил ее развратницей, и очернял ее образ в глазах людей.
Но с этим всем можно было жить.
А вот как жить после взгляда чистых, невыносимо неземных голубых глаз, Феофано пока не знала.
Под их взглядом она почувствовала себя грязной, уставшей и очень старой.
В глубине души она понимала, что злится не на девушку – на себя. Потому что у тех, кто стоит у самого верха невеликий выбор – либо ты грешишь, удерживая право власти, либо тебя уничтожат.
И свой выбор она давно сделала.
Но, как оказалось, не была готова к тому, что простая девочка одним взглядом ткнет ее носом в ту мерзость, в которой проходит вся ее жизнь.
Да еще люди, что уверовали, будто бы Параскева пришла, чтобы призвать к покаянию и Феофано, и Полиевкта, и Никифора. Даже поговорку сложили: «Чистота Параскевы – зеркало гнусности царицы!»
Много бы дала всесильная императрица Византии, чтобы с улиц города исчезла хрупкая девушка с синими глазами, чтобы люди перестали сравнивать их – и напоминать ей о всех тех грехах, что она уже совершила и что ей только предстоит совершить.
Не убивать же ее, в самом деле.
Хотя… Все может быть.
Все средства хороши.
Императрица легла в постель лишь на рассвете, забылась хрупким тревожным сном.
А через несколько дней ей донесли – девушка ушла из города, исчезла, будто бы не было ее, и Феофано долго стояла на коленях во Влахернской церкви, благодаря Бога за то, что ее, этого воплощенного укора совести, более нет перед глазами. Щедрой рукой она одарила в тот день всех нищих и больных, что застала в лечебнице при церкви, и велела возносить благодарственные молитвы господу.
Она никак не объяснила свой поступок, просто повелела – и все, да никто и не спрашивал.
Императрицам вопросы не задают.
Потом возникли новые заботы и тревоги, и образ тихой девушки более не занимал Феофано.
А девушка ушла, чтобы вернуться в Константинополь лишь после своей смерти – мощи ее в качестве военного трофея после захвата Белграда в 1521 году привезет в свою столицу Сулейман Кануни, и лишь в 1641 году Параскева Сербская, святая девушка в голубом обретет вечный покой, когда молдавский господарь Василий испросит милости перенести их в Яссы, где они находятся по сей день.
Кстати, дочь Феофано, царевна Анна, приедет на Русь и станет княгиней, женой князя Владимира.
Вместе с ней на Русь придет христианская религия.
Но это уже совсем другая история.