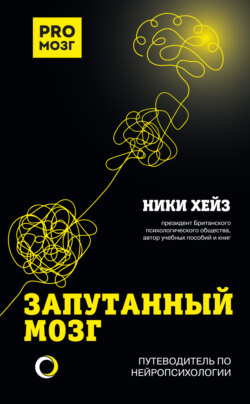Читать книгу Запутанный мозг. Путеводитель по нейропсихологии - Ники Хейз - Страница 14
Глава 2. Как работает мозг
Изучение мозга
Измерения электрической активности
ОглавлениеЕсть, однако, и другие способы измерения активности мозга извне, и самый распространенный из них (он возник, когда ученые поняли, что деятельность нервных клеток осуществляется в сфере электричества) – это электроэнцефалограмма (ЭЭГ), т. е. определение общей электрической активности мозга. Она измеряется путем считывания напряженности электрического поля в различных точках черепной коробки, и это считывание говорит нам о многом (в частности, в главе 13 мы расскажем о том, как психологи с помощью ЭЭГ определяют фазы сна человека и как на основании общих закономерностей деятельности мозга они устанавливают степень сознательности мысленных состояний).
Рисунок 2.4. ЭЭГ мозга
С помощью ЭЭГ выявляли также, что происходит в мозге пациента, подверженного эпилептическим припадкам, которые (так уж повелось испокон веков) рассматривались как нечто мистическое, иррациональное, не поддающееся объяснению. ЭЭГ ясно показала, например, что эпилептический припадок обычно начинается в височной доле левой стороны мозга и оттуда распространяется по всему мозгу, что и являлось причиной проведения операций по рассечению мозолистого тела, о которых упоминалось выше. Суть операции состояла в том, чтобы путем рассечения мозолистого тела ограничить электрическую активность одной стороны мозга, давая возможность другой действовать нормально, причем эта процедура применялась только при очень серьезных припадках. С помощью ЭЭГ удалось установить также, что существует множество различных уровней эпилепсии, и хотя некоторые из них едва заметны для наблюдателя, они тем не менее влияют на самого эпилептика.
По мере того как электрический мониторинг становился все более эффективным, возникали новые техники. Одна из них – это вызванный потенциал, измерение, показывающее, как та или иная область мозга реагирует на электрическую стимуляцию. Она, в частности, помогла нейрохирургам выявить некоторые основные проводящие пути и связи в мозге. В других техниках используются микроэлектроды, которые настолько малы, что могут управлять отдельным нейроном или стимулировать его. В ключевых исследованиях, в ходе которых было установлено, как отвечающие за зрение участки коры головного мозга дешифруют формы и образы, использовался именно этот метод. В конце концов открытия, сделанные за годы кропотливых микроскопических исследований, привели к тому, что два исследователя, работавших в этой области, – Дэвид Хьюбел и Торстен Визель – получили Нобелевскую премию (об этих открытиях мы расскажем подробнее в главе 3).
Хьюбел и Визель приступили к своим исследованиям в начале 1960-х годов, и за это десятилетие был сделан еще один важный шаг в понимании того, как работает мозг, ибо именно в этот период были выделены специфические нейротрансмиттеры (они же нейромедиаторы). Как мы уже знаем, электрическая активность мозга возникает под действием химических веществ при передаче сообщения от одной нервной клетки, или нейрона, другой. Открытие того, какие именно сообщения несли в себе некоторые из этих веществ, позволило ученым обнаружить и проследить в мозге нейрохимические пути. Из следующих глав мы узнаем, насколько большую роль это открытие сыграло для понимания, как именно работает мозг. Многие исследования проводились на животных, поскольку изучение мозга людей сводилось лишь к внешним наблюдениям, о которых мы говорили выше, или к изучению клинических пациентов, у которых был травмирован мозг. Практикующие врачи (клиницисты), отмечая те зоны мозга, которые были травмированы, пытались соотнести их с конечными психологическими сдвигами или переменами в личности человека. Иногда такие результаты были вполне очевидными: например, Брока и Вернике (о них мы расскажем в главе 10) сумели идентифицировать ключевые области мозга, управляющие языковой/речевой функцией, еще в XIX веке, изучая людей со специфическими речевыми недочетами, вызванными травмой мозга, и соотнося эти симптомы с теми повреждениями конкретных участков мозга этих людей, которые были выявлены в ходе вскрытия черепа после их смерти.
Что касается изучения более точечных изменений в личности человека, вызванных повреждением мозга, то тут дело обстояло гораздо сложнее, главным образом из-за того, что сравнения приходилось делать чисто ретроспективно, т. е. сопоставляя, каким человек стал после получения травмы, с тем, каким он был раньше по его собственным словам. Проблема в данном случае заключается в том, что у всех нас много самых разных психических состояний, и какую-либо психическую или личностную характеристику можно легко увязать с несчастным случаем, тогда как эта характеристика наличествовала постоянно, пусть даже все это время оставалась незамеченной. Например, старики часто замечают, что их память дает сбой, хотя, как показывают наблюдения, молодые люди страдают провалами в памяти так же часто или даже еще чаще, чем пожилые. Разница лишь в том, что молодые люди не фокусируются на этом и не уделяют этому феномену особого внимания, тогда как пожилые подмечают его и беспокоятся каждый раз, как что-то забывают, ибо связывают забывчивость со старостью или старением, хотя на деле они страдали этим всю свою жизнь. То же происходит и в случае, когда человек получает травму мозга: мы словно по-новому глядим на себя и начинаем подмечать признаки, которые у нас были и раньше, но которые мы прежде у себя не замечали. В силу этого мы считаем, что это что-то новое, и связываем их с повреждением мозга. Это, конечно же, не значит, что травма мозга не оказывает на нас никакого действия; разумеется, оказывает, но очень трудно определить, в чем именно заключается это воздействие, поскольку мы не записываем и не фиксируем на бумаге каждый аспект нашей обычной жизнедеятельности.