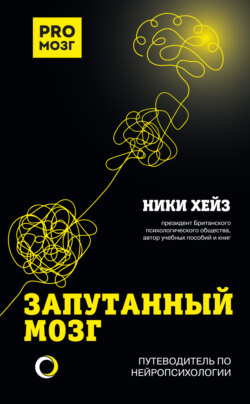Читать книгу Запутанный мозг. Путеводитель по нейропсихологии - Ники Хейз - Страница 19
Глава 3. Как мы распознаем то, что видим
Как мы распознаем предметы
ОглавлениеВыше мы рассказали о том, как наши зрительные клетки реагируют на свет и тьму, что, несомненно, является одним из основных механизмов выживания. Но наше зрение намного сложнее. Мы видим объекты, фон, окружение, людей, цвета, и все эти образы тем или иным способом обрабатываются нашим мозгом. Как это происходит?
Одно из важнейших открытий в этой области сделали нейрофизиологи Хьюбел и Визель, кропотливо изучавшие работу зрения, фиксируя действия отдельных нейронов. В 1969 году они опубликовали работу, показав, как некоторые нервные клетки первичной зрительной коры (зона V1) реагируют на линии, расположенные под специфическим углом и находящиеся только в одной части зрительного поля. Эти клетки они назвали простыми. Дальнейшие исследования показали, что простые клетки реагируют на одни и те же сигналы, воспринимаемые либо левым, либо правым глазом, и что некоторые из них реагируют также на специфические волны света, или, другими словами, на специфические цвета. Эти клетки эффективно анализируют поступающую в зрительную кору информацию и обрабатывают ее основные свойства. Затем они передают ее другим клеткам, которые Хьюбел и Визель назвали сложными. Эти клетки объединяют информацию, полученную от нескольких простых клеток, в результате чего они обретают свойство реагировать на линию, расположенную под специфическим углом в любой части зрительного поля, или на линию специфического цвета, находящуюся где бы то ни было в пределах зрительного поля. Эту информацию сложные клетки затем передают гиперсложным клеткам, реагирующим на специфические формы или очертания (рисунок 3.5).
Рисунок 3.5. Простые, сложные и гиперсложные клетки
Это означает, что наша зрительная система способна различать простые формы, очертания, а также края и границы между светлой и темной зонами. Согласно Д. Марру (1982), это все, что нам нужно, чтобы воспринимать окружающие объекты. Если мы соединим эту информацию с той, которая поступает от оптической матрицы (так Марр называет общую картину света, достигающего сетчатки), мы сможем определить контуры, т. е. края, и выявить сходные области. Объединив все это, мы получим основные структуры наблюдаемой сцены – то, что Марр назвал необработанным первоначальным эскизом. И хотя этот эскиз достаточно зыбкий и размытый, он все же дает достаточно информации, чтобы мы смогли уяснить, что за объект находится перед нами, как на пиксельном рисунке 3.6.
Рисунок 3.6. Первоначальный эскиз
Но в нашем распоряжении имеется гораздо больше информации, чем та, которая содержится в оптической матрице. Наш мозг является хранилищем опыта, и этот опыт тоже помогает нам осмысливать различаемые объекты. Нам известно, например, что объекты, находящиеся далеко от нас, выглядят меньше, чем они есть на самом деле, и что близко расположенный объект может закрывать часть того, что находится на расстоянии. Мы можем также взять на вооружение законы восприятия, открытые гештальтпсихологами в первой половине ХХ века и свидетельствующие о том, что мы пусть и бессознательно, но совершенно осмысленно и конструктивно группируем биты получаемой информации (если вы хотите узнать об этом более подробно, советую прочесть мою книгу «Доступная психология»). По мере того как мы осваиваемся в окружающей среде и лучше ее узнаем, мы усваиваем и другие законы восприятия, что, согласно Марру, дает нам возможность определить объем, или массивность, объектов, которые находятся в поле нашего зрения. Правда, эта картина слишком обща и лишена подробностей: Марр описывает ее просто как комбинацию конусов и трубок, которую он назвал 2,5-мерным эскизом, поскольку она близка к трехмерному эскизу, но чуть-чуть до него не дотягивает. В результате получается контурограмма, которой вполне достаточно, чтобы мы сумели определить предмет, находящийся в поле нашего зрения.
Некоторые знатоки утверждают, что творения таких художников, как, например, Лоуренс Стивен Лаури, оттого так сильно затрагивают струны нашей души, что они воздействуют на наши первобытные зрительные механизмы: контурные фигуры на его полотнах подобны 2,5-мерному эскизу на этапе первичной дешифровки визуальной информации, поэтому они распознаются нами мгновенно. Например, мы легко устанавливаем различия между коровой, собакой или другим человеком (рисунок 3.7) и можем даже высказать предположение об отношениях, связывающих рассматриваемых людей, исходя из их позы и того положения, которое они занимают по отношению друг к другу.
Рисунок 3.7. Контурограммы коровы, собаки и человека
Мы можем легко составить представление о том, что именно находится перед нами, и отличить животное от дерева, например. А вот отличить собаку от кошки уже гораздо труднее, ибо это требует от нас более сложного знания о мире, цвете, тенях, контурах объекта и, что самое важное, умения обращаться к воспоминаниям. Благодаря всем этим атрибутам мы развиваем в себе способность распознавать и идентифицировать то, что находится в поле нашего зрения. Но все начинается со света и тени, которые идентифицируются биполярными нейронами, а затем подвергаются дальнейшему «осмыслению» простыми и сложными клетками зрительной коры.