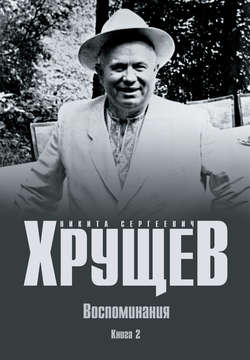Читать книгу Воспоминания. Время. Люди. Власть. Книга 2 - Никита Хрущев - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть IХ. Совет Экономической Взаимопомощи и Социалистическое Содружество
Дружба с Китаем после победы народной революции[19]
ОглавлениеПервый приезд Мао Цзэдуна в Советский Союз был приурочен к 70-летию Сталина. Как раз к этому дню я возвратился с Украины в Москву на новую постоянную работу. Сталин сказал мне: «Сдавайте дела на Украине и обязательно приезжайте к моему 70-летию». Так я и сделал. Мне не пришлось присутствовать при беседах, которые вел Сталин с Мао один на один либо вместе с Молотовым. Сколько состоялось таких встреч и как они протекали, мне сейчас трудно сказать. Но после этих встреч Сталин ни разу не был в восторге от Мао и не особенно лестно отзывался о нем. Однако за обедом в честь Мао Сталин проявил большое гостеприимство. Он любил такие обеды и любил блеснуть гостеприимством, своим вниманием к гостю. Если хотел, то умел делать это особенно хорошо. На том обеде я был. Обед и сопутствующая беседа протекали в непринужденной обстановке.
Мне было приятно видеть, что вроде бы складываются добрые отношения с новым Китаем. У нас все этого хотели. Правда, во время визита Мао имел место один неприятный инцидент. После обеда и дружеской беседы, которая велась за обедом, Сталин несколько дней вообще не встречался с Мао. А раз сам не встречался и никому другому не поручил, то и никто из нас к Мао не ходил. Тут Мао стал проявлять недовольство, что сидит взаперти в отведенной ему резиденции, что ему ничего не показывают, что с ним никто не встречается, и заявил, что если так будет продолжаться, то он уедет. Доложили Сталину, что Мао проявляет недовольство. Тогда опять встретились с ним за обедом на даче у Сталина. Сталин теперь все делал, чтобы удовлетворить просьбы Мао, наладить хорошие отношения и показать, что находится всецело на его стороне.
Уехал Мао. Полномочным представителем Советского правительства в Китае по экономическим делам был тогда железнодорожник по профессии[20]. Прежде он работал в Маньчжурии, восстанавливая там дороги после изгнания японцев, потом стал советником при Мао Цзэдуне. Сталин считал его доверенным человеком. В скором времени тот начал сообщать в своих донесениях, что наблюдаются плохие настроения в отношении СССР, а особенно проявляется такое недовольство у Лю Шаоци, Чжоу Эньлая и ряда других руководителей страны. Аналогичные сведения посылал нам и Гао Ган еще до приезда Мао в Москву. Гао был тогда уполномоченным Политбюро ЦК китайской компартии и одновременно уполномоченным пекинского правительства в Маньчжурии, как бы ее наместником. У него сложились очень хорошие отношения с нашим представителем. Гао ничего не говорил о позиции лично Мао, но зато и не говорил, что Мао предпринимает что-либо в отношении тех лиц, которые выражают явное недовольство нами. Гао приводил в подтверждение наличия такого недовольства много фактов.
Вот один из них. Проходил какой-то китайский праздник. Состоялся парад. Когда по площади ехали войска, вооруженные нашими танками, то китайские военные злились, что, дескать, русские дали им старые танки. Да, это было правильно. Те танки не были новыми, тогда у нас самих не имелось столько новых танков, чтобы мы могли дать их Китаю. СССР только что закончил войну, восстанавливал промышленность, производство танков сокращалось. Иначе и быть не могло. Так что я не вижу оснований для обиды на нас. Конечно, танки были старые, но еще вполне боеспособные. Но такие высказывания подогревали настроение недовольства нами, и все ставилось в строку Советскому Союзу.
Сталин, желая расположить Мао в нашу пользу, во время его визита демонстрировал, что относится к нему по-дружески и доверяет ему. Поэтому Сталин, взяв документы, полученные от нашего представителя в Маньчжурии с записью бесед с Гао Ганом, просто передал их Мао. Я-то, да и другие члены Политбюро, с кем мы обменивались мнениями, не сомневались, что Гао сообщал нам чистую правду. Какие он преследовал цели, не знаю, но в любом случае выступал с дружеских к СССР позиций. И вот Сталин отдал эти документы! Если искать какие-то исторические параллели, получается что-то вроде доноса царю Петру Кочубея на гетмана Мазепу[21]. Тогда Петр вернул этот донос самому Мазепе, чтобы расположить его к себе и показать, что не верит в его измену. А Мазепа казнил Кочубея и стал помогать Карлу XII в походе на Россию. Этот эпизод ярко описан Пушкиным в поэме «Полтава». Как Мазепа поступил с Кочубеем, казнив его, так и Мао отнесся к Гао Гану. Сначала посадил его под домашний арест. Потом нам сообщили, что Гао «отравился»[22]. Маловероятно. Скорее всего, его там задушили либо отравили. На это Мао был способен, но на это был способен и Сталин. В данном отношении у них были родственные души, и методы они использовали одни и те же. В дальнейшем это подтвердилось в еще большей степени.
А пока мы лишились человека, который демонстрировал свою близость к нам и подтверждал это конкретным делом, информируя нас о ситуации в китайском руководстве и его отношении к СССР. Это было очень ценно. И, вместо того чтобы поддержать Гао, Сталин предал его. Полагаю, что Сталин поступил так по следующим мотивам. Сталин – человек, который никому не верил. Сам себе не верил. Он считал, что рано или поздно тот факт, что секретные сведения, которые поступают к нам, передает именно Гао, станет известен Мао Цзэдуну. Тогда Сталин попал бы в щекотливое положение: вроде бы инспирировал оппозицию к пекинскому правительству. Поэтому Сталин и воспользовался возможностью продемонстрировать, что полностью доверяет Мао и, следовательно, не хочет получать информацию от человека, выступающего против китайского руководства. Хотя лично Гао никогда не говорил нам о своем отношении непосредственно к Мао, но для ряда китайцев оно не являлось тайной.
Помню, наши люди в Китае сообщили как-то, что в одном городе состоялась молодежная вечеринка. Когда ее участники перепились, молодежь стала враждебно и демонстративно высказываться в наш адрес: «Возьмите к себе своего Гао. Это ваш человек, а не наш». Это имело место еще в то время, когда он являлся членом Политбюро ЦК КПК. Следовательно, уже тогда Гао находился в некоторой изоляции, и о его нелояльности к «советской» политике Политбюро ЦК КПК там было известно. Это тоже надо иметь в виду. Возможно, Сталин, предавая Гао, считал, что, мол, все равно тот разоблачен. Таково мое заключение. Я же лично подобных рассуждений от Сталина не слышал. Но никакими другими причинами не могу объяснить, почему Сталин взял да и передал Мао упомянутые документы. Мы, члены Политбюро ЦК ВКП(б), признаться, возмущались поступком Сталина. А Гао Ган был загублен.
Что касается пребывания Мао в Москве, то я видел, что Сталин проявлял неискреннюю вежливость. Чувствовалось какое-то его высокомерие в отношении Мао. Мао вовсе не глупый человек, сразу это понял, и это его раздражало, хотя сам Мао никакого недовольства внешне не проявил, за исключением вышеописанного случая.
Когда у нас с Китаем разгорелись споры, Мао в беседах со мной говорил, что Сталин не только не оказывал ему поддержки, но, напротив, предпринимал такие шаги в отношении Чан Кайши, которые противоречили интересам компартии Китая. А некоторые действия, вроде создания смешанных обществ[23], вообще порождали антисоветские и антирусские настроения в новом Китае. К сожалению, допускались и другие поступки, наносившие большой вред укреплению нашей дружбы с соседними социалистическими странами. Например, считаю безумством и вероломством то, что Сталин домогался, чтобы все валютные товары и сырье, которые приобретали или добывали Северная Корея и Китай, поступали в Советский Союз. Естественно, каждая страна должна иметь свою валюту, с тем чтобы выйти на рынки капиталистического мира. Ведь СССР не все может дать им. Мы сами вынуждены были изыскивать валютные средства за счет добычи золота или экспорта валютных товаров на Запад, чтобы выручить ту валюту, на которую можно будет купить товары, нами не производимые.
Такие же нужды были и у Китая, и у всех социалистических стран вообще. С этим надо считаться и строить свою политику, учитывая их интересы. Но Сталин был тут глухим, он не понимал и не хотел понимать этого, особенно после того, как разбили Гитлера. Он считал, что как Александр I после разгрома Наполеона законодательствовал в Европе, так и он теперь может законодательствовать. То было преувеличение собственных возможностей и игнорирование интересов друзей. А такая политика их обижала, оскорбляла и сеяла семена враждебности в отношениях с СССР. Мне помнятся различные эпизоды взаимоотношений с Китаем, в которых наши необдуманные действия омрачили нашу дружбу, хотя никаких объективных причин к тому не имелось.
С другой стороны, иногда сам Мао Цзэдун не только проявлял уважение к Сталину, но и доходил до какого-то самоуничижения. Так, он обратился к Сталину с просьбой порекомендовать человека, который помог бы ему в редактировании его речей и статей периода Гражданской войны. Эти материалы Мао хотел теперь издать и попросил прислать к нему человека, марксистски образованного, который не только помог бы ему при редактировании, но не позволил допустить какие-либо ошибки в теории. Сталину было приятно такое признание его авторитета, выраженное в этой просьбе. Думаю, что Мао поступил так, исходя из своих соображений, чтобы создать у Сталина иллюзию, что готов его глазами рассматривать вопросы теории и практики марксизма и не претендует на какую-то собственную точку зрения в деле строительства социализма в Китае. Но это противоречило всему тому, что выявилось потом в ходе дальнейшей истории Китая.
Китайцы выдвигали также большие просьбы насчет помощи вооружением, поставок оборудования, строительства заводов. И здесь Советский Союз оказывал огромную помощь Китаю. Я не могу сейчас назвать конкретно денежную сумму, в которую она обошлась. Но речь шла о металлургических заводах, автомобильном, тракторном и по производству современного вооружения. Под все это мы давали кредиты, пересылали чертежи, оказывали другую помощь, фактически бесплатную. Даже документация передавалась не на коммерческой, а на дружеской основе. В Китай посылались наши военные инструкторы по всем родам войск: летчики, артиллеристы, танкисты. Я считал, что это полезно и нам, и Китаю. Мы рассматривали укрепление Китая как упрочение социалистического лагеря и обеспечение наших восточных границ. Тут интересы у нас с Китаем были общими, и мы относились к его просьбам, как к собственным нуждам, и шли навстречу настолько, насколько имели материальные возможности удовлетворить все просьбы.
На Востоке не только интересы Советского Союза и Китая, но и Корейской Народно-Демократической Республики очень тесно переплетались. К Северной Корее СССР также относился с большим вниманием и оказывал ей всевозможную помощь и в создании армии, и в налаживании народного хозяйства. Одним словом, мы делали все для того, чтобы Северная Корея экономически развивалась быстрее, чем Южная, и тем самым служила бы притягательной стороной для народа Южной Кореи. Когда Северная Корея вступила в войну с Южной, то здесь Северная Корея, Китай и Советский Союз еще прочнее связались в один узелок, потому что победа Южной Кореи явилась бы победой США над Северной Кореей, что угрожало и Китаю, и Советскому Союзу. Наши симпатии были целиком и полностью на стороне Северной Кореи, на стороне властей, которые возглавлялись Ким Ир Сеном[24].
Много лет мы придерживались той точки зрения, что инициатива нападения принадлежала в той войне Южной Корее. А сейчас я считаю, что версию, которая была создана, нет нужды поправлять, потому что это было бы выгодно только нашим противникам. Но, если не детализировать версию, истина окажется такова: то была инициатива Ким Ир Сена, которая поддерживалась и Сталиным, и всеми нами. Мы, как коммунисты, сочувствовали корейскому народу, хотели помочь ему свергнуть иго капитализма и установить во всей стране народную власть. После смерти Сталина война какое-то время еще продолжалась. У нас давно созрела мысль найти возможности ее прекращения. Мы предприняли шаги по дипломатическим каналам и начали прощупывать американцев: как они отнесутся к прекращению огня? Американцы откликнулись позитивно, и начались переговоры. Потом была создана смешанная комиссия в составе корейцев, китайцев и американцев для непосредственных переговоров между сторонами, находившимися в состоянии войны. Переговоры длились долго, но в конце концов была достигнута договоренность. Войска остались на тех рубежах, на которых они прекратили военные действия, то есть примерно по той 38-й параллели, по которой была установлена после разгрома Японии демаркационная линия между войсками СССР и США.
С Китаем в то время у нас были хорошие отношения, во всяком случае внешне. Говорю – внешне, потому что, как мы потом узнали, внутренне Мао не признавал нас за равноправных союзников и таил великодержавные поползновения. Мы же оказывали Китаю солидную помощь. Китайские рабочие проходили у нас практику, обучались на автомобильном, тракторном и других заводах, которые строились с нашей помощью в Китае. Наши инженеры и рабочие трудились в Китае и напрямую участвовали в этом строительстве. Китайские граждане относились к нам на первых порах очень хорошо, а мы делали все для того, чтобы братские отношения укреплялись. Мы считали, что народы Советского Союза и Китая – братья и что это полезно не только нам, но и международному коммунистическому движению.
Еще по предложению Сталина мы дали очень много оружия китайской Народно-освободительной армии: артиллерию, танки и пулеметы, винтовки и автоматы, самолеты. Китайцы получали то оружие, которым в основном была вооружена тогда Советская Армия. Правда, она по отдельным видам боевой техники уже переходила на новое вооружение. Ведь всегда – и во время войны, и тем более после войны, – в процессе строительства вооруженных сил одни виды вооружения снимаются с производства, другие вводятся. Какой же общий принцип действовал у нас в отношениях с Китаем? По мере совершенствования оружия мы вооружали этим оружием свою армию, потом предлагали его Китаю для перевооружения его Народно-освободительной армии. Мы считали, что такой подход является основой братских взаимоотношений, были заинтересованы, чтобы Китай был силен, а его армия находилась на современном уровне развития. Прилагая все усилия для повышения боеспособности собственной армии, мы в той же мере были заинтересованы в повышении боеспособности китайской армии.
До нас доходили слухи о том, что в Китае имеются силы, которые враждебно относятся к Советскому Союзу. Мы получали сведения, что в китайских газетах пишется о том, что китайцы недовольны границами с Советским Союзом, претендуют на Владивосток и пр. Они рассказывали читателям, что русские цари силой установили существующую границу и навязали ее Китаю; употребляли также другие выражения недружественного характера по отношению к СССР. Я, конечно, не защищаю царей. Но границы, которые сложились у СССР, перешли к нему в наследство от бывших границ, и мы всегда считали, что тут законные советские территории. Ведь и в других социалистических странах новые, революционные правительства стали наследниками бывших правителей и считали своей всю национальную территорию в тех же границах, которые они получили от свергнутых властей.
Полагаю, что такой подход разумен и правилен. Если поставить сейчас вопрос о пересмотре границ и искать какие-то исторические давности, когда границы были иными, то можно зайти очень далеко. Это не приведет к укреплению дружеских отношений между нашими странами, а, наоборот, рассорит нас. Кроме того, для настоящего коммуниста-интернационалиста, который должен видеть дальше национальных границ, этот вопрос вообще не имеет значения в деле конечной мировой победы революционного движения и в рамках марксистско-ленинской философии.
Мы говорили об этом в Пекине. Они отвечали: не обращайте внимания, у нас имеется много партий, и каждая партия обладает своей печатью. Там встречаются и враждебные высказывания представителей буржуазно-помещичьего класса, но они не являются точкой зрения нашего руководства. Мы этим удовлетворялись, хотя и хотели, чтобы была в открытую опубликована точка зрения китайского руководства. Но этого так и не было сделано. Прямых таких требований мы не высказывали, а просто верили на слово китайским руководителям.
Деловые же контакты у нас главным образом поддерживались с Чжоу Эньлаем. Чжоу довольно часто приезжал к нам, с ним обсуждали мы все вопросы. С ним же предварительно договаривались о прекращении войны в Корее, вырабатывая общую тактику поведения. Часто Чжоу приезжал в СССР по тем или другим вопросам экономического характера, в том числе для заключения договоров о поставке в Китай оборудования и по прочим нуждам, которые имел Китай. С Чжоу у нас сложились очень хорошие отношения. Мы относились к нему с большим уважением. Он оказался деловым человеком, и с ним легко было разговаривать, легко находить взаимовыгодные решения. Мы считали, что у нас вообще сложились с Китаем хорошие деловые отношения. Чжоу являлся в то время премьером и министром иностранных дел. Поэтому вопросы дипломатических отношений Советского Союза с Китаем тоже решались с ним.
Я уже говорил, что мы осуществляли Китаю большие поставки, строили там заводы. Хотел бы специально остановиться на этом вопросе, потому что, когда я оказался уже на положении пенсионера, разные люди, встречаясь со мной, изъявляют тревогу, что мы оказываем слишком большую помощь другим странам и тем самым раздаем богатства Советского Союза. Да, мы помогаем нашим друзьям, например Китаю. Но Китай платил нам, как платят и прочие страны, которые мы поддерживаем. Какая же это помощь, скажут, если взамен платят? Вроде бы это торговля. Не совсем так! Конечно, торговля, раз идет оплата. Помощь же заключается в том, что мы поставляем в кредит оборудование, которое устанавливается тоже при нашем содействии, строим заводы и обучаем рабочих, затем даем все, что нужно для организации производства. Такая страна сразу получает возможность производить металл, оборудование.
Конечно, если рассматривать отношения, которые складываются в капиталистическом мире, то там любая фирма прикидывает, что ей выгодно, и только. Выгоднее ли ей продать оборудование? Или выгоднее не продавать оборудование, а продавать продукцию, которая выпускается на этом оборудовании? Чаще всего делается последнее. Мы же, желая укрепить экономику дружеской страны и способствовать поднятию жизненного уровня ее населения, поставляем и оборудование, и целые заводы. Мало того, оборудование поставляем по льготным ценам. Например, капиталисты дают кредиты из 5 % – 7 % годовых, а мы давали из 2,5 % или 2 %. Это большие льготы. Поэтому мы вправе говорить, что оказываем именно помощь братским странам.
К тому же времени, середине 50-х годов, относятся переговоры с Китаем, которые закончились заключением договора о статусе Порт-Артура[25] и Дальнего. Здесь наши позиции были вполне правильно определены. Мы исходили из того, что Порт-Артур – исконно китайская территория, а мы там будем находиться до тех пор, пока это отвечает интересам как Китайской Народной Республики, так и Советского Союза. Наши усилия были направлены против возможного общего врага, хотя ранее и разгромленного, Японии. К тому же конкретно в то время сложились новые условия, когда нарастала угроза со стороны США, которые фактически организовали войну против народной власти на юге Китая и поэтому могли угрожать Китайской Народной Республике со стороны Японии.
Мы затратили много сил и средств для приведения в надлежащий вид крепости Порт-Артур, заново вооружили ее и держали там довольно солидный гарнизон. Все это позднее мы передали Китаю. Кроме того, отказались от своих прав на Китайско-Восточную железную дорогу в Маньчжурии. По-моему, такое решение было правильным: мы не хотели порождать конфликт, не хотели иметь собственности на территории другого социалистического государства. И мы покончили с этим вопросом, передав ее Китаю. Но, видимо, этот факт их не совсем удовлетворил. Мао желал большего.
После смерти Сталина мы ликвидировали все неравноправные договоры, а также совместное общество по эксплуатации Синьцзяна, договорились о передаче Китаю Порт-Артура и эвакуации оттуда наших войск. По последнему вопросу долго велись предварительные переговоры. Решение задерживали не мы, а китайская сторона, хотя нам это было понятно. Китай опасался США, пока шла война в Корее. Американцы повернули ее ход в пользу Южной Кореи, и в Пекине возникли опасения: не совершат ли они агрессивных акций и против Китая? Войск у США в Южной Корее было достаточно, поэтому передачу Порт-Артура в те годы китайцы не только не форсировали, но и сдерживали.
В 1954 году было решено направить в Пекин на празднование 5-летия КНР нашу партийно-правительственную делегацию. Ее по решению ЦК КПСС и Совета Министров СССР возглавил я. Состав делегации был большим и представительным: Булганин, Микоян, Шверник, Фурцева, Шелепин, Насриддинова[26], другие лица. Выезд делегации приурочили к годовщине победы народной революции и установлению власти трудящихся в Китае – 1 октября. И вот мы прибыли в Китай. Встречали нас очень радушно. Да и мы были очень рады побывать на китайской земле, встретиться и побеседовать с руководителями ее народа. Особых вопросов к Пекину у нас не было, кроме общих проблем обороны. Чтобы обеспечить оборону, надо было и дальше способствовать развитию экономики, особенно индустрии в Китае, С нашей стороны имелась только одна просьба к китайскому правительству. Мы считали, что дело представляет взаимный интерес и в какой-то степени явится помощью Китаю. Там существовала большая безработица, мы хотели какое-то количество китайских рабочих привлечь для разработки богатств Сибири, прежде всего на лесоразработки.
Точно не помню сейчас, о каком количестве людей шла речь. Нам требовалось около 1 млн человек, а может быть, и больше. Таковой была общая потребность, согласно заявкам отраслевых министерств. Действовало мнение, что у нас налицо нехватка рабочей силы. Эта точка зрения оказалась неправильной и была потом пересмотрена. Выяснилось, что у нас рабочей силы хватает, даже с излишком. Просто мы плохо используем рабочую силу, поэтому проявляется нечто вроде дефицита. Главным образом, дефицит ощущался в Сибири. Это и понятно. Чтобы разрабатывать богатства Сибири, надо привлекать рабочих из европейской части СССР, потому что в Сибири слишком слабая плотность населения. Я на этом задерживаюсь, чтобы показать затем, как реагировал на нашу просьбу Мао Цзэдун.
Собрались мы для очередного чаепития. В Китае я не замечал злоупотребления спиртными напитками. Даже когда мы собирались за обедом, то пили вино в умеренном количестве и без всякого принуждения, не то что у Сталина, когда каждый пил не сколько хотел, а сколько Сталин хотел влить отравы в его организм. Мао в этом отношении резко отличался от Сталина, и я не могу сказать, чтобы он лично проявлял какую-то склонность к питейным делам. Пили вообще преимущественно чай. Во время заседания его подавали в чашке с крышкой (по китайской традиции). Как только выпьешь, приносят следующую. Если не успевал выпить, чай забирали и ставили новый. Спустя некоторое время – опять то же. Периодически приносили теплое, распаренное махровое полотенце. Им китайцы вытирают голову и лицо, освежаются. Мы к такой церемонии не привыкли, но пользовались ею ради уважения к хозяевам.
Чай подавали в таком большом количестве! Я не привык пить столько жидкости и от чая отказывался. Тем более подавали зеленый чай, а я его не люблю. Булганин же любил чай и добросовестно выполнял церемонию, зато потом лишился сна. Врач его осмотрел и спросил: «Вы пили зеленый чай? Много?» – «Да, много». – «Если вы и дальше будете пить его в таком количестве, то еще хуже станете спать. Вам надо сократить потребление чая. Чай содержит тонизирующие вещества, которые лишают человека сна». Булганин перестал пить чай и опять вошел, как он мне сказал, в норму.
Как же Мао реагировал на нашу просьбу о рабочей силе? Надо знать Мао! Ходил он спокойно, медлительно, вроде как медведь, вразвалочку. Он глянул на меня, опустил глаза, опять поднял их и спокойно, тихим голосом, начал говорить: «На Китай все смотрят как на резерв рабочей силы. Все считают, что у нас много безработных, что мы слаборазвитая страна, и поэтому китайцев можно привлекать на всякие там неквалифицированные работы как дешевую рабочую силу. Но в Китае считается оскорбительным такое отношение к китайскому народу. Ваши требования (вот как он это поднес) могут создать для нас трудности и породить в Китае неправильное понимание в отношении Советского Союза. Получается, что СССР тоже смотрит на Китай как на поставщика грубой рабочей силы. Так смотрели на нас западные капиталистические страны».
Нам было очень неприятно выслушивать это, особенно такое сравнение. Мы-то искренне, по-братски относились к Китаю и пришли, как говорится, с открытой душой. Думали, что такое предложение выгодно Китаю, что он заинтересован временно избавиться от лишних ртов. Китайцы смогут сами зарабатывать на хлеб. Таким образом, это будет выгодно и тем, кто станет работать у нас, и Китаю, потому что он тоже будет получать какие-то выплаты за работы в Сибири. Мы условились, что я поведу переговоры от советской делегации. Поэтому я и ответил: «Товарищ Мао Цзэдун, мы не хотим создавать для вас трудности. Мы считали, что это предложение и в ваших интересах. Если оно создает вам трудности, то мы не настаиваем на своем предложении и обойдемся собственными силами».
На этом разговор закончился. После заседания у Мао собрались мы в своей резиденции и решили: раз наша просьба создает трудности для китайских товарищей, нам не стоит проявлять упорство, мы сами внутренними силами справимся с задачей разработки богатств Сибири. Так мы отказались от постановки этого вопроса и более к нему не возвращались. Но когда после поездки по Китаю мы вернулись в Пекин, к нам обратилась уже китайская сторона: что же вы не ставите вопрос о рабочей силе? Мы разъясняли, что отказались от своего предложения, получив такой ответ от товарища Мао Цзэдуна. Тут Пекин обратился к нам официально, заявив, что китайская сторона высказала лишь свои соображения, но тем не менее, с пониманием относясь к нуждам Советского Союза, готова нам помочь. Раз инициативу проявили китайцы, мы согласились возобновить переговоры и заключили соответствующий договор, который был подписан обеими сторонами. В нем зафиксирован объем поступления рабочей силы из Китая и разработаны условия оплаты. Мы пошли на заключение договора потому, что раньше сами проявили инициативу, а теперь уже Пекин поднял этот вопрос. Нам неудобно было отступать, пришлось бы давать какие-то объяснения, что могло ухудшить наши отношения.
Мы обусловили на первых порах получение 200 тысяч рабочих, и китайцы стали приезжать к нам. Однако из бесед, которые мы провели в Пекине, а особенно в связи с их постановкой вопроса о привлечении рабочей силы из Китая в Сибирь мы поняли, что поступили так зря. Мы выслушали обширную лекцию Мао Цзэдуна по истории Китая, а также о Чингисхане и других завоевателях, которые приходили в Китай; о том, что более стойкой оказалась китайская нация, которая ассимилировала всех завоевателей, приходивших в Китай. Очень многое было сказано о превосходстве китайской нации в сравнении с другими. То, что рассказал нам про это Мао Цзэдун, было интересно послушать, но мы сделали для себя вывод, что Мао относится к другим нациям свысока. У меня сложилось мнение, что при дальнейшем развитии отношений Китая с Советским Союзом могут встретиться трудности, что Мао наделен националистическими мыслями и считает китайцев превосходящими все другие нации.
Мы отметили такое личное качество Мао, что он никого не считает равным себе; значит, сможет дружить только с теми, кто будет признавать его превосходство и подчиняться ему не юридически, а в смысле понимания проблем, стоящих перед странами и перед партиями. Мне казалось, что Мао не сумеет примириться с условиями, необходимыми для здоровых отношений между социалистическими странами, когда каждая страна и каждая правящая партия занимают равноправное место. А он претендует на гегемонию в мировом коммунистическом движении!
После возвращения в СССР мы откровенно обменялись мнениями по этому вопросу в Президиуме ЦК КПСС. Наше сообщение вызвало тревогу. Докладывал я как глава делегации. Мое мнение сводилось к тому, что в наших отношениях с Китаем заложены опасные перспективы, а причина тому – высокомерие, проявляемое Мао при оценке роли Китая в мировой истории и собственной роли в истории китайского народа и коммунистического движения. Выдвижение на первый план собственной персоны угрожает трениями между нашими странами, а может быть, даже и больше, чем трениями. Поэтому (и со мною все согласились) мы должны сделать все, чтобы этого не допустить и строить свои отношения так, чтобы не вызывать не только каких-либо подозрений, но и вообще не вскармливать отрицательных, националистических бацилл, которые носит в своем организме Мао. Мы решили также приложить все силы к тому, чтобы не нарушать братских отношений Китая с СССР и сделать все возможное для их укрепления.
Однако у меня лично сложилось мнение, что этого будет трудно достичь или даже невозможно, потому что Мао не согласится занять равное другим положение в коллективном руководстве мировым коммунистическим движением и потребует признать свою гегемонию. По таким вопросам бывает невозможно договориться. Тут все зависит от личных качеств, от того, как относится к себе какой-нибудь руководитель, в каком направлении он прилагает свои усилия. Если добиваться не физического подчинения, а утверждения ведущего положения путем проявления более глубокого понимания хода истории и развития политики, вырабатываемой коллективом коммунистических партий, – тут другое дело! Но нет, я чувствовал, что Мао безоговорочно определил себя в вожди мирового коммунистического движения. А это было опасно.
Другие наши беседы в Пекине касались напрямую вопросов мирового коммунистического движения. Мы считали целесообразным осуществить какое-то «разделение труда» по связи с компартиями несоциалистических стран. Так как КПК добилась победы в Китае, то мы полагали, что лучше всего, чтобы именно она установила более тесные связи с братскими компартиями стран Азии и Африки. Кроме того, по уровню развития промышленности и жизненному уровню населения Китай стоял ближе к народам таких стран, как Индия, Пакистан, Индонезия. Мы-то имели в виду в первую голову как раз эти страны. А хотели оставить за собой укрепление связей с коммунистическими партиями Запада, в первую очередь европейскими и в США.
Когда мы высказали эти соображения китайским товарищам, Мао возразил: «Нет, это невозможно. В коммунистическом движении ведущая роль должна принадлежать Коммунистической партии Советского Союза. У нее богатый опыт, у нее был Ленин, в КПСС созданы кадры, которые глубже понимают марксистско-ленинскую теорию, а мы без Советского Союза никак не можем браться за такое большое дело. Мы ведь и сами смотрим на Советский Союз, учимся у него. Должен быть единый центр руководства, в Москве». Когда я слушал всевозможные доводы Мао насчет признания ведущей роли СССР и КПСС, то не мог отделаться от мысли, что это все на словах. А думает Мао совсем о другом, готовя соответствующую почву для себя. Это меня очень огорчало, я чувствовал, что когда-то настанет время трений, а может быть, и более чем трений, между нашими партиями, между нашими странами. Заявляю еще раз: это было для меня сильным огорчением. Но и мы не могли прятать голову в песок, как страусы, а смотрели такой опасности прямо в лицо, а с другой стороны, дали себе слово сделать все, чтобы заглушить такие ростки, изжить их и добиться самых лучших, братских отношений между нашими партиями, между нашими странами.
Когда мы вернулись в СССР, то решили глубже изучить собственные возможности. После смерти Сталина мы почувствовали большую ответственность за судьбу страны. Эта ответственность заставила нас глубже вникать в хозяйственные вопросы, особенно в вопросы планирования. Мы убедились, что мнение о нехватке у нас рабочей силы было неверным: в СССР имеются даже излишки рабочей силы, просто их неправильно используют. Поэтому для нас отпала необходимость в таком количестве рабочих, которое мы просили у Китая. К нам уже приехала первая их очередь, а далее мы не проявляли инициативы в этом вопросе. Казалось, такой поворот должен был импонировать Пекину и взглядам Мао, которые он нам высказал. Не тут-то было! Китайцы сами стали нам напоминать: «Что же вы, мол, договор подписали, а рабочих не берете? Стесняетесь, что ли? Мы готовы оказать вам братскую помощь».
Мы стали разъяснять им положение вещей, а при встрече с Мао я извинился за то, что мы ранее завысили свои пожелания в получении рабочей силы, которая на деле сейчас нам не требуется в таком количестве. Пришлось сказать, что в результате новой политики, которую мы сейчас проводим после смерти Сталина, у нас выявились новые возможности высвобождения рабочей силы, и дай нам Бог хотя бы ее задействовать, а не то что приглашать. Действительно, у нас в Москве посейчас скрытой безработицы на сотни тысяч людей. Они все при деле, но при каком деле? Если его не будет, так никто и не заметит, что его нет. В любом учреждении сейчас сократите на 30 % персонал, и работа не пострадает.
Закончилась эта эпопея так: по окончании соглашения с китайскими рабочими они возвращались домой, а мы уже не восстанавливали прежнего их количества за счет вновь прибывающих из Китая. Постепенно у нас сложилось единое мнение, что таким способом китайцы хотят внедриться на наш Дальний Восток. Я еще раз напоминаю об интересном маневре Мао: сначала он сказал, что наше предложение обидно, оскорбительно для китайского народа, а потом сам начал настаивать, чтобы мы взяли побольше людей, а если нужно, то они еще добавят.
Сложилось мнение, что Пекин хочет переселить к нам как можно больше людей для «оказания помощи» в разработке богатств Сибири, с тем чтобы внедриться в экономику Сибири и ассимилировать ее небольшое русское население. В результате Сибирь этнически станет китайской. Когда потом наши отношения испортились, они дошли бы в таком случае вообще до крайнего предела, поскольку Китай уже тогда предъявил претензии на наш Дальний Восток. Прямо это не высказывалось. Но, безусловно, подразумевалось бы, что и на Сибирь претендовать Китай имеет не меньше оснований, чем Советский Союз. Это вытекало из их взглядов на советско-китайскую границу, из их высказываний в печати, из бесед между нашими людьми и китайцами как на высшем уровне, так и в массах.
Так появились первые признаки наших разногласий и первая тревога у нас насчет отношений с Китаем. В короткое время эти признаки проявления китайского национализма переросли в оголтелый, захватнический национализм, сопровождаемый культом Мао. Жизнь, к нашему сожалению, подтвердила наши прежние опасения.
На одной из взаимных встреч в 1954 году мы поставили вопрос об эвакуации советских войск из Порт-Артура. Мы хотели при этом передать Китаю все недвижимое имущество, за исключением тяжелого вооружения, которое мы там только что поставили. Мао возразил, стоит ли сейчас это делать? Он опасается, что США могут воспользоваться уходом наших войск из Порт-Артура и напасть в этом районе на Китай. Я высказал наши соображения: «Сомневаемся, товарищ Мао Цзэдун, что США сделают это. Более того, я уверен, что они этого не сделают. Правда, никакого ручательства быть не может, потому что США проводят агрессивную политику: только что закончилась война в Корее. Однако мы выводим войска во Владивосток. Это рядом. Если произойдет вражеское нападение, мы, конечно, придем вам на помощь». В конце концов Мао согласился: «Ну, раз вы считаете, что США нападать не будут, мы не станем возражать против вывода ваших войск».
Так мы договорились и поручили нашим представителям приступить к оформлению договора о выводе советских войск из Порт-Артура. Спустя какое-то время (а мы часто встречались) Чжоу Эньлай опять поднял тот же вопрос: «Мы бы хотели, чтобы в Порт-Артуре осталось ваше артиллерийское вооружение». Мы согласились оставить им вооружение, но за плату. Чжоу же настаивал на том, что Китай хочет получить вооружение бесплатно. Это был неприятный вопрос, и мне отвечать на него было не совсем легко, но я вынужден был ответить: «Извиняюсь, но хотел бы, чтобы вы меня правильно поняли. Это очень дорогое оружие, и мы вам продаем его по заниженной цене. Мы бы хотели, чтобы это вооружение передавалось вам на тех условиях, которые мы предложили. Мы еще не оправились после разорительной войны с Германией. У нас разорено хозяйство, народ живет плохо. Поэтому мы просили бы, чтобы вы не настаивали и согласились с нами. Поймите нас правильно!» На этом разговор кончился. Пекин настаивать не стал.
Я вспоминаю, не заглядывая в документы. Поэтому отдельные детали могут быть не совсем точными, но за общую точность приводимых фактов я ручаюсь.
Китайцы подняли также вопрос о строительстве железной дороги и заявили, что дорога к ним через Улан-Батор представляет для них мало интереса. Я и сейчас не совсем понимаю почему. Раньше мы грузы везли через Дальний Восток, дорога в Пекин через Улан-Батор намного сокращает путь. Но китайцы прямо заявили, что хотели бы иметь дорогу, которая пройдет через их районы, богатые залежами минерального сырья, и выйдет к нашей границе примерно в районе Алма-Аты. Мы не возражали: если это выгодно для вас, то мы все сделаем со своей стороны, чтобы обеспечить постройку такой дороги. Потом работала соответствующая комиссия. Договорились, что китайцы на своей территории будут прокладывать дорогу своими силами к нашей границе, мы же на своей территории проложим путь к границе с Китаем в районе Алма-Аты.
Началось строительство. Китайцы шли со своей стороны, мы – со своей. У нас был отрезок пути короче, рельеф не столь тяжелый, кадры и техника сильнее. Поэтому мы быстрее подошли к границе, а китайцев пока и в отдалении не было видно. Когда в следующий раз их представители приехали к нам, они уже начали работу конкретно и вкусили, как говорится, от самого плода – познали прокладку дороги и почувствовали, что орешек крепок, что его надо разгрызать, имея хорошие зубы. Тогда они вновь подняли тот же вопрос через Чжоу. Все не очень приятные для нас вопросы они обычно поручали Чжоу Эньлаю. Во-первых, он премьер, во-вторых, более дипломатичен.
Чжоу спросил: «Как вы посмотрите на то, чтобы взять на себя прокладку отрезка железной дороги и на нашей территории?» Это прозвучало для нас неожиданно. Мы, однако, сразу поняли, что это означает. Во что это обойдется, пока нам было неизвестно. Предполагали, что окажется очень дорогим удовольствием. Дорогу следовало вести через горы, овраги, ущелья. Там надо было навести столько мостов, столько проложить тоннелей, и не счесть! Это было бы очень накладно. Неприятная обязанность отвечать на такой вопрос друзьям опять выпала на меня. И я сказал, что весьма извиняюсь, но сейчас такое нам не под силу. Даже свои задачи мы решаем с большим напряжением и принять на себя обязанность по постройке железной дороги на территории Китая просто не можем. Ведь подразумевалось, что строительство должно вестись не только нашими силами, но и за наш счет. Таким образом сей вопрос отпал. Дорога осталось недостроенной.
Видимо, подобного рода вопросы, которые нам подбрасывали, а мы от их решения отказывались, падали, как камни, на весы нашей дружбы, на ту чашу, которая, опускаясь, не способствовала укреплению дружеских отношений. Возникал груз, который отяжелял наши отношения. Однако дружба дружбой, а служба службой. Каждое правительство и каждый представитель правительства должен служить своей стране. Поэтому подобные инциденты не должны бы в принципе ухудшать отношения между странами. Да и не в этом заключалась главная причина ссоры, но все это в конце концов тоже способствовало ухудшению отношений.
Теперь о том, как китайцы реагировали на решения XX съезда КПСС и разоблачение злоупотреблений Сталина. От КПК на XX съезде присутствовала делегация во главе с Лю Шаоци и, кажется, Чжоу Эньлаем. Они понимали мотивы, которыми мы руководствовались, и поддерживали нас. Уже после съезда Мао и другие китайские руководители неоднократно выступали в поддержку его решений, и первое время у нас с Китаем продолжали сохраняться хорошие отношения, несмотря на то, что мы обнажили преступления, совершенные Сталиным. Сейчас Мао не соглашается, он осуждает решения XX съезда партии и берет себе дела Сталина на вооружение. Те методы, которыми Мао сейчас пользуется при расправе с оппозицией, не имеют ничего общего с диктатурой пролетариата. Это диктатура личности. Так в свое время поступал Сталин, когда уничтожал членов ЦК партии, руководителей центральных, краевых, областных, городских, районных, заводских организаций и просто рядовых коммунистов.
Не припоминаю каких-то особых трений, которые складывались в отношениях с Китаем в первые годы моей работы после смерти Сталина. Наши взаимоотношения протекали более или менее нормально, как и с компартиями других стран. И я бы даже сказал, что они были несколько теплее, потому что Китай для нас оставался каким-то экзотическим государством, угнетенным ранее империализмом, и к нему издавна возникло любовное отношение: и к народу, и к его руководителям. Ухудшение отношений нарастало постепенно. Но это было ощутимо.
Тут началась война на Ближнем Востоке. Англия, Франция и Израиль в октябре 1956 года развернули войну против Египта. Их агрессия совпала с печальными событиями в Венгрии, трениями с Польшей. В столь сложной международной обстановке у нас возникла потребность в более тесных контактах с Китаем. И мы обратились к Пекину с просьбой, чтобы кто-либо из китайского руководства приехал в Москву. Мы хотели посоветоваться и выработать общую линию в отношениях с Польшей и Венгрией.
В Венгрии события развивались бурно, там уже начались расправы с коммунистами, в них стреляли, их вешали, громили партийные комитеты. Ракоши[27] попросил нас помочь ему уехать из его страны. Мы послали ему самолет, и он прилетел в СССР. После отстранения Ракоши от руководства лидером венгерских коммунистов стал Герэ. Мы ему доверяли, он был, безусловно, хорошим коммунистом и нашим другом. Но Герэ там никто не слушал, все нити управления страной сходились к Имре Надю[28]. Надь почему-то был очень враждебно настроен к Советскому Союзу, хотя он жил у нас в эмиграции и работал в Коминтерне. Ракоши объяснял нам это тем, что тот всегда занимал крайне правые позиции, хотя все-таки считался коммунистом и тоже входил в руководство Венгерской компартии[29] и потом Венгерской партии трудящихся.
Итак, к нам прилетел товарищ Лю Шаоци. Кажется, входили в китайскую делегацию Дэн Сяопин и Кан Шэн[30]. Ныне Дэн Сяопин оказался в опале, и я ничего не знаю о его судьбе, а Кан Шэн к нам очень плохо относится, он в руководстве Китая является наиболее враждебно настроенным человеком в отношении СССР и КПСС. Лю Шаоци приятный человек, с ним можно по-человечески рассматривать вопросы и решать их[31]. Президиум ЦК партии уполномочил меня вести переговоры. С нашей стороны в состав делегации входил еще Пономарев[32]. Мы вели беседу всю ночь напролет, обсуждали ход событий, рассматривали варианты, думали, что же нам предпринять?
Вопрос стоял остро: предпринять ли нам в Венгрии военную акцию или же нет? Если нет, то какие к тому имеются основания, ведь контрреволюция бушует в полной мере, в Будапешт уже приехали из Вены эмигранты и захватывают руководство страной в свои руки. В самом Будапеште находились в то время Микоян и Суслов[33]. Они нам сообщали, что там идет стрельба, развернулось сражение. В других районах страны этого не наблюдалось, там было спокойнее и никаких особых проявлений вражды в отношении СССР и венгерских коммунистических руководителей не ощущалось.
При обсуждении с Лю Шаоци сложной ситуации, которая сложилась в Венгрии, у нас чувствовалось абсолютное доверие друг к другу: одной делегации к другой и одной партии к другой. Мы в процессе беседы приходили то к тому, то к другому решению, изменяли их несколько раз за ночь. Лю сейчас же связывался с Мао, передавал ему нашу точку зрения. И, как правило, мы получали согласие с такой точкой зрения. Несмотря на то что она менялась, Мао соглашался с противоречащими одно другому решениями, которые мы тут вырабатывали, заседая, если можно так сказать, как бы в смешанной советско-китайской комиссии по венгерскому вопросу. Закончили мы ночь решением не применять силу в Венгрии и дать возможность развиваться событиям самим по себе. Мы хотели верить, что внутренних сил окажется там достаточно, чтобы взять верх, восстановить порядок и не позволить контрреволюции захватить власть. За ночь мнение менялось несколько раз: то Советский Союз, то Китай предлагал применить войска, а в другой раз – наоборот. Однако, несмотря на все наши колебания и споры, отношение делегаций друг к другу было очень хорошим, основанным на полном доверии и искренности.
Заседали мы на даче Сталина, в Липках, где жила китайская делегация. Уехали домой уже утром, так и решив: советские войска в ход не пускать. И тут же утром получили сообщение из Будапешта, что контрреволюция начала буквально погром: коммунистов вешают за ноги, особенно чекистов и партийных руководителей; идет жестокая, зверская расправа. Собрались члены Президиума ЦК партии, еще раз все обсудили и решили применить силу. Но с Китаем мы уже договорились, что не будем применять силу, и Лю передал это в Пекин. Было бы нехорошо с нашей стороны, договорившись об одном, делать обратное. Лю должен был улетать в Китай вечером того же дня. И мы договорились с ним, что мы приедем на Внуковский аэродром пораньше и проведем там еще одну общую беседу. Сказали, что хотели бы вернуться к тому вопросу, по которому просидели всю ночь.
Приехали мы, по-моему, в полном составе членов Президиума ЦК, прибыла и делегация Китая. В отдельной комнате мы и провели беседу, объяснив причины изменения нашей точки зрения. Лю согласился, что другого выхода, видимо, нет, придется пойти на крайние меры. Он выразил уверенность в том, что братские коммунистические партии и венгерский народ поймут, что это была вынужденная акция в интересах рабочего класса, в интересах прогрессивных сил. Ведь трудно было даже представить себе возможные последствия утверждения контрреволюции в Венгрии.
Китайцы улетели. Мы были очень довольны их визитом и не усматривали никаких разногласий в отношениях между нашими партиями. После наведения порядка в Венгрии в Москву прилетел Чжоу Эньлай. Отсюда он полетел в Варшаву, в Будапешт, а потом, по-моему, в Белград. После ликвидации мятежа контрреволюции в Венгрии у нас опять ухудшились отношения с Югославией, хотя касательно применения силы югославские товарищи, а в первую голову товарищ Тито, были полностью с нами согласны и одобряли такую акцию. Мы ведь к ним специально летали туда с Маленковым и советовались, применять нам силу или нет.
Мы были очень довольны прибытием Чжоу Эньлая. У нас обострились отношения с Польшей, а у Китая этого не было. И мы рассматривали Китай как доброго посредника, который может смягчить обостренные отношения между компартиями СССР, Польши и Венгрии. Хотя не все было благополучно и с Югославией, но мы считали, что надо не идти путем ухудшения отношений, а изыскивать пути их нормализации и установления братских связей между компартиями наших стран. Чжоу приехал в СССР с хорошим настроением. Но я бы сказал, что проявился уже какой-то сквознячок, вроде бы ощущались какие-то щели, сквозь которые дуло. Может быть, это был результат обостренности нашего восприятия? Ни в чем конкретно это не проявлялось, просто мы чувствовали холодок в интонациях. Чжоу, попросту говоря, более независимо высказывал теперь свои суждения, нежели раньше.
Мы к этому относились с пониманием. Ведь вина за ухудшение отношений с Польшей и Венгрией ложилась на Сталина, значит, и на нас. Сталин породил такие отношения, и они должны были когда-то прорваться, не могли пройти бесследно. Теперь мы расплачивались за прежние кровавые дела, которые он учинил в руководстве Польши и Венгрии. Мы нуждались в правильном понимании нашей позиции, позиции осуждения методов насилия, осуждения поступков Сталина, хотели восстановить нормальные, братские отношения с нашими друзьями и на равноправной основе хотели строить наши отношения на базе уважения к народам всех стран и к руководству их коммунистических партий.
Отношения должны были нормализоваться именно на новой основе, потому что прежде Сталин считал себя персоной, которая отдает распоряжения, изрекает законы в коммунистическом движении, а остальные должны качать головами, как болванчики, смотреть ему в рот и только повторять: «Да, да, гениально. Полностью согласны». Тогда большего не требовалось. Но теперь нужны были другие отношения. Если создавать равноправие, следовательно, надо научиться выслушивать неприятные замечания, понять обиду на методы, которые применял Сталин. Все это и легло на наши плечи. Прокисшую похлебку, сваренную Сталиным, приходилось расхлебывать после его смерти.
Китай сыграл здесь положительную роль. Но мы чувствовали себя не совсем хорошо и видели, что китайские руководители несколько по-другому стали вести себя в беседах при обсуждении наших общих вопросов. Зато быстро шла нормализация отношений с Польшей. Здесь проявилась огромная заслуга товарищей Гомулки, Циранкевича, Спыхальского[34] и других, которые пришли в польское руководство. После подавления контрреволюции в Венгрии там тоже довольно быстро стало нормализоваться положение. Венгерские товарищи с большим пониманием отнеслись к применению нами военной силы для устранения контрреволюции, а ведь там проявилась контрреволюция в чистейшем виде. Однако некоторые затруднения наметились в других братских партиях. Отдельные члены компартий Франции, Италии и ряда других не поняли сути дела и публично осуждали наши действия в Венгрии. Особенно тяжело переживали происходящее литераторы и остальные представители интеллигенции. С Югославией у нас тоже пошел процесс нормализации отношений. И мы, и югославы со своей стороны все делали для этого.
20
КОВАЛЕВ Иван Владимирович (1901–1993) – нарком (министр) путей сообщения СССР в 1944–1948 гг. В 1948–1950 гг. советник при Народном правительстве Северо-Восточного Китая и советник при Центральном народном правительственном совете в Пекине, прозванный там «советником двух вождей».
21
КОЧУБЕЙ Василий Леонтьевич (1640–1708) – генеральный писарь с 1687 г. и генеральный судья с 1699 г. в Гетманском уряде Левобережной (российской) Украины. Неоднократно предупреждал Петра I о тайных переговорах гетмана И.С. МАЗЕПЫ с польским королем Станиславом Лещиньским и шведским королем Карлом XII, после чего бежал в Россию, но был выдан царем Мазепе и казнен. Мазепа Иван Степанович (1644–1709) – в 1687–1708 гг. гетман Украины, близок к Петру I. Затем в разгар шведской войны 1700–1721 гг. перешел на сторону, как тогда казалось, побеждавшего шведского короля Карла ХII, воевавшего в Украине в союзе с поляками.
22
В 1954 г. ГАО ГАНА сместили со всех постов, в 1955 г. исключили из компартии Китая. В том же году он умер от неизвестной причины, по китайской официальной версии, «покончил жизнь самоубийством».
23
Смешанные общества – форма организации акционерных компаний, в которых выступают партнерами частный капитал и государство либо несколько государств, совместно эксплуатирующих предприятия в каких-то отраслях экономики или при добыче природных ресурсов.
24
КИМ ИР СЕН (1912–1994) – основатель и фактический руководитель Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Родился в Корее, но с 1920 г. жил в Маньчжурии (Китай), с 1932 г. участвовал в антияпонском партизанском движении и в 1940–1941 гг. в Юго-Восточной Маньчжурии занимал должность командующего 2-м направлением 1-й Объединённой северо-восточной антияпонской армии. В ноябре 1941 г., под давлением японцев, перебрался в СССР. С июля 1942 г. в Красной Армии, командир стрелкового батальона, участвует в освобождении Северной Кореи от японцев. В декабре 1946 г. назначен председателем Северокорейского оргбюро компартии Кореи, а в феврале возглавил Временный народный комитет Северной Кореи. В 1948–1972 гг. председатель Кабинета министров КНДР, в 1949–1994 гг. генеральный секретарь ЦК Трудовой партии Кореи, с 1972 г. президент КНДР до самой смерти. В период войны с Южной Кореей (1951–1953) верховный главнокомандующий. После разоблачений преступлений Сталина в 1956 г., опасаясь за свою власть, провел чистки и заявил о нейтралитете в советско-китайском конфликте.
25
ПОРТ-АРТУР (Люйшунь) – город и порт на Ляодунском полуострове Китая, вместе с г. ДАЛЬНИЙ (Далянь) образует основную часть административного района ЛЮЙДА. С 1898 г. арендовался Россией и был соединен железнодорожной линией с Харбином. После Русско-японской войны 1904–1905 гг. отошел к Японии, которая по окончании арендного срока в 1923 г. отказалась возвратить его Китаю. Освобожден Красной Армией 23 августа 1945 г., по советско-китайским соглашениям 1945, 1950 и 1952 г. совместно использовался СССР и Китаем как военная база. В мае 1955 г. безвозмездно передан Китайской Народной Республике.
26
В тот период: ХРУЩЕВ Никита Сергеевич (1894–1971) – первый секретарь ЦК КПСС, БУЛГАНИН Николай Александрович (1895–1972) – Председатель Совета Министров СССР, МИКОЯН Анастас Иванович (1895–1978) – заместитель Председателя Совета Министров СССР, министр торговли СССР, ШВЕРНИК Николай Михайлович (1888–1970) – председатель Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов (ВЦСПС), ФУРЦЕВА Екатерина Алексеевна (1910–1974) – первый секретарь Московского горкома партии, ШЕЛЕПИН Александр Николаевич (1918–1994) – первый секретарь ЦК комсомола, НАСРИДДИНОВА Ядгар Садыковна (р. в 1920 г.) – заместитель председателя Совета министров Узбекской ССР.
27
РАКОШИ Матьяш (1892–1971) возглавлял ЦК Венгерской партии трудящихся, в июле 1956 г. был освобожден от всех должностей и покинул Венгрию. ГЕРЭ Э., сменивший его на посту первого секретаря ЦК ВПТ, занимал его по октябрь 1956 г., когда началось восстание и первым секретарем был избран Я. КАДАР (1912–1989).
28
НАДЬ Имре (1896–1958) – глава правительства Венгрии в 1953–1955 гг. и в октябре – ноябре 1956 г. Осужден по обвинению в предательстве родины и казнен, в 1989 г. посмертно реабилитирован. В 1930-е гг. Надя завербовало НКВД и дало ему кличку Володя.
29
Коммунистическая партия Венгрии (1918–1943). Венгерская коммунистическая партия (1944–1948). Венгерская партия трудящихся (1948–1956). Затем называлась Венгерской социалистической рабочей партией (до октября 1989 г.).
30
ДЭН СЯОПИН (1904–1997) – член КПК с 1924 г., член ее ЦК в 1945–1966 гг., 1973–1976 гг. и 1977–1987 гг., член его Политбюро в 1955–1966 гг., 1974–1976 гг. и 1977–1987 гг. В 1956–1966 гг. – генеральный секретарь ЦК КПК, заместитель главы правительства. В 1952–1966 гг. и в 1975–1982 гг. – заместитель председателя ЦК КПК. В 1977 г. он провозглашает кампанию «Пекинская весна», в ходе которой начинается низвержение «культурной революции» Мао Цзэдуна. Он провозгласил принцип «социализма с китайской спецификой», чем открыл путь экономическим и политическим преобразованиям в стране. В 1978–1983 гг. председатель Всекитайского комитета народного политического консультативного совета. В 1975–1980 гг. начальник Генерального штаба. В 1982–1987 гг. председатель Центральной комиссии советников КПК. В 1981–1989 гг. председатель Военного совета ЦК КПК. В апреле 1989 г. высказывается за силовое разрешение кризиса во время демонстраций на площади Тянаньмэнь в Пекине, чем предотвращает сползание в хаос и сохраняет единство страны. В 1983–1990 гг. председатель Центрального военного совета КНР. В 1992 г. уходит со всех постов, но сохраняет решающее влияние на политическую жизнь Китая.
КАН ШЭН (1898–1975) – один из лидеров компартии Китая (КПК), руководитель органов госбезопасности, один из главных организаторов «культурной революции». Член КПК с 1925 г. В качестве лидера партийной ячейки КПК участвует в нескольких восстаниях в Шанхае под руководством Чжоу Эньлая, в 1938 г. назначается в секретариат ЦК КПК. В 1938–1945 гг. Кан Шэн возглавлял Шэхуэйбу – главный орган разведки КПК до её прихода к власти в 1949 г. После образования КНР Кан практически не появлялся на публике. В середине 1950-х гг., благодаря своей активной роли в нападках на Пэн Дэхуая, возвращает контроль над аппаратом безопасности КПК и становится личным агентом Мао во внутрипартийной борьбе. В 1959 г. начинает кампанию по борьбе с традиционалистами, которая позже переросла в «культурную революцию». В 1962 г. становится членом секретариата ЦК КПК. В 1966 г. избирается членом Политбюро ЦК КПК и становится одним из руководителей Группы по делам «культурной революции», организовывал кампании против Пэн Дэхуая, Лю Шаоци, Дэн Сяопина, Линь Бяо и многих других лидеров КПК. Его последняя провокация 1976 г. была направлена против Чжоу Эньлая и Дэн Сяопина, но он не дожил до ее начала, умер от рака 16 декабря 1975 г.
В 1980 году Кан был посмертно исключен из партии и его прах был вывезен с Бабаошаньского революционного кладбища.
31
В то время Дэн Сяопин был вице-премьер-министром правительства Китая, а Кан Шэн возглавлял службу безопасности. С началом «культурной революции» Дэн Сяопина лишили всех постов и сослали в провинцию на перевоспитание. Он вернулся к активной деятельности после смерти Мао Цзэдуна. Кан Шэн во время «культурной революции» возвысился, занимал пост советника по культурной революции при ЦК КПК.
32
ПОНОМАРЕВ Борис Николаевич (1905–1990) – партийный работник. В 1926 г. окончил Московский университет и в 1932 г. Институт красной профессуры. В 1932–1934 гг. заместитель директора Историко-партийного института Красной профессуры, в 1934–1937 гг. директор Института истории партии при Московском комитете ВКП(б). В 1936–1943 гг. помощник руководителя Исполкома Коминтерна Георгия Димитрова. С 1944 г. заместитель заведующего отделом международной информации ЦК ВКП(б), с 1947 г. заместитель начальника, начальник Совинформбюро при Совете Министров СССР. В 1948–1955 гг. первый заместитель заведующего, с 1955 по 1986 г. заведующий Отделом по связям с иностранными коммунистическими партиями – Международным отделом ЦК КПСС. В 1961–1986 гг. секретарь ЦК КПСС, в 1972–1986 гг. кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС. Академик (1962).
33
МИКОЯН Анастас Иванович (1895–1978) в указанное время был первым заместителем Председателя Совета Министров СССР и членом Президиума ЦК КПСС.
СУСЛОВ Михаил Андреевич (1902–1982) – партийный работник. В 1926 г. окончил Московский институт народного хозяйства, в 1931 г. окончил аспирантуру в Институте экономики Коммунистической академии. В 1931–1934 гг. в аппарате Центральной контрольной комиссии ВКП(б) и Наркомата Рабоче-крестьянской инспекции (ЦКК – РКИ), а с 1934 г. – в Комиссии советского контроля при Совете Народных Комиссаров СССР (СНК СССР). В 1938–1939 гг. – второй секретарь Ростовского областного комитета ВКП(б), 1939–1944 гг. – первый секретарь Орджоникидзевского (Ставропольского) крайкома ВКП(б). В 1944–1946 гг. председатель Бюро ЦК ВКП(б) по Литовской ССР. С 1946 г. руководитель отдела внешней политики ЦК ВКП(б), а с 1947 г. начальник Управления пропаганды и агитации ЦК КПСС. В 1949–1951 гг. главный редактор газеты «Правда». В 1947–1982 гг. секретарь ЦК ВКП(б)/КПСС. В 1952–1953 гг. и 1955–1982 гг. член Президиума (Политбюро) ЦК КПСС.
34
ГОМУЛКА Владислав (1905–1982) был тогда первым секретарем ЦК ПОРП.
ЦИРАНКЕВИЧ Юзеф (1911–1989) был тогда членом Политбюро ЦК ПОРП и председателем Совета министров ПНР.
СПЫХАЛЬСКИЙ Марианн (1906–1980) был тогда министром народной обороны.