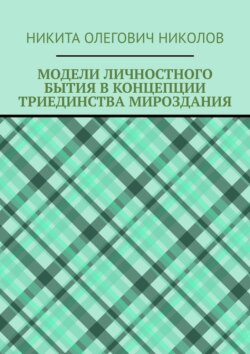Читать книгу Модели личностного бытия в концепции триединства мироздания - Никита Олегович Николов - Страница 4
ГЛАВА 1. АБСОЛЮТНЫЙ ДУХ КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ДВУХМЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ ЛИЧНОСТНОГО БЫТИЯ
1.2. Общенаучные методы творчества новых смыслов в теории познания события «толерантности духа»
ОглавлениеОбщенаучные методы познания, открывающие закономерности, принципы научной мировоззренческой парадигмы, согласно нашему подходу могут производить освоение новых понятий, состояний материи (знания) по двум различным по своему качеству моделям бытия. Первый вид – это двухмерные модели бытия: «материя – первична, сознание – вторично и/или сознание – первично, материя – вторична». Второй вид – это трёхуровневая (духовная) модель бытия: физическое сущее, время, ментальное сущее.
В нашем исследовании по рассмотрению категории духа мы проанализируем такие виды общенаучного познания, как синтез, анализ, абстрагирование, обобщение, индукцию, дедукцию, аналогию, моделирование, исторический и логический методы, используемые в различные исторические периоды развития понимания категории духа. Вместе с тем, онтическая сущность духа будет охарактеризована в рамках категорического императива толерантности. Следует указать, что раскрытие феномена толерантности в виде категорического императива ранее раскрывал О. Д. Агапов (Агапов О. Д. Лики толерантности: онтологическая, онтическая и виртуальная формы // Толерантность – «оливковая ветвь» человечества на этапе исторического разлома. 2016. С. 88—91). В его исследовании на хорошем научном уровне раскрыты пограничные стороны номинации «толерантность». Так им указывает на недопустимость применения данного термина по отношению к проявлениям насилия, зла в обществе. Вместе с тем, по мнению автора текущего исследования, данной работе не хватает отражения ещё одного недопустимого явления, толерантным к которому быть сегодня призывает косвенно и напрямую подавляющая часть сциентических и антисциентических идейных направлений. В данном случае имеются в виду проявления толерантности (с латинского переводимого как терпимость) к процессу замещения в современном социуме конгруэнтного имени души в личностном бытии на форму абсолюта духа.
Однако наша главная цель раскрыть особенность условий (психологических, языковых, философских, мировоззренческих) для общенаучных видов познания, при их использования в тех или иных философских школах и философских направлениях мысли в процессе познания духа человека. Категорический императив толерантности, проявляемый духом по отношению к факту отсутствия души в его векторе развития, в его «критике чистого духа» будет дополнять нами исследуемую ограниченность трансцендентных уровней развития духа в современном мире.
В этом контексте мы рассмотрим всеобщие методы познания как методы научного творчества, проявляемые в процессе мысленного акта – как конкретной деятельности органа мышления человека; в данном случае основой данного подхода послужили работы по исследованию теории деятельности в работах
С. Л. Рубинштейна и А. Н. Леонтьева, а также в исследованиях В. С. Библера («Мышление как творчество»).
При исследовании особенностей творчества новых смыслов посредством общенаучных методов познания автор также учитывал разработанные методологические подходы побуждения сознания на логический и ассоциативный поиск новых смыслов. Среди которых можно отметить метод мозгового штурма (А. Осборн), синектику (У. Гордон), метод контрольных вопросов, морфологический анализ), изложенных в работе А. С. Майданова86.
Которые, однако, отображают только часть деятельностной стороны сознания, а не сам феномен и механизм придания мысли определённой направленности, действующей на уровне физиологии мысли, что побуждает нас для полноты и объективности заявленной темы раскрыть и рассмотреть и сам механизм смещений мыслеформы в духовные, либо в псевдодуховные риторические пространства и назвать эти условия.
Также интересной нам кажется позиция Н. А. Бердяева, изложенная в работе «Смысл творчества» относительно онтогносеологических задач философии, а именно: «найти наиболее совершенную формулировку истины, увиденной в интуиции, и синтезировать формулы. Убеждает и заражает в философии совершенство формул, их острота и ясность, исходящая от них свет, а не доказательства и выводы. Доказательства всегда находятся в середине, а не в началах и не в концах, и потому не может быть доказательств истин начальных и конечных»87.
Интересной нам кажется данная позиция не потому, что мы хотим избежать объективность логики научного доказательства нашей гипотезы, но потому, что для решения поставленной проблемы параграфа мы будем учитывать возможности интуитивного знания. Данный подход не противоречит позиции современных авторов, исследователей феномена эвристической интуиции (К. Н. Суханов)88. Эвристическая интуиция, по нашему мнению, является весьма подходящим инструментом для познания категорий личностного бытия, а особенно его трансцендентных форм души и духа.
Так как одной из задач нашего исследования была обозначена позиция расширения трансцендентного познания, мы под этим утверждением понимает возможность расширения горизонта личностного бытия с уровня абсолютизированного духа, как числовой эманации цифры, до границ сознания души, как буквенной эманации слова, для разрешения проблемы предельности границ познания. Для решения данной задачи мы обратимся к постнеклассической философии, с учётом, что постмодернизм сегодня стал уже классикой и в искусстве, и в философии науки, то есть к философии рецептуализма, и его новейшей форме – философии трёхмерности89.
Поэтому в первом параграфе нашего исследования, посвящённого именно методам творчества новых смыслов в теории познания духа, мы и рассмотрим её (задачи расширения границ трансцендентального познания) решение.
Данный анализ будет актуален также и для последующих глав, где раскрывается сущность лабораторий и механизмов творения новых смыслов в познании и тела, и души, что позволит нам далее не повторяться в раскрытии и обоснования, используемых нами ключевых понятий и суждений о сущности мысли, её динамической природе, а также о наличествующих вариантах смещения, оформленных сознанием мысли – мыслеформы в процессе оформления их множества в единство тех или иных идей о природе души, духа и тела.
Поэтому наименование параграфа сложнее своим подходом в раскрытии в процессе исследования не только условий применения и самих методов творчества, но и механизма образования мыслей, так как материалы исследований философии рецептуализма, философии трёхмерности собственно и позволили нам выйти на данный предел исследований.
Дополняя нашу позицию относительно особенности рассмотрения механизма творчества, образования новых смыслов, мы отметим, что данный вопрос достаточно хорошо раскрыт в работе О. П. Рыбниковой, которая, сублимируя работы Ф. Ю. Левинсона-Лессинга, С. О. Грузенберга, Г. Уоллеса, указывала, что «возможно выделить трёхактность механизма творчества: усмотрение проблемы и зарождение идеи, поиск решения и воплощение»90. Однако даже данный качественный анализ механизма творчества не показывает суть проблемы порождения мысли. Указанная механика творчества не объясняет, почему только на базе первой моделирующей системы русского языка сегодня появилось различие различения (различение) души от духа, а моделирующей системы всех 24 официальных европейских языков, а также древнегреческого, латинского, иврита, китайского языка не позволили и сегодня различать данные события глубинно, эссенциально. Именно поэтому и привлекаются положения теории азбучных планов для разрешения вопроса особенностей механизма творения либо псевдодуховных смыслов, либо духовных (критерии духовности знания мы ранее раскрывали, поэтому повторяться мы не будем).
Так, общенаучные методы познания в наиболее ранней своей редакции были проанализированы Аристотелем, однако, применяя их в познании субъективных уровней модели личностного бытия, он неизбежно сталкивался с таким семантическим и понятийным конгломератом, как «психе», не позволяющим языковой личности разделить онтологию души от онтологии духа.
Вместе с тем на процесс познания субъективных уровней личностного бытия в условиях материи древнегреческого языка уже на тот момент влияла «матрица порождения диалектических антиномий», «матрица шизо», «матрица зла», выражаемая в виде символов: А = М + W (сущность данной матрицы мы рассмотрим в данном параграфе далее). Особенность структурного присутствия данной матрицы в древнегреческом языке ранее уже отмечал А. А. Свиридов.
Воздействие указанных языковых условий на языковую личность исследователей произвело одновременную герметизацию знания о душе и духе. То есть получается, что именно языковые условия и стали пределом трансцендентного познания бытия, что интуитивно чувствовал И. Кант, задавая вопрос о пределах познания, предчувствуя, что имеются иные пределы познаваемости мира. Вместе с тем использованные им конструкции «чистота разума», «чистота рассудка», не позволили ему проникнуть за фантомно-гипнабельную фигуру духа абсолюта в рамках семиотической системы немецкого языка. В этом и заключается феномен толерантности абсолютного духа к отсутствию души в его «критике чистого духа». То есть семантические условия языковой материи, способствующие абсолютизации духа, также утверждают инволюционный категорический императив толерантности духа к отсутствию души в его развитии.
Ещё одним следствием наличия в языковом мышлении древнегреческих мыслителей матрицы порождения диалектических антиномий и семантических конгломератов является факт обожествления в научном сознании таких сущностей, как Логос, универсум. В религиозной философии христианства и иудаизма материальной основой которой явились вербальные и невербальные символы одно-, двухмерных семиотических систем, божества зачастую сочетали в себе категории и добра, и зла (данные суждения имеются и в текстах «Нового Завета» и «Ветхого Завета»).
Данная технология и механика смешения полярных понятий, как источник творения новых смыслов, основанных лишь на перекомбинировке сущностно различных понятий, как добро и зло, душа и дух, буква и число и тому подобные примеры, перекочевала из религиозных текстов иудаизма – книги «Зоар», «Талмуд», «Тора» практически во все философские направления древнего мира и современности. Пределом познания в которых выставлены фигуры духа, духа-абсолюта, «анима», «анима мунди», универсума, логоса, где душа в религиозной традиции иудаизма, изымается через отрицание необходимости её обладания у человека – «правоверного иудея», а категория души в текстах Библии не имеет дешифровки в виде отдельной главы; в философии наук о «духе интеллекта, духе абсолюта, духе атеизма» также нет чёткого различения эссенциальной сущности души.
Таким образом, вопрос об отношении духа к универсуму снимается, так как мы увидели, что дух в программах абсолютизации генезиса интеллекта и ума поглощает душу и становится универсумом абсолюта (источником «злых духов революций»). Совершенно иначе отношение духа к универсуму выстраивается при взаимодействии с душой, который посредством даже краткого, но стабильного приобщения к сознаниям разума и души приобретает способность преодолевать трансцендентный лик духа абсолюта-универсума, в режиме трансцендентального познания (как его понимал И. Кант) посредством интуиции, являющейся частью органона души.
Также в этом случае необходимо «учесть замечание С. С. Аверинцева, что „…дух бывает не только божественный, но и сатанинский“»91, так как дух в данном исследовании по отношению к божественной душе осмысляется в качестве категории особенного и единичного перед категорией всеобщего.
Божественный дух с точки зрения философии индуизма и духовных категорий эпоса древних славян вполне соотносится с таким понятием, как «жива-жизни» (добрый, божественный дух). Данная категория духа в рамках нашей методологии, принимая второстепенное место перед божественной душой, не имеет онтологических предпосылок для абсолютизации сознаний ума и интеллекта. Вместе с тем позволяя им (интеллекту и уму) выстраивать устойчивые взаимосвязи с сознаниями рассудка, разума и души, не пытаясь их заместить. Промежуточной задачей данного параграфа является раскрытие особенностей механизма смещения смыслов относительно элементов личностного бытия либо в абсолют ассоциации идей, либо в абсолют абстракции вещей92.
Так, следуя выводам исследований, сделанным ранее в статье: «Категория тела человека в триединстве модели „Я – русской тройки“ как души, тела и духа в режиме „лабораторий“ мысли программы „разумогенеза“, программы „интеллектгенеза“»93, видим, что позиции большинства исследователей среди физиологов, психологов, при описании топологии личностных моделей бытия использовали ограниченную парадигмальную установку вида: «всё биологическое – психологично». Это означает, что они использовали только ограниченную часть «лестницы форм» по исследованию эволюции сознания. Эволюция сознания, таким образом, ими рассматривалась в пределах диалектики абсолюта духа, который, не имея своего собственного сознания, способен только использовать продукты деятельности сознания рефлексов, интеллекта и ума. Причём смешение непосредственно феномена «мысли» с процессом мышления (отождествления данных связанных, но не тождественных явлений) в рамках научной мысли физиологии, только усиливало абсолютизированность рефлексов коры головного мозга в теории личности человека, которые в объёме понятия о комплексной психомоторной реакции организма человека фактически замещали собой базовые категории личности – душу и дух, что в исследованиях Н. И. Павлова, что в работах В. М. Бехтерева, что в современных исследованиях по физиологии К. Анохина94, В. А. Макарова. Отождествление мышления и мысли происходило на основании принятия за орган мышления человека структурных элементов коры больших полушарий головного мозга. Данную парадигмальную установку в физиологии на академическом уровне ранее опровергла Н. П. Бехтерева, объективно критикуя философские матрицы двухмерности за их несостоятельность при выявлении истинной природы сознания. Данные обстоятельства и послужили причиной настоящих поисков новой теории сознания, на роль которой, по нашему мнению, подходит теория азбучных планов триединства мироздания, что мы в дальнейшем (в следующих главах) верифицируем через предложение решения фундаментальных проблем философии.
Концептуализация основополагающих результатов в физиологии, таким образом, по большей части следовала закономерностям риторики информационных программ личностного бытия, позволяя исследовать только пределы сознаний интеллекта, ума. Данные уровни сознания в силу своих функциональных особенностей всецело подвержены воздействию диалектической формуле: «всё биологическое является одновременно и психологическим». Данная диалектическая формула предполагает, в свою очередь, что все органические реакции организма сводимы к объяснению феноменов сознания, среди которых модусы координационной, организующей структурности сознания ошибочно приписывали интеллекту, уму.
Психология, познающая феномены психики в описательных контурах философии двухмерности, отрицала и отрицает через семантический конгломерат «психе» чёткие границы между духом, душой, объявляя их архаичными категориями. Вместе с тем психологический феномен релятивизма (относительности), выраженный предельно ясно только в концепции триединства мироздания, показывает, что для субъективной формы бытия необходима совершенно иная парадигмальная установка. Наиболее точно её выражает диалектическая формула: «всё буквенное – психологично». Данная риторическая формула позволяет показать, что появление мысли опосредованно не только понятийной сферой того или иного языка, а также психолингвистическими механизмами, которые ранее не рассматривались в физиологии.
Такими механизмами являются: 1) агглютинативная сущность семиотических элементов европейских языков, способная трансформировать этические и моральные психологические установки личности. Преобразованные психологические установки личности, в свою очередь, способны влиять на произвольные и непроизвольные реакции организма человека; 2) антиномичная сущность матрицы смешения смыслов полярных понятий, иначе матрица языковых антиномий: «А = М + W». Её риторическое, фонематическое, семантическое содержание сегодня внедрено во все 24 европейских языка мира, а также в арабский язык и иврит. Данной матрице языковых антиномий также присуща способность по трансформации этических и моральных установок личности.
Выяснив методологические основания пределов познания «наук о духе», «наук о природе» в рассмотренных выше трудах классиков научных направлений, мы должны перейти к детализации рассмотрения механизмов познания феноменологии духа в различных научных школах и направлениях. Посредством предстоящего теоретического обзора мы сможем выявить особенность формирования толерантности духа абсолютного к отсутствию в его поле развития конгруэнтной своему идеальному имени категории «души».
Так, в период развития древнегреческий философской мысли использовались следующие методы познания: софистические рассуждения, диалектика Платона, применяемая в диалоге «Федр» (идея о трёхчастной душе), логика Аристотеля, содержащая в себе важнейшие элементы теории познания. Однако стоит отметить, что использованные в труде «О душе; Περὶ ψυχῆς (греч.)» вышеуказанные методы познания не смогли удержать смещения смыслов души и духа в рамки субъективных программ бытия: генезис интеллекта и ума. Данные программы бытия, оказались подвержены воздействию материи духа-абсолюта и, согласно формуле распределения смыслов: «абсурд ← смысл слова → абстракция»
(по А. А. Свиридову), предопределили невозможность демаркации бытия души от бытия духа. Онтология духа в этих условиях языковой материи содержала «норму» отсутствия оснований для взаимодействия с феноменологией души, что и отразилось в отсутствии качественно разработанной теории в рамках античной философской традиции по различению духа от души. Данные обстоятельства справедливо можно назвать феноменом негативной стороны толерантности духа, допускающей для личности только норму абсолютизации духа.
В рамках работ А. А. Свиридова «абстракция – это и метод постижения в разделении смыслов буквы, слова, эмоций и в их обобщении понятий и эмоций в онтологии познания»95, которая может выводить либо к образам живого тела, здорового духа и души, как полноценная абстракция, не подверженная смещению в рамки абстракции абсурда (хаоса, дихотомии). Данный подход по-новому детализирует форму развития абстракции вещей96. Новизна данного подхода по отношению к теории марксизма-ленинизма заключается в том, что высшей формой абстракцией вещей назначается символ буквы. Особенным в данном понятии является придание символам букв онтологического статуса. С позиций аналитической психологии, а также принципа превращённой формы языка было предложено уместным учитывать символы букв за онтологическое выражение психологических архетипов. Буква в данном случае понимается в качестве устойчивой формы абстракции для сопровождения эволюционной диалектики сознания и материи. Характерным примером регрессивной формы абстракций (переходящей в абсурд) служат номинации: анима, френ, фацинус, корпус (лат.) – живое тело и/или труп», «психе (греч.) – дух и/или душа». Данные номинации содержат в себе антиномии, способные смещать смыслы и суждения к абсурдным, а не парадоксальным умозаключениям.
Абсурд, как нелепость, «являемая почти случайно в обобщении понятий по признакам ситуаций и структурам интеллекта, и которую ум делает достоверными и правдоподобными рассуждениями личности»97, трансформирующих часто образы эстетики безобразного в правдоподобные образы эстетики прекрасного в объёмах первой рефлексии сознания людей.
Регулятором при этом распределения раскрываемой мыслеформы (осознание мысли – это мыслеформа) является лаборатория творчества мысли и смыслов либо в объёме одномерного квазиалфавитного плана (все идеографические языки), либо двухмерного алфавитного плана, либо азбучного плана триединства мироздания (русский язык).
Мыслеформы абсурда, а не парадокса фактически являются итогом творения и раскрытия мысли в пределах лабораторий творчества новых смыслов в объёме одномерного квазиалфавитного плана и двухмерного алфавитного плана (все 24 европейских языка). Данные продукты творчества новых смыслов, к примеру, характерно представлены в постмодернизме, который явился итогом развития последовательности: концептуализм – модернизм – постмодернизм. Постмодернизм фактически привёл к эстетике абсурда, к не устраняемой своим философским аппаратом антиномий феноменальности «матрицы шизо» и её анализа: «шизоанализа» Ж. Делёза и Ф. Гваттари.
Мыслеформа (как проявленное осознание мысли) является подверженной смещению смыслов либо в сторону абстракции ассоциаций, либо в абсурд идеализма, материализма. В то время как «мысль» отражает массу (энергии) того или иного структурного алфавитного плана, которую подают/смещают в той или иной плоскости онтологии глубинные уровни материи, прикосновение к которым, согласно утверждению К. Г. Юнга, структурой интеллекта невозможно. Данное определение времени, было нами заимствовано у А. А. Свиридова.
Так, «мысль» мы будем рассматривать как «психический, временной и психологический инструмент…»98, проявляющий и открывающий сознания рефлексов, сознания интеллекта, ума, рассудка, разума, души.
В этом контексте можно отметить, что осознание мысли – как мыслеформы мифологемы о различной природе духа и души в трудах древнегреческих философов не произошло. Имели место быть образы трёхчастной и трёхуровневой души у Платона и Аристотеля, но конгруэнтный образ духа своему идеалу так и не был выведен.
В работах Платона феномен духа передаётся посредством номинации «πνεῦμα» (греч.), которая в равной степени замещается и номинацией «νοητικός» (греч.). Последняя номинация сообщает ему такие категории, как разум и/или мыслящий. В основании этой номинации содержится и морфема «νοῦς» (ноус – высший разум или душа).
Процесс пересечения и даже замещения смыслов одной морфемы другой весьма наглядно представлен в словаре церковнославянского языка. В частности он наглядно представляет, что номинация «умный», также подразумевающее под собой словоформу «духовный», выдвигается в качестве равнозначной дефиниции греческому слову «ноэтос» («умопостигаемый»)99, «чем устанавливается непосредственная связь с философией Платона и Аристотеля, для которых „умопостигаемое“ обладало преэмптивным значением с точки зрения познания»100.
По Платону, душа относится к области духа, но она также занимает «промежуточное положение между чисто духовным и чисто вещественным»101, то есть дух является высшей ценностью, идеалом ассоциации идей, что является следствием применения диалектического метода в объёме знаний меры различия (первой рефлексии сознания на себя).
Также практически все труды древнегреческих исследователей содержат методы анализа, обобщения именно концепта «психе (греч.)», в переводе на русский язык означающего дух и одновременно душу, что позволяет нам сделать достаточной изящный и чёткий вывод, что превосходные открытия о природе души, смешиваемой в языковом мышлении древнегреческих авторов с концептом духа, помешали им также оценить истинную природу данных событий, что ставит их открытия сегодня в ряды частных явлений, открытиями особенного и единичного уровня. Вместе с тем необходимо признать, что для исследований 2500-летней давности эти работы в своё время были вершиной научной мысли. Вывод о наличии негативной стороны проявлений толерантности духа к отсутствию в его онтологическом континууме программы по взаимодействию с феноменологией души в рамках древнегреческой философской традиции нами ранее уже был представлен. Поэтому закономерным будет рассмотрение следующих философских традиций, которые закрепляли косвенно или напрямую феномен толерантности духа.
Древнекитайская философия, используя в качестве метода познания диалектику дуализма, в том числе направленной на изучение предвечной тео-зоо-антропоморфной сущности Дао и универсальной субстанции Вселенной в виде концепта «Ци», не смогла найти методологических оснований для сдерживания негативной тенденции абсолютного духа по отрицанию души. Так концепт «Ци» несёт в себе номинацию семантического конгломерата: «дух и одновременно материя». Дух в рамках данной абстракции абсурда становился «наездником» души, заменяя в дальнейшем душу на образы драконов, ящеров. Дракон по поверьям китайцев, существует в их сердцах, что позволяет им сохранять его дух, который также является по их представлениям прародителем китайского народа102.
В теоретическом познании духа в индуизме использовался метод познания Атмана, имя которого в переводе означает дух, но одновременно и душу, а механизмом познания Атмана являлась глубокая медитация, на пике которой достигается особое состояние сознания – самадхи, что приближало познающего к «Брахману» (санскр.) – абсолюту духа103.
В эллинистический период, в русле учения эпикуреизма в философской поэме «О природе вещей» Лукреций посредством таких методов познания, как обобщение, анализ, а также им признаваемого за объективный метод – чувственное познание, производил исследование природы духа через понятие «анима (лат.)», несущее трансцендентальную дихотомию духа и/или души. Дополняло эту дихотомию в познании онтологии духа использование семантических конгломератов: «психе (греч.) – дух и/или душа», «френ (греч.) – дух и/или душа», что фактически производило отождествление и закрепление на две тысячи лет вперёд культурологической традиции концептуального не различения одного события личностного бытия от другого. Так, Лукреций повествует:
«Что природа души состоит, как известно, из крови
Или из ветра еще, – коли будет угодно так думать»104.
Далее более убедительно о наличии абсолютизированных программ генезиса интеллекта и ума (понимаемые нами как программы развития абсолюта духа) в работах Лукреция свидетельствуют его строки: «Я утверждаю, что дух и душа состоят меж собою в тесной связи и собой образуют единую сущность, но составляет главу и над целым господствует телом Разум, который у нас зовется умом или духом.» [кн. 3]105.
Подведём промежуточный вывод по рассмотренным философским традициям. Получается, что и древнекитайская, и эллинистическая философские традиции, а также философская традиция индуизма крайне слабо учитывали особенность имманентной для них языковой материи. Рассмотренные антиномичные языковые концепты данных культур позволяли формировать негативную сторону терпимости по отношению к отсутствующей категории души в духовном плане развития духа.
В ранний период средневековой философии (патристика) начинается новый этап обожествления духа в рамках формальной троичности: Бог Отец, Бог Сын (Иисус Христос), Бог Святой Дух. При этом душа в контексте применения метода аналогии приравнивается к духу в языковой материи символов латинского алфавита. Основания данной семиотической системы до сих пор на нейролингвистическом уровне закладывает антиномии в сознания людей, что от двух мужских ипостасей может рождаться оживлённое существо: «святой» дух. При этом сам «святой дух» рожает от сопричастия с двумя единосущными богами мужского пола различные «дары веры», что фактически утверждается и в трудах Оригена106.
Поэтому не все патриархи средневековой христологии были за утверждение Христа из Навина богом. К примеру, Арий (одним из ранних ересиархов) был против данного события в процессе становления христианства.
Параллельно в этот временной период появляются манускрипты, актуальные и по наше время: «Вульгата», перевод на латынь, сделанный Иеронимом Стридонским в конце IV – начале V века нашей эры, «таргум» – переводы на арамейский язык и «Пешитта» – это перевод на сирийский язык, сделанный в среде ранних христиан во II веке нашей эры, которые только укрепили древнегреческую и древнееврейскую традиции смешения понятий души и духа.
Соотношение духа, тела и души в схоластике по завершении этапа патристики средневекового периода в работах Августина Аврелия изучалось посредством методов анализа и синтеза, интерпретации «размытых» концептуальных понятий души и духа в латинском семантическом конгломерате «анима». Отметим, что этот факт, сочетаясь с риторической особенностью матрицы порождения антиномий, перешедшей из древнегреческого языка в латиницу: А = М + W, положил основой религиозных убеждений христологической философии: что зло, это необходимая ступень к добру.
В рамках которой («матрицы зла», матрице языковых антиномий) буква – «А» (алеф), является мерой двух антиномий, выраженных риторически посредством гематрий. Данные антиномии трактуются следующим образом: «М» (мем) – высшая добродетель греховности головы человека, а «W» (шин; дабл-ю (в англ.) – высшая добродетель греховности тела человека, что создавало риторические и психиатрические тенденции отрицания необходимости обладания душой, что в конечном итоге выразилось в отсутствии отдельной главы в «Новом Завете» о душе.
Семиотические элементы матрицы безумия считаются «материнскими» так как они ранее были определены в качестве эталонных символов написания, а также произношения звуков в иврите. Буква «Алеф» – является примером для всех придыхательных звуков107, буква «Мем» – сдля всех «немых» звуков, а буква «Шин» – для всех шипящих звуков. Также данные буквы именуют «матрес лекционис» – лат. matres lectionis (Грилихес Л., Новиков Е. Б. Практический курс древнееврейского языка Ветхого Завета. Москва: Издательство Свято-Владимирского Братства, 1996. С. 11).
«Буква „Мем“ в понимании еврейских исследователей её иррациональной природы (Рабби Ицхак Гинзбург („Алефбейт“), и христианских исследователей (Харриетт Огаста Кертисс, Ф. Хоумер Кертисс („Ключ судьбы“)) являет собой символ андрогина, первоначала, первочеловека А. Кадмона, созданного по образу и подобию бога Иеговы, а буква „W (финик.) – Š, Ś (иврит) – шин“. В понимании всё тех же исследователей иррациональной природы букв иврита „W“ являет собой символ андрогина, объединённых в единое целое мужчины и женщины»108.
Относительно контекста данной матрицы и её риторического содержания, а также имманентного для неё механизма по смешению эстетики прекрасного и безобразного, распространяющегося в языковом мышлении индивида на его уровни личностного бытия отметим, что это условие в виде наличествующего «безобразного содержания» убивает душу. Своевременно будет упомянуть и суждение Платона о категории безобразного: «246е: …божественное же прекрасно, мудро, доблестно и так далее; этим вскармливаются и взращиваются крылья души, а от его противоположного – от безобразного, дурного – она чахнет и гибнет (Платон. Федр / перевод А. Н. Егунова; вступ. статья Ю. А. Шичалина. Москва: Прогресс, 1989. 282 с.).
Ещё одним ярким примером исследуемой эпохи по смешению онтологии духа и души являются работы Августина Блаженного. Используемый им метод герменевтики, в совокупности с анагогическим толкованием (выведением имени вещи из своего истинного положения, снятие буквального толкования имени вещи), экзегетикой (толкование древних текстов «Ветхого Завета») связал понятие души с духом. Дух при этом является непостижимым для познающего109.
Восточный аристотелизм в форме средневековой мусульманской философии IX—XII веков, опирающийся на авторитет Аристотеля, был представлен трудами Аль-Кинди, Ибн Сины, Аль-Фараби, Ибн Рушда.
Восточная риторика познания духа посредством методов обобщения, анализа, аналогии, а также посредством метода тафси́р (араб.) – буквально – разъяснение) через аналоговое понятие души: рух (ruh) (араб.) – злой дух и/или душа (единый семантический конгломерат)110, используемое в трудах Ибн Сина и других представителей мусульманской философии, также повторила судьбу лаборатории творчества новых смыслов предыдущих философских школ.
В рамках которой (восточной философской мысли) конгломерат неразличимости двух явлений (души и духа) произвёл наклонение воли, факта, мысли данных представителей модернизированного неоплатонизма, на тотальное отрицание бессмертной души.
Также семантическая ограниченность и внедрённость матрицы антиномий в философском, филологическом дискурсе арабского языка не позволила вывести суры Корана из меры различия на меры различения.
При этом запрет на изображение ликов Всевышнего, что как канон мусульманской религиозной культуры впервые адаптировали представители восточного аристотелизма, вызвал процесс потери меры человека. Произошло смещение его антропоморфной структуры в абстрактный символ «человека-религиозного». Вместе с тем этот факт можно расценивать и в качестве способа избежать воздействия идеала иудаизма, христианства с их концептом Адама Кадмона (гермафродита), где и Иегова также является андрогином. Эти условия на сегодняшний день дали основание для развития исламского фундаментализма в крайних его течениях, что есть пример развития психологической одержимости и фанатизма в философии отрицания души.
В дополнение отметим, что обоеполость Иеговы выводится через перевод самого имени, «а именно Jah (y, i, или j, Yodh, десятая буква алфавита) и hovah (Havah или Ева)» (Дж. Ральстон Скиннер). Также данный факт выводится из следующего суждения: «Слово Иегова или Jah-Eve, имеет основное значение – существование или бытие в виде мужского-женского»111.
Еврейская философия в Средние века (начиная с XIII века) начала активно адаптироваться под философские идеи Западной Европы, когда книга «Зогар» была привезена в Испанию Моисеем Лионским. Данный труд через метод каббалы (и её инструментов: гематрии, нотарикона, тамуры), а также метода герменевтики, мидраш (толкование Торы) продолжил текстуально искажать имя «высшей души» посредством присутствия скрытой части «Зогар», которая содержит утверждение что «эго-Я» обладает лишь единственной константой своей структуры в виде именно животной сущности112.
Данный уровень личностного бытия, подменяющий фактически душу и дух человека в виде структурного элемента Я – концепции = «эго», был внедрён и укрепился в западной психологии и философии, с незамечаемой его (концепт эго-Я) наполненностью базисом абсолюта духа, одержимого сознаниями рефлексов.
При этом согласно комментариям к священной книге иудаизма – «Торе» эволюция человека это постижение абсолютного духа посредством эволюции «праха земли»113, что, по сути, является ярким выражением диалектического материализма, наиболее высокоразвитого и адаптированного к социальной действительности XIX—XX веков в трудах К. Маркса и Ф. Энгельса.
Западноевропейская зрелая (высокая) схоластика, представленная трудами Фомы Аквината «Сумма против язычников», «Сумма теологии», «О единстве теологического интеллекта» и трудами «Кембриджские чтения», «Упорядочение» Дунса Скота, написанных на латинском языке, использовала для обозначения концептов духа семантический конгломерат «анима», «анима мунди», «анимо». Данные понятия обобщая в единый онтологический объект понятие души и духа, вывели Ф. Аквината на идею абсолютной мощности человеческого интеллекта и абсолюта бога-духа.
Что также позволяет сделать вывод о том лаборатории творчества новых смыслов в схоластике, используя методы познания – анализ, синтез, аналогия, не позволили вывести авторов на демаркацию бытия духа и бытия души.
Исследования Дунса Скотта показывают114, что благодать разумной души зависима от бога-духа, духа-абсолюта. Этот факт указывает на реализуемую им программу всеобщего в формах и онтологических сущностях аристотелизма. Используемое им понятие «anima» не отразило в его исследованиях ни форму духа, ни форму божественной души, даже при наличии отдельных глав в его книгах о её (души) феноменологии.
Введённое им понятие о формальном различии, о мыслимых формах (species intelligibiles), посредством которых ум преобразует единичные данные чувственного восприятия в общие познания, при этом которые обладают не только субъективным отпечатком восприятия, но уже транслированы от божественного ума бога-духа. В сущности, данные усилия были сориентированы на попытки понять форму духа через различение трёх лиц Троицы в христианской религиозной философии. Однако установить чёткие границы бытия духа, которые позволили бы его отличать от души, не получилось, так как языковая основа номинаций трансцендентных форм «anima» обобщала до неразличения феномен душ и духа.
По мнению автора, именно языковые условия романской группы языков блокировали возможность различения души от сущности абсолюта духа и не позволили решить «mind-soul Problem», а также проблему ограниченности познания бытия только духом Логоса (первослова бога-духа).
Обобщая вывод по каждой из рассмотренных философских традиций: ранний период средневековой философии (патристика), восточный аристотелизм, еврейская философия, западноевропейская зрелая (высокая) схоластика, справедливо будет отметить, что они не смогли создать методологических предпосылок для отторжения категорией духа феномена толерантности к отсутствию души. Прибавить к данному второму промежуточному выводу по параграфу 1.2. относительно негативной стороны феномена толерантности духа можно новые обстоятельства языковой материи, способствующие её проявлению.
Ещё более сильный методологический хаос в корректности исследования феноменологии и онтологии тела, духа и души вносили семантические конгломераты, прижившиеся только в тех языках, которые содержат норму агглютинации фонем и лексем (все 24 официальных европейских языка). В данных языках сочетание живого и мёртвого в рамках такого понятия как «корпус (лат.) – живое тело и/или одновременно – труп» было и остаётся «нормой».
Что и на сегодняшний день производит ровно те антиномии, которые были заложены и в период развития трудов Аристотеля, согласно которым «1) душа есть первая энтелехия (лат. actus, actualitas) естественного тела, обладающего органами» (кн. 2, гл. 1, 412 b 4—5); 2) душа есть «то, благодаря чему мы, прежде всего, живем, ощущаем и размышляем» (кн. 2, гл. 2, 414 а 14—15)»115.
При этом проблема присутствия одновременно и живого, и мёртвого, материального и идеального в таких семантических конгломератах, как: «анима», «психе», «френ», «корпус» с их неразличаемым составом, неотличимостью одного явления от другого, породило в период средневековой схоластики проблему соотношения ума и души: «Mind-Soul Problem»116.
Решается данная проблема посредством открытия А. А. Свиридова о том, что релевантные материальные носители сознаний рассудка, разума не были учтены в языковой материи речи трёх мёртвых языков (латинский, древнегреческий, древнееврейский). В частности, А. А. Свиридов указывает на то, что базовая структурность данных языков – алфавитный план одно- и двухмерной размерности не содержит многие буквы, которые имеются в русском языке («ь», «ы», «ю», «ъ», «э», «я» и иные). При этом семиотические элементы русского языка, имеющего структурализм азбучного плана триединства мироздания, позволяют различать чёткие границы между структурами сознаний интеллекта, ума, рассудка, разума, души, не смешивая их в конгломераты неразличимости.
Поэтому и современные авторы, почти догадываясь о корне данной проблемы, отмечают, что понятие «soul» (англ.) значительно меньше по отношению событию души117. При этом они предпочитают не замечать факта наличия псевдодуховной лаборатории творчества новых смыслов, которая через семантические номинации-конгломераты производит адаптацию замены души на абсолют духа. В данном механизме одновременно заложен идеала тела «человека-головастика», «человека-ризомы», «человека-ветхого» («человека-религиозного»), которому не нужны пропорции тела человека-разумного, а нужен идеал бестелесного ветхозаветного человека.
Философы европейской философии эпохи Возрождения (Николай Кузанский, Джордано Бруно, Мишель Монтень) также используя общенаучные методы познания, остановились на частных программах бытия: генезис ума и интеллекта. Так, к примеру, взятые за основу феномены разума в следовании истине в работах М. Монтеня118, в таких формах номинаций, как «raison» (франц.)119, «ratio» (лат.), по сути, смешивают номинации интеллекта, ума и духа в пределах своих семантических и риторических форм.
К данному выводу мы пришли, проанализировав такие источники, как: «Начала современного естествознания» В. Н. Савченко и работу С. С. Неретиной – «Верующий разум: Книга бытия и Салический закон».
Поэтому в условиях материи латинского и французского языков данные авторы не смогли разрешить вопрос о природе духа и его отношения к универсуму, так как встроенная сущность «абсолюта», «Логоса» в их научный аппарат мышления, создавала номинации отрицания души.
Николай Кузанский в своих трудах утверждал, что «человек есть его ум», а ум фактически есть часть Абсолютного бытия, абсолюта духа, при этом его метод познания, выраженный «учёным незнанием» основывался на диалектическом принципе, согласно которому в его трактовке, все противоположности совпадают в единой «точке» – боге120. То есть, в котором совпадают добро и зло, душа и дух, а зная о скрытой механике трансформации языкового мышления через формулу творения антиномий (противоречий), присутствующей в латинице, можно сделать вывод, что данные полярные понятия в личности человека начинают смешиваться, если нет материальных и конгруэнтных явлений разума и души у носителей данного метода познания.
То есть мы отмечаем, что выведенная сущность бога, содержащая полярные модусы его бытия (добра и зла), иначе «дьявол-во-боге», а также сдвоенная формация трансцендентального уровня личностного бытия в трудах Н. Кузанского является неслучайным фактом. По мнению автора текущей работы это опосредовано воздействием на его языковое мышление, на его языковую личность семантических особенностей языковой материи, не давшей ему возможности разделить и осмыслить семантические события души и духа в контексте разной сущности их природы. Подобные обстоятельства творчества новых смыслов в трудах Н. Кузанского поддерживали усечённую модель личностного бытия (двухмерную, только с двумя векторами развития топологии личности человека).
В европейской философии начала Нового времени обозначились новые тенденции в изучении мира. В частности, при изучении человека ведущую роль получают экспериментальные методы исследования. В этом свете разумно обратиться к весьма интересному инструменту познания, разработанного Ф. Бэконом («Novum Organum»121), взамен методу познания Аристотеля.
В данном инструменте познания дух обобщён с понятием разума через силу ума. Данное обобщение в то же время подпало под воздействие семантической категории «рацио (лат.)», при переводе на русский язык которое означает: ум и/или дух. Данные семиотические обстоятельства указывают на присутствие в его методологии сущности программы интеллектгенеза, в рамках которой интеллект и ум, а также дух являются первыми сущностными двигателями человека в освоении внешнего и внутреннего мира.
Работы Д. Юма в период философии эпохи Просвещения в теории познания представляют яркую наглядную тенденцию ориентации на экспериментальное установление природы человека, в рамках которой все восприятия находятся в зависимости «от наших органов чувств и от состояния наших нервов и жизненных духов»122, то есть событие духа представлено одним из ведущих явлений, направляющих сознание человека на познание бытия. Сознание в работах Д. Юма – это всего лишь аффект, эмоция духа123.
Что раскрывает преемственность субъективной программы бытия: интеллектгенез, абсолютизирующей событие духа в исследованиях представителя эпохи Просвещения от более ранних исследований.
Третий промежуточный вывод по материалам исследования свидетельствует о том, что философские работы периода европейской философии эпохи Возрождения, философии начала Нового времени, философии эпохи Просвещения не смогли выявить негативную тенденцию, проявляющуюся в рамках категории духа по отношению к душе. Терпимость абсолютного духа к отсутствию души, по сути, является деградационной тенденцией в трансцендентальном плане личностного бытия. Подобная «терпимость» является признаком абсолютизации духа и поглощения его феноменологией тела души.
В рамках немецкой классической философии, наиболее рельефные работы по онтологии духа представлены трудами Г. В. Ф. Гегеля. Выявленные им три закона диалектики только укрепили феномен непознаваемости категории духа. Выход из грядущей перспективы самораспада «абсолютного духа», представленного в виде государственной формации Западной Европы не был найден, поэтому в XXI веке браки, не предусматривающие рождения детей, были возведены в норму в 32 странах мира, в том числе в странах Европейского экономического союза. Нравственная толерантность к однополым бракам в данном случае подкрепилась квазидуховным отношением духа к отсутствию в его феноменологии развития структурности души.
Поэтому лаборатория творчества новых смыслов Г. В. Ф. Гегеля, используя закон «отрицания отрицания», не позволила выйти сознанию европейцев XIX века из аффинных рамок духа абсолюта (имманентного и трансцендентного уровня), которые при любой трансформации остаются несоединимыми, так как категория времени не раскрывалась в конгруэнтных своему имени сознаниях рассудка, разума, души, а дух, отрицающий душу, был вновь идеализирован, что указывает на принцип действия информационной программы генезиса интеллекта.
Отдельного пояснения для объективности исследования требуют онтологические основания предрасположенности мировоззренческой парадигмы классической немецкой философии к формированию внутриличностных антиномий человека. В связи с выбранной нами методологической позицией о том, что семиотическая система естественных языков определяет бытие личности, то указанные онтологические основания будут проанализированы в рамках языковых антиномий немецкого языка. Поэтому далее мы рассмотрим особенность отражения трансцендентных элементов личностного бытия – дух и душа материей немецкого языка в работах И. Канта, Г. В. Гегеля.
В качестве эмпирического материала была выбрана: «Феноменология духа» Г. В. Ф. Гегеля; «Критика чистого разума» И. Канта. Для чистоты эксперимента данные труды были представлены и на русском, и немецком языках. Валидность выборки русскоязычной переводной версии данных книг обеспечил выбор авторитетных учёных (Г. Г. Шпет, Н. Лосский).
Исследование показало, что в работе «Phänomenologie des geistes» (на языке оригинала) Г. В. Ф. Гегеля, категория души «Seele» (нем.) – употребляется 72 раза, а категория духа «Geist» (нем.) – 1352 раза.
В русскоязычной версии «Феноменологии духа» понятие души употребляется – 30 раз, а понятие духа – 1072 раза. Наглядно видно, что порядка 300 слов в русскоязычной версии не были переводчиком восприняты однозначно в качестве духа. Понятие души в русскоязычной версии книги по сравнению с изданием на языке оригинала встречается на 40 раз меньше.
Однозначно можно сделать вывод, что в русскоязычной версии работы
Г. В. Гегеля частота употребления понятия «душа» снижается на 55%, а понятия «дух» снижается всего на 23%. Вместе с тем эта закономерность снижения тождественного употребления понятий души и духа говорит о присутствии значительной доли неоднозначности, языковой дихотомии в работе
Г. В. Ф. Гегеля. Позднее в XX веке этот феномен в языке М. Хайдеггер отметит термином «разбеганием» смыслов и значений124. Также подавляющая частотность употребления понятия «дух» говорит о «растворении» в его онтологии, его языковой материи понятия души. Также данный феномен языковой материи греческого и немецкого языка отмечали соответственно Платон и Э. Гуссерль.
Намеренное употребление многозначных понятий в работах Г. В. Гегеля («Geist» (нем.), «Seele» (нем.)), перевод на русский язык которых может означать одновременно и дух, и душу, Г. Г. Шпет объяснял его (Гегеля) личным убеждением, что, таким образом, можно понять «умозрительный дух самого языка». Таким образом, наглядно представлена семиотическая особенность лаборатории творчества новых смыслов в условиях языковой дихотомии немецкого языка. Данная лаборатория творчества выстраивает псевдодуховную мировоззренческую парадигму.
Дополним это умозаключение фактическими данными, которые нам предоставят закономерности частоты использования понятий духа и души, обнаруженные в работах И. Канта. В работе «Kritik der reinen Vernunft» (на языке оригинала) категория «дух» – «geist» (нем.) употребляется – 23 раза, а категория «душа» «seele» (нем.) – 168 раз.
В русскоязычной версии данной работы категория «душа» употребляется 230 раз, понятие духа – всего 25 раз. Статистическое различие в восприятии понятий души и духа у переводчиков в работе «Критика чистого разума», проанализированной нами и на языке оригинала, и на русском языке конгруэнтно таковому различию в работе «Феноменология духа» Г. В. Гегеля.
Таким образом, языковые антиномии (в нашем подходе маркёры онтических антиномий) категорий идеального в материи немецкого языка это показатель не пройденной онтической и онтологической эволюции души и духа.
Исследования современных учёных относительно наиболее точных методов познания духовной / трансцендентной стороны личностного бытия человека (Б. С. Братусь, В. В. Копейкин) склоняются к выбору подходов, используемых в религиозной философии христианства. Данные методологические обстоятельства свидетельствуют об ориентации их лабораторий научного творчества на средневековую традицию обожествления духа, а не души. Таким образом, исследования данных авторов не способствуют прогрессу в вопросе устранения негативной стороны феномена толерантности духа к отсутствию души в рамках личностной модели бытия.
По мнению автора, труды К. В. Копейкина не очень точно раскрыли загадки онтологического конгломерата «anima» двух различных феноменов души и духа. Его разумная критика объективных методов познания и абсолютизированной рационалистической парадигмы не позволила выявить феномены толерантности духа к отсутствию в его поля развития онтологии души. Концепты души и духа атомизировались в пределах только психических функций духа.
Таким образом, методы общенаучного познания, используемые в условии действия абсолютизированных парадуховных программ личностного бытия принимали «норму» примата цифры над буквой, духа над душой. Данные обстоятельства в условиях одно-, двухмерных семиотических систем противостоят освоению модусов рассудка, разума, души, но усиливало универсализацию их подмены на категории «чистого рассудка», «чистого разума».
86
Майданов А. С. Методология научного творчества. Изд-во ЛКИ, 208. 512 с.
87
Бердяев Николай. Философия свободы. Смысл творчества / вст. ст. сост., под. текста, примечания Л. В. Полякова. М.: Правда, 1989. С. 285.
88
Суханов К. Н. Онтология, эпистемология и логика науки: монография. Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2011. С. 124.
89
Николов Н. О. Категория тела человека в триединстве модели «Я – русской тройки» как души, тела и духа в режиме «лабораторий» мысли программы «разумогенеза», программы «интеллектгенеза» // Глобальный научный потенциал. 2012. №16. С. 37—41; Николов Н. О. Триединство мироздания в структуре философских механизмов «лабораторий» научного творчества // Мир современной науки. 2012. №5. С. 78—84; Николов Н. О. Материя вечности в объеме философских контуров познания в стратегии утверждения сознания разума души (программа разумогенеза «ум за душой») // Перспективы науки. 2012. №8 (35). С. 64—67; Николов Н. О. Онтология языка в мирах дуата и лазоревого миръа (в вербальных знаках филомыслия и родомыслия) // Образование. Наука. Научные кадры. 2012. №6. С. 150—151; Николов Н. О. Россия в условиях действия программ личностного бытия: интеллектгенез, генезис ума, рассудкогенез, разумогенез, генезис сознания души // Общественные науки в современном мире: политология, социология, философия, история: сб. ст. по материалам VII Международной научно-практической конференции «Общественные науки в современном мире: политология, социология, философия, история». №1 (5). М.: «Интернаука», 2018.
90
Рыбникова О. П. Развитие креативности детей дошкольного возраста в студии эстетического воспитания: дис. … канд. пед. наук: 13.00.05. СПб., 2004. С. 32—68.
91
Цит. по: Зинченко В. П. Ценности в структуре сознания // Вопросы философии. 2011. №8. С. 85—97.
92
Невелев А. Б. Жизнь. Мыслительная форма. Дух / А. Б. Невелев, В. С. Невелева // Вестник ЧелГУ. 2012. №15 (269). С. 8—12.
93
Николов Н. О. Категория тела человека в триединстве модели «Я – русской тройки» как души, тела и духа в режиме «лабораторий» мысли программы «разумогенеза», программы «интеллектгенеза» // Глобальный научный потенциал. 2012. №16. С. 37—41.
94
Анохин К. В. «Ранние гены» в механизмах обучения и памяти: автореф. дис. … д-ра мед. наук: 14.00.17. М., 1992. 40 с.
95
Свиридов А. А. Русский фундаментализм. Азбука масштабных перемен: собрание сочинений. Т. 11: Родословие к человеку ≡ Книга Родъа. Аркаим, 2012. С. 21.
96
Ленин В. И. Полное собрание сочинений (5-е изд). Том 29. Сборник публикаций, текстов выступлений и интервью, писем и телеграмм. Издание пятое. М.: Политиздат, 1973. С. 152.
97
Свиридов А. А. Русский фундаментализм. Азбука масштабных перемен: собрание сочинений. Т. 11: Родословие к человеку ≡ Книга Родъа. Аркаим, 2012. С. 24.
98
Свиридов А. А. Словотолк ведической традиции. Аркаим; Увельский: [б. и.], 2011. С. 73.
99
Полный церковнославянский словарь / сост. прот. Г. Дьяченко. М.: Типография Вильде, 1899. С. 755—756.
100
Буланенко М. Е. Дух как предмет метафизики: ещё раз к основному расхождению между Платоном и Аристотелем // Вестник ЛГУ им. А. С. Пушкина. 2012. №4. С. 9—21.
101
Буланенко М. Е. Дух как предмет метафизики: ещё раз к основному расхождению между Платоном и Аристотелем // Вестник ЛГУ им. А. С. Пушкина. 2012. №4. С. 9—21; Платон. Том I. Евтифрон. Апология Сократа. Критон. Федон / Полное собрание творений Платона в 15 томах. Петербург: Academia, 1925. C. 113.
102
Трофимова С. М. Китайский дракон Лун (龙) как символ китайской традиционной культуры // Молодой ученый. 2016. №10. С. 1389—1392.
103
Смирнов Б. Л. Симфонический Санскритско-Русский Толковый Словарь Махабхараты. Изд-во АН ТССР/Болесмир. 2007. С. 75.
104
Лукреций Тит. О природе вещей / пер. с лат. Ф. Петровского. М.: Художественная литература, 1983. С. 97.
105
Там же.
106
Ориген. О началах. Против Цельса. СПб.: Библиополис, 2008. С. 56, 57.
107
Тора на палеоиврите [б. м.]: Published by Bloomington Nazarene Assembly. Terry Walter, ed. 241 с.
108
Там же.
109
Блаженный Августин. Христианская наука, или Основания священной герменевтики и искусства церковного красноречия. СПб.: Библиополис, 2006. 511 с.
110
Большой арабско-русский словарь с транскрипцией [Электронный ресурс]. URL: http://bars. org.ru/search? commit.
111
Блаватская Е. П. Теософский словарь. М.: Эксмо, 2003. С. 10.
112
Лайтман М. Зоар. 3-е изд. М.: АСТ: Астрель, 2011. С. 211.
113
Тора. Пятикнижие и гафтарот / пер. П. Гиль, З. Мешков; cост.: р. Йосеф Цви Герц. М.: Гешарим, 1999. С. 12.
114
Скот Д. Избранные сочинения. Францисканское наследие. М.: Издательство францисканцев, 2001. С. 334.
115
Цит. по: Вдовина Г. В. «Живое и мертвое»: схоласты XVII в. О душе и теле // Философский журнал. 2015. Т. 8. №3. С. 44—59.
116
Pasnau R. The Mind-Soul Problem / Mind, Cognition and Representation: The Tradition of Commentaries on Aristotle’s «De anima». Aldershot, 2007. P. 3—19.
117
Нуждина О. Ю. Концепты «душа» и «тело» в языковой картине мира (На материале английского и русского языков): автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.19. М., 2004. С. 8—9.
118
Монтень М. Опыты. В 3-х книгах. Книги первая и вторая. Изд. 2-е. М.: Наука, 1979. С. 110.
119
Гак В. Г, Ганшина К. А. Новый французско-русский словарь. М.: «Русский язык», 1998. C. 902.
120
Гриненко Г. В. История философии: учебник. 3-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2011. С. 259.
121
Бэкон Ф. Сочинения в 2-х томах. Т. 2 / сост., общ. ред. и вступ. ст. А. Л. Субботина; пер. З. Е. Александровой, А. Н. Гутермана, С. Красильщикова и др. М.: Мысль, 1972. С. 15.
122
Юм Д. Сочинения в 2-х томах. Том 1 / пер. с англ. С. И. Церетели и др.; примеч. И. С. Нарского. 2-е изд., доп. и испр. М.: Мысль, 1996. С. 260.
123
Там же. С. 27.
124
Хайдеггер М. Бытие и время / М. Хайдеггер; Пер. с нем. В. В. Бибихина. Харьков: «Фолио», 2003. С. 44.