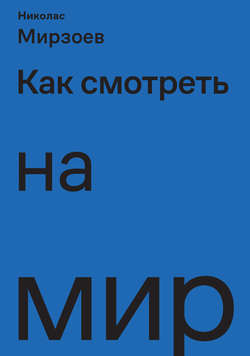Читать книгу Как смотреть на мир - Николас Мирзоев - Страница 3
Введение
Как смотреть на мир
Визуальная культура
ОглавлениеЦель этой книги – помочь вам увидеть, насколько мир изменился и как он меняется прямо сейчас. Это путеводитель по визуальной культуре, в которой мы живем. Как и в случае с историей, визуальная культура – это одновременно и область знаний, и предмет ее изучения. Визуальная культура включает в себя вещи, которые мы видим, присущую нам всем умозрительную модель того, как мы должны видеть, и варианты нашего поведения в результате этой деятельности. Визуальная культура – это не просто сумма всего, что было создано для просмотра, будь то картины или кинофильмы. Визуальная культура – это отношение между тем, что наблюдаемо, и именами, которые мы даем тому, что видим. Она также включает в себя то, что нельзя увидеть и то, что скрыто от взгляда. Если коротко, то мы не просто смотрим на то, что можем увидеть и что называем визуальной культурой. Вместо этого мы формируем наш взгляд на мир согласно тому, что мы знаем и что мы уже испытали. Некоторые институты пытаются насаждать взгляд на мир, который французский историк Жак Рансьер называет «полицейской версией истории», имея в виду, что тем самым нам как бы говорят: «Проходите, не на что здесь смотреть» (2001). Хотя, конечно, посмотреть есть на что, просто обычно мы решаем предоставить право разбираться в ситуации властям. Это может быть уместно, когда речь идет о дорожно-транспортном происшествии, но если вопрос стоит о том, как мы воспринимаем историю в целом, смотреть, разумеется, нужно в оба.
Идея о том, что визуальная культура может рассматриваться как отдельная область знаний, впервые получила распространение во время предыдущего поворотного момента в истории развития наших взглядов на мир. Примерно в 1990 году конец холодной войны, разделившей мир на две зоны, относительно невидимые друг для друга, совпал с расцветом того, что окрестили «постмодернизмом». Постмодернизм превратил современные небоскребы из аскетичных прямоугольных коробок в причудливые башни с элементами китча и пастиша, которые теперь возвышаются по всему миру. Города выглядели совсем иначе. Новый взгляд на самоидентификацию сформировался под влиянием гендерной, сексуальной и расовой принадлежности, в результате чего люди стали воспринимать себя иначе. В условиях устоявшихся правил времен холодной войны такой подход не придавал его адептам уверенности в себе, что привело к сомнениям относительно возможности лучшего будущего. В 1977 году, во время социального и экономического кризиса в Великобритании, группа Sex Pistols очень точно резюмировала настроения: «No Future»[3]. Изменения стали происходить еще быстрее на заре эпохи персональных компьютеров, которые превратили загадочный мир кибернетики, как тогда называли все задачи, выполняемые с помощью компьютера, в пространство для индивидуальных исследований, которое в 1984 году писатель-фантаст Уильям Гибсон назвал «киберпространством». В этот момент визуальная культура ворвалась в академическую сферу, смешав феминизм и политическую критику, присущие высокому искусству, с исследованиями популярной культуры и новых цифровых изображений.
Сегодня люди формируют новый взгляд на мир, создавая, просматривая и распространяя изображения в таких количествах и такими способами, о которых в 1990 году нельзя было даже помыслить. Сегодня визуальная культура – это дисциплина, предмет изучения которой можно сформулировать следующим образом: как осмыслить изменения в мире, который слишком велик, чтобы его увидеть, но который жизненно необходимо себе представить. Весь спектр новых книг, курсов, ученых степеней, выставок и даже музеев направлен на исследование этой зарождающейся трансформации. Различие между пониманием визуальной культуры в 1990 году и нашим пониманием сейчас – это различие между просмотром чего-либо в специально отведенном для этого пространстве, будь то музей или кинотеатр, и просмотром на сетевой агоре – виртуальном обществе с четкой визуальной доминантой. В 1990-м, чтобы посмотреть фильм, вы должны были пойти в кинотеатр (за исключением повторов по телевизору), в галерею, чтобы увидеть картину, или пойти в гости, чтобы увидеть чужие фотографии. Теперь, разумеется, мы делаем это в сети, да еще и когда нам заблагорассудится. Пусть зачастую в ущерб формату или размеру экрана, на котором мы просматриваем изображения, и их качеству, но социальные сети перераспределили и расширили пространство для просмотра. Сегодня визуальная культура стала главным проявлением в повседневной жизни того, что социолог Мануэль Кастельс называет «сетевым обществом», – нового типа общественной жизни, сформированного электронными информационными сетями (1996). Дело не только в том, что социальные сети дают нам доступ к изображениям – сами изображения влияют и на социальную жизнь в сети и вне ее, и на наше восприятие такого влияния.
Проще говоря, главный вопрос для визуальной культуры это – как смотреть на мир? Точнее, как смотреть на мир в эпоху перманентных изменений и небывалого роста объемов визуальной информации, что предполагает наличие разных точек зрения. Мир, в котором мы сейчас живем, совсем не такой, каким он был пять лет назад. Конечно, до некоторой степени так было всегда. Но сейчас изменений больше, они происходят быстрее и благодаря мировому сетевому сообществу локальные изменения часто затрагивают весь мир.
Вместо того чтобы попытаться суммировать колоссальный объем визуальной информации, которая нам доступна, эта книга предлагает набор инструментов, необходимых для осмысления визуальной культуры. Используемый здесь взгляд на мир основан на следующих идеях:
• Все медиа по сути – социальные. Мы используем их, чтобы представлять себя другим людям.
• Способность видеть на самом деле представляет собой систему чувственных реакций всего тела, а не только глаз.
• Визуализация, напротив, использует технологии съемки с воздуха для изображения мира как пространства для ведения войны.
• Наши тела стали продолжениями информационных сетей, мы нажимаем на кнопки, отправляем ссылки и делаем селфи.
• Мы передаем то, что видим и воспринимаем на экраны, которые всегда с нами.
• Это понимание – результат смешения нашей способности видеть и попыток научиться не замечать.
• Визуальная культура – это то, в чем мы принимаем участие с намерением активно содействовать изменениям, а не просто смотреть, что происходит вокруг.
Речь в этой книге пойдет главным образом о современности, однако значительная ее часть посвящена историческому обзору, прослеживающему корни современной визуальной культуры как научной сферы и как явления повседневной жизни. Акцент сместился, мы все реже вспоминаем про «медиа» и «месседж», да простит нас Маршалл Маклюэн (1964). Вместо этого мы создаем и исследуем новые архивы визуальных материалов, наносим их на карту, чтобы найти связи между визуальной культурой и культурой в целом, а также осмысляем тот факт, что видеть изменения мирового масштаба – это самая актуальная для нас задача.
Книга начинается с обзора эволюции автопортрета в вездесущее селфи. Селфи – первый визуальный продукт новой, сетевой, урбанизированной мировой молодежной культуры. Поскольку селфи берет начало в истории автопортрета, у нас будет возможность исследовать момент основания визуальной культуры как академической дисциплины, которая зародилась примерно в 1990 году. То, как мы себя видим, приводит к вопросу, как мы вообще что-либо видим, и к удивительным открытиям нейробиологии (глава 2). Сегодня человеческое зрение кажется нам чем-то вроде многофункциональной обратной связи, каковой его уже давно воспринимают художники и исследователи визуальной культуры. Увидеть не значит поверить. Так мы устроены, это что-то вроде игры. Однако то, что в повседневной жизни называется игрой, на войне становится «визуализацией» (глава 3). Вначале визуализация поля боя происходила в сознании военачальника, затем для этого стали использовать воздушные шары, самолеты, спутники, а теперь – дроны. Эти изображения мы получаем не напрямую, а через экран. Поэтому в главе 4 рассматриваются два примера создания объединенных сетью миров: вид из окна поезда и изобретение кинематографа с одной стороны, и вездесущие, подключенные к единой сети цифровые экраны – с другой. Может создаться впечатление, что эти экраны предоставляют неограниченную свободу, однако они тщательно контролируются и предлагают отфильтрованный взгляд на мир.
Ключевыми узлами этих сетей являются глобальные города, в которых живет большинство из нас (глава 5). В этих необъятных, плотно застроенных пространствах мы учимся видеть, а также не замечать потенциально неприятные зрелища, поскольку это каждодневное условие выживания. Мегаполисы выросли вокруг остатков имперских и разделенных холодной войной городов, предшествовавших им. Это пространства забытья, призраков и подделок. Мир глобальных городов был создан невероятной ценой. Теперь мы должны научиться видеть изменения в мире природы (глава 6). Или, если быть точным, мы должны осознать, каким образом люди превратили планету в один огромный артефакт человечества, самое большое из когда-либо созданных произведений искусства.
В то же время глобальные города все чаще становятся местом непрекращающихся волнений (глава 7). Молодежное большинство населения городов использует свою подключенность для утверждения новых способов самовыражения в социальных медиа, меняя таким образом значение политики: это и восстания в столицах развивающихся государств, в Каире, Киеве и Гонконге, и сепаратистские движения в развитых странах, от Шотландии до Каталонии. Живем ли мы в городах? Или в регионах? Или нациями? Или в политических блоках, вроде Европейского союза? Как мы представляем себе то место, где мы живем в рамках большого мира?
3
«Будущего нет» – название песни группы Sex Pistols.