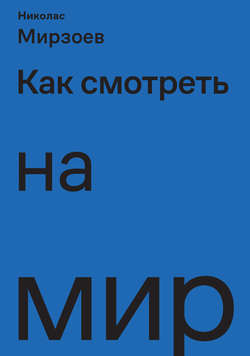Читать книгу Как смотреть на мир - Николас Мирзоев - Страница 4
Введение
Как смотреть на мир
Время перемен
ОглавлениеСегодняшние изменения могут показаться небывалыми, однако в визуальном мире было немало похожих периодов драматических преобразований. Историку Жану-Луи Комолли принадлежит небезызвестное высказывание о том, что благодаря изобретению фотографии, пленки, рентгеновского излучения и других, ныне забытых, технологий XIX век стал «буйством визуального» (Comolli 1980). Усовершенствование карт, микроскопов, телескопов и других устройств сделало XVII век в Европе еще одной эпохой визуальных открытий. Рассуждая таким образом, мы могли бы дойти до первых космографических изображений мира на глиняной табличке, датированной 2500 годом до н. э. Но трансформация зрительных образов, произошедшая с момента появления персональных компьютеров и интернета, отличается масштабом, географическим размахом и тесной связью с цифровыми технологиями.
Если рассматривать ситуацию в исторической перспективе, скорость этих изменений становится очевидной. Первые движущиеся изображения братья Люмьер записали во Франции в 1895 году. Чуть более века спустя движущиеся изображения распространились поразительно широко и стали общедоступны. Первые видеокамеры для домашнего использования появились только в 1985 году. Это были тяжелые, не слишком подходящие для бытового использования устройства, которые водружали на плечо. Только в 1995 году, с изобретением цифровых видеокамер, снимать домашнее видео стало по-настоящему легко и удобно. Монтаж по-прежнему оставался трудоемким и дорогостоящим предприятием, пока в 2000 году не стали появляться программы вроде iMovie от Apple. А сегодня вы можете снять и отредактировать видео в HD-качестве прямо на телефоне, а затем выложить его в интернет. Благодаря интернету, первому по-настоящему глобальному медиа, то, что раньше было записями для личного пользования, сегодня могут смотреть и показывать миллионы. И хотя телевидение по-прежнему доступно большему числу людей, чем интернет, почти ни у кого из телезрителей нет возможности влиять на то, что им транслируют, а показать по телевизору свое произведение могут единицы. К концу десятилетия интернет изменит наш взгляд на все, что нас окружает, и то, как мы видим мир.
Чтобы понять разницу, давайте сравним показатели распространения и тиражей печатных изданий. Согласно сведениям ЮНЕСКО, в 2011 году было опубликовано 2,2 миллиона книг. Считалось, что последним европейцем, который прочел все напечатанные книги, был живший в XV–XVI веках реформатор Эразм Роттердамский (1466–1536). За долгую историю книгопечатания появилось множество других способов опубликовать свою работу, начиная с писем в редакцию и заканчивая самиздатом и ксерокопиями. Книга по-прежнему остается наиболее убедительным и впечатляющим форматом. Но возможность издать книгу предоставляется только авторам, способным убедить редактора в необходимости тиражировать их работу. Зато у каждого пользователя интернета теперь есть возможность распространить написанный им текст, используя инструменты немногим отличающиеся от тех, что доступны настоящим книжным издательствам. Еще десять лет назад мировой успех романа «Пятьдесят оттенков серого» невозможно было представить. Э. Л. Джеймс сначала сама опубликовала книгу в сети, а когда в издательстве Random House вышла печатная версия, роман был распродан тиражом более 100 миллионов экземпляров. Изменения в сфере визуальных образов, особенно движущихся изображений, идут все быстрее и со все большим охватом.
Мы говорим не просто о количественном, но и о качественном изменении. Все «изображения», и движущиеся, и нет, которые хранятся в современных архивах, по сути, лишь различные вариации цифрового кода. Технически это вообще не «изображения», а визуально воспроизведенные результаты компьютерных вычислений. Как пишет исследователь цифровых технологий Вэнди Чан, «когда компьютер позволяет нам „увидеть“ то, что обычно мы увидеть не можем, и даже когда он ведет себя как прозрачная среда, например в видеочате, он не просто транслирует то, что находится с другой стороны: он вычисляет» (Chun 2011). Когда ультразвуковой сканер с помощью звуковых волн измеряет внутренние органы человека, машина получает итоговый результат в виде цифр, и передает его нам в виде изображения. Но это всего лишь результат вычислений. Когда вы нажимаете на кнопку спуска, современный фотоаппарат по-прежнему издает звук срабатывания затвора, но того зеркала, которое когда-то издавало этот звук при движении, внутри больше нет. Цифровая камера напоминает аналоговую, но не является ею. Зачастую то, что мы «видим» на изображении, мы никогда не смогли бы увидеть собственными глазами. То, что мы видим на фотографии, – результат вычислений, полученный за счет «складывания мозаики» из нескольких изображений и дальнейшей обработки для получения цвета и контраста. Именно машины позволяют нам видеть мир таким.
Аналоговые фотографии, разумеется, тоже ретушировались, изменялись с помощью монтажа и манипуляций в темной комнате. Тем не менее существовал некий источник света, который воздействовал на светочувствительный материал, что и было видно на получившейся фотографии. Цифровое изображение, в свою очередь, – это воспроизведение результата вычислений цифровых данных, полученных с матрицы фотоаппарата. Поэтому внести изменения в результат можно проще и быстрее, особенно теперь, когда такие программы, как Instagram, позволяют добавить эффект одним нажатием кнопки. Некоторые из них имитируют различные форматы, например черно-белую пленку или Polaroid. Другие подражают сложным техническим приемам, которые раньше выполнялись в темной комнате во время проявки пленки.
На заре цифровой эпохи некоторые опасались, что по цифровому изображению мы не сможем определить, какие манипуляции над ним были проведены. Оказалось, что и на любительском, и на профессиональном уровне определить это зачастую не так уж трудно. Например, сейчас мало кого из читателей журналов удивит тот факт, что все фотографии моделей и звезд отредактированы. Читатели исходят из гибких правил изображения, которые допускают некоторые изменения фотографии. В некоторых рекламных кампаниях теперь даже особо отмечается тот факт, что в съемке были задействованы «настоящие» модели, предполагая тем самым, что мы осведомлены, что обычные рекламные фотографии редактируются. Что касается технической стороны, то опытный пользователь сможет определить не только, было ли изображение обработано, но даже как именно и какая программа для этого использовалась. В начале 2013 года звезда студенческой лиги американского футбола Мэнтай Тео был уличен в фальсификации истории о смерти своей воображаемой подруги, чтобы привлечь к себе внимание и вызвать симпатию у фанатов. Как только пользователи сети узнали о возможном подлоге, им потребовалось менее суток на то, чтобы произвести обратный поиск изображения и выяснить, что на фотографии изображена другая женщина. Теперь обратному поиску изображения посвящены целые сайты. Раньше для этого потребовались бы дни и недели работы частного детектива, а сейчас нужная информация находится за несколько секунд с помощью нескольких кликов.
В 1972 году (тогда же, когда был запущен «Аполлон-17») британский историк искусства Джон Бёрджер создал для BBC великолепный телевизионный сериал «Искусство видеть» и книгу по нему. Колоссальный успех обоих проектов популяризировал идею изображения, которую Бёрджер в 1973 году определил, как «воссозданное видение»[4]. Он перевел иерархию искусств в горизонтальную плоскость, приравняв таким образом живопись и скульптуру к фотографии и рекламе. Мысль Бёрджера стала ключевой для создания концепции визуальной культуры. Распространенным определением визуальной культуры в 90-е было простое словосочетание «история изображений» (Bryson, Holly and Moxey 1994). Бёрджер в свою очередь брал пример с немецкого критика Вальтера Беньямина, чье знаменитое эссе 1936 года «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» было впервые переведено на английский язык в 1968 году. Беньямин утверждал, что фотография уничтожила идею об уникальности изображения, потому что теперь – по крайней мере теоретически – можно было напечатать и распространить любое количество идентичных копий любой фотографии. К 1936 году это уже не было новостью, ведь фотография появилась почти веком раньше. Однако новые технологии массового воспроизведения высококачественных фотографий в журналах и книгах, а также расцвет звукового кино убедили Беньямина, что начало новой эпохи не за горами.
Если смотреть на поразительный расцвет цифровой фотографии и цифровых технологий, может создаться впечатление, что мы переживаем очередной переворот. Сегодня «изображение» создается, или точнее вычисляется, независимо от образа, который ему предшествовал. Мы продолжаем называть то, что видим, фотографиями или изображениями, но они качественно отличаются от своих предшественников. Аналоговая фотография – это отпечаток с негатива, каждая частица которого находилась во взаимодействии со светом. Цифровое изображение даже с самым высоким разрешением – это всего лишь замер света, попавшего на матрицу, который был переведен на компьютерный язык, затем пересчитан и отображен в виде чего-то, что мы можем увидеть.
Более того, такое явление, как интернет, – это наш первый опыт по-настоящему коллективной среды, это общее медиадостояние, если хотите. Бессмысленно воспринимать глобальную сеть как сугубо личный ресурс. Вы можете что-нибудь нарисовать и никому не показывать результат. Но если вы выкладываете что-то онлайн, вы предлагаете людям вступить во взаимодействие. Обозреватель цифровых технологий Клэй Ширки воспользовался фразой Джеймса Джойса, чтобы подвести итог: «Сюда приходят все» («Here comes everybody») (2008). И дело отнюдь не в размере этого общего цифрового достояния, каким бы впечатляющим оно ни было. И не в качестве результатов, которые сильно разнятся. Самое главное – открытый характер этого эксперимента.
Вот почему, несмотря на бесконечные потоки мусора, интернет нам важен. «Мы» существуем в интернете как нечто новое, «мы» используем интернет, но это уже не те «мы», которых знала печатная культура или СМИ. Антрополог Бенедикт Андерсон заметил, что «виртуальные сообщества», создаваемые печатными изданиями, дают читателям одной конкретно взятой газеты ощущение, что между ними есть что-то общее (1991). Более того, Андерсон подчеркнул, что на основе таких виртуальных сообществ сформировались целые нации, что привело к заметным и значимым результатам. Попытаться понять эти визуальные и виртуальные сообщества, создаваемые различными формами глобального коллективного опыта, – еще одна ключевая задача визуальной культуры. Новые сообщества, возникающие онлайн и офлайн, не всегда представляют отдельные нации, хотя нередко – националистические идеи. О чем бы ни шла речь, о новых феминистических движениях или концепции 99 % – все участники подобных сообществ переосмысляют свое место в мире и то, как это место выглядит.
Все элементы визуальной культуры объединяет тот факт, что «изображение» позволяет разглядеть время и, следовательно, изменения. В XVIII веке натуралисты, исследовавшие ископаемые и осадочные породы, сделали поразительное открытие – возраст Земли куда больше, чем шесть тысяч лет, о которых говорит Библия (Rudwick 2005). Натуралисты стали подсчитывать, о скольких тысячах и миллионах лет может идти речь. Сегодня геологи называют это «глубоким временем», временем, чья протяженность огромна по сравнению с недолгой историей человечества, но не бесконечна. С этой точки зрения не удивительно, что на одной из первых фотографий Луи Дагер в 1839 году запечатлел окаменелости.
Конечно, окаменелости неподвижны, что было большим преимуществом для фотографа тех лет. Но куда более важно то, что они оказались решающим аргументом в спорах о естественной истории, продолжавшихся в XIX веке, после того как французский ученый Жорж Кювье предположил, что окаменелости являются свидетельствами существования вымерших организмов в прошлом (1808). История с окаменелостями оказалась центральным звеном в долгой драме о возрасте Земли, кульминацией которой стал труд Чарльза Дарвина «Происхождение видов» (1859). Существовала ли наша планета, как утверждали некоторые христианские источники, всего шесть тысяч лет? Или же окаменелости доказывали, что ей много миллионов лет? Фотографическое изображение зависит от длительности нахождения на свету светочувствительного элемента, будь то пленка или цифровой сенсор. Как только затвор закрыт, это мгновение уже в прошлом. Короткая выдержка, с которой срабатывал затвор Луи Дагера, резко контрастировала с тысячелетиями геологического времени и обнаружила новую человеческую способность – сохранять определенные моменты времени.
Луи Дагер. Без названия (Раковины и окаменелости) Ил. 4
Вскоре потребности новой индустриальной экономики изменили ход времени во второй раз. Обычно время устанавливалось в каждом регионе самостоятельно в зависимости от положения солнца, это значило, что города или поселки, разделенные несколькими сотнями километров, определяли время по-разному. Эта разница не имела значения, пока не понадобилось подсчитать, сколько времени потребуется поезду для преодоления большого расстояния и для того, чтобы составить расписание. «Абсолютное», разделенное на точные часовые пояса, время, которым мы до сих пор пользуемся, было создано для того, чтобы сделать возможным выверенное соотношение времени и пространства.
Джозеф Мэллорд Уильям Тёрнер. Дождь, пар и скорость Ил. 5
В 1840 году английская Большая западная железная дорога первой перешла на стандартизированное время. Несколько лет спустя, в 1844 году, художник Джозеф Мэллорд Уильям Тёрнер облек эти изменения в драматичную форму, написав потрясающее полотно «Дождь, пар и скорость». Поезд несется прямо на нас, но при этом, глядя на него, мы словно повисли в воздухе. Этот новый поезд с помощью современных мостов впервые с момента приручения лошади изменил наше представление о времени и скорости. Он появляется из вихря дождя, словно из мгновения первоздания, предмета ранних работ Тёрнера. Испуганный кролик, бегущий вдоль железнодорожных путей (его трудно увидеть на репродукции), олицетворяет преодоление скорости живой природы. Преодолена была и живопись, как самая передовая форма современной визуальной репрезентации. Даже при всем его таланте на создание картины у Тёрнера ушло несколько недель. Фотография способна изменить мир за считанные секунды.
Уильям Килберн. Чартисты на Кеннингтон-Коммон Ил. 6
Всего несколько лет спустя, в 1848 году, Уильям Килберн сделал знаменитый дагеротип митинга чартистов на площади Кеннингтон-Коммон, в Лондоне. Чартисты требовали новой модели политической репрезентации, при которой каждый мужчина (о женщинах речи пока не было) старше двадцати одного года имел бы право голоса и любой мог бы стать членом парламента вне зависимости от достатка. Они выступали за ежегодное проведение парламентских выборов, которые помогли бы уменьшить уровень возможной коррупции. Митинг был организован в день передачи в парламент петиции с заявленными пятью миллионами подписей в поддержку этих целей. Не прошло и десяти лет с момента создания Дагером фотографий ископаемых, как индустриальный мир с помощью новых часовых поясов и фотографии изменил порядок организации и способ отображения времени и пространства. Эти изменения повлекли за собой желание создать новую систему политической репрезентации – задача, идеально подходящая для нового визуального медиа.
Сегодня мы переживаем еще один такой момент трансформации. За событиями можно наблюдать в реальном времени через интернет, с величайшего множества дилетантских и профессиональных точек зрения, через блоги, журналы, газеты и социальные медиа, через всевозможные визуальные образы, как неподвижные, так и движущиеся. За увеличением количества информации стоят круглосуточно открытая рабочая среда для профессионалов всего мира, доступная благодаря цифровым технологиям, и китайские рабочие, чьими руками создается цифровое оборудование, обеспечивающее такой режим работы, которые сами работают по 11 часов в день плюс переработки, а выходной им выпадает в среднем один раз в месяц. Длительная борьба за сокращение рабочего дня закончилась полным поражением. Сегодня господствуют временны́е медиа (time-based media), они создают миллионы и миллионы кусочков времени, которые мы называем фотографиями и видео, длительность которых постоянно уменьшается, в результате чего появился, например, шестисекундный формат Vine. Одержимость временными медиа, начавшаяся в XIX веке с появлением фотографии и продолжающаяся сегодня благодаря вездесущим фото- и видеокамерам, – это попытка запечатлеть суть изменений.
В 2010 году художник Кристиан Марклей создал невероятную инсталляцию «Часы». Это был 24-часовой фильм, состоящий из коротких отрывков кинофильмов, в каждом из которых показывалось или называлось текущее время, так что «Часы» сами оказывались хронометром. Сама возможность создания такой колоссальной нарезки связанных со временем отрывков указывала на временной характер современных визуальных медиа. В качестве года создания картины мы называем год окончания работы над ней, но мы не можем сказать, сколько времени потребовалось художнику, чтобы ее написать. Фотография же всегда принадлежала только одному мгновению вне зависимости от того, можем ли мы с точностью его определить. Сегодня цифровая информация всегда имеет «временную отметку», это часть ее метаданных, даже если эта отметка не видна на самом изображении. По крайней мере сегодня, в этом вечно меняющемся настоящем, столь характерном для урбанизированных глобальных пространств, представляется, что временные медиа нам нужны, чтобы одновременно и запечатлеть время, и облегчить наш страх перед ним.
За те два века, что мы наращивали темп, – с изобретения железных дорог и до появления интернета, – а в особенности за последние тридцать пять лет, мы сожгли останки органической материи, которая копилась многие миллионы лет, прежде чем превратиться в ископаемое топливо. Это испарение миллионов лет истории Земли обернулось уничтожением некогда бесконечно медленного темпа глубокого времени. То, что раньше занимало столетия, даже миллионы лет, теперь происходит за время одной человеческой жизни. Поскольку ледниковый покров тает, газы, остававшиеся замороженными на протяжении сотен тысяч лет, выпускаются в атмосферу. Можно сказать, что для путешествия во времени, по крайней мере на молекулярном уровне, сегодня достаточно вдохнуть. Неисправна вся планетарная система в целом, начиная с горных пород и заканчивая высшими слоями атмосферы, и она останется такой на срок, превышающий всю историю человечества на данный момент, даже если мы прекратим все выбросы в атмосферу уже завтра.
К чему все это приведет? Пока рано об этом говорить. Когда был изобретен печатный станок, по первым публикациям невозможно было вообразить, как всеобщая грамотность изменит мир. За последние два столетия редчайшее военное умение визуализировать, которое помогало представить, как «выглядят» слишком обширные для невооруженного глаза поля сражений, превратилось в визуальную культуру нескольких сотен миллионов людей. Это сбивает с толку, вносит сумятицу, развязывает руки и вызывает беспокойство – все сразу. В следующих главах «Как смотреть на мир» мы рассмотрим варианты, как мы можем упорядочить и осмыслить эти изменения визуального мира. Мы увидим новые тенденции, те, что уходят в прошлое, и те, влияние которых решительно оспаривается. В отличие от астронавтов с «Аполлона-17», мы будем прочно стоять на земле. Но разворачивающаяся перед нами картина будет куда разнообразнее, чем они могли себе представить.
4
Пер. Е. Шраги.