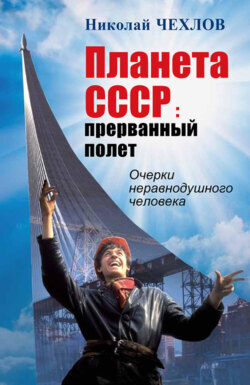Читать книгу Планета СССР. Прерванный полёт. Очерки неравнодушного человека - Николай Чехлов - Страница 4
Часть 1
СССР: от созидания к разрушению и контрреволюции
(конспективно)
Глава 2
Страна в переходный период
ОглавлениеТворчески осмыслив складывающуюся обстановку в стране, В. И. Ленин пришел к выводу о необходимости переходного периода от капитализма к социализму. Была критически оценена практика безденежного товарообмена, безвозмездного предоставления многих услуг населению. Осуществлен отказ, как определил Ленин, от кавалерийской атаки на капитализм времен «военного коммунизма», выработана новая экономическая политика (нэп). Принятая Х съездом РКП(б), она рассматривалась как временная мера (на 5–10 лет) для преодоления разрухи в стране, оживления экономики.
Содержание и направления проведения нэпа. Главная политическая цель нэпа – снять социальную напряженность, укрепить социальную базу советской власти в виде союза рабочих и крестьян – «смычки города и деревни». Экономическая цель – предотвратить дальнейшее усугубление разрухи, выйти из кризиса и восстановить хозяйство. Социальная цель – обеспечить благоприятные условия для построения социалистического общества. Принципиальная особенность нэпа – допущение в экономику частного капитала, рыночных отношений.
Важнейшей составляющей новой политики был переход от продразверстки периода «военного коммунизма» к продовольственному налогу. Урожай, остающийся после его уплаты, земледелец мог свободно продать на рынке. Это заинтересовывало селян в увеличении производства продукции, повышении производительности труда и способствовало подъему всего сельского хозяйства, созданию предпосылок для развития промышленности.
В годы нэпа со стороны государства принимались эффективные меры по оздоровлению денежной, финансовой кредитной систем, налаживанию инфраструктуры, что наряду с развитием частной инициативы способствовало развитию социально-экономической сферы.
В 1921 г. был создан Государственный банк, начавший кредитование промышленности и торговли, а также ряд специализированных банков. Взамен обесценившихся совзнаков в 1922 г. был начат выпуск новой денежной единицы – червонца, имевшего золотое содержание. Важным шагом в оздоровлении денежной системы явилось проведение денежной реформы. Существенные изменения произошли в промышленности и торговле. Были упразднены главки и вместо них созданы тресты (объединения однородных предприятий), получивших практически полную хозяйственную и финансовую самостоятельность. Была восстановлена денежная оплата труда, строящаяся на принципах материальной заинтересованности и начала организовываться работа предприятий на принципах хозрасчета. Возникли биржи труда, сформировался частный сектор в промышленности, в розничной торговле, который составлял 40–60 % от ее общего объема. Появились арендуемые иностранцами предприятия в форме концессий.
Итоги перехода к нэпу неоднозначны, противоречивы. Особенно в социальной и политической сферах. Нэп способствовал оживлению экономики, позволил привлечь к ее развитию дополнительные ресурсы, увеличить накопления в народном хозяйстве, выявить и апробировать методы хозяйствования, адекватные реальным условиям и стимулирующие производственную активность работников и хозяйствующих субъектов. Особенно заметными оказались результаты в аграрном секторе, где увеличились посевные площади, возросли закупки сельхозпродукции и объем ее производства. Возрос индекс промышленного производства. Особенно проявилась активность в сфере торговли, ресторанном бизнесе. Отмена продразверстки способствовала повышению авторитета Советской власти у крестьян.
Однако нэп не привел, да и не мог привести, к коренным изменениям в экономике, структуре народного хозяйства. Страна продолжала оставаться аграрной. Промышленность восстанавливалась на старой технической основе и не удовлетворяла насущные потребности страны. Тяжелая промышленность практически не развивалась, не создавались отрасли, характеризующие индустриальный облик государства и предопределяющие его обороноспособность. Объемы производства промышленной продукции за 1922–1924 гг. достигли лишь 42 процентов довоенного уровня, а машиностроения – только 30 процентов. В 1923 г. выплавка чугуна составляла только 18,3 млн пудов, стали – 37,5 млн, проката 27,3 млн против выпуска 256,8, 259,03 и 264,2 млн пудов соответственно в 1913 г. Неслучайно сельскому хозяйству было ничтожно мало поставлено сельскохозяйственных машин: плугов – 30,9 %, борон – 26,1 %, сеялок – 15,6 %, жаток – 10,6 %, молотилок – 23,6 % от выпуска 1913 года. Не изменилась и численность рабочего класса. Она возросла только на 90 тыс. чел. и составила только 48 % довоенной численности (211).
Политика нэпа привела к возникновению целого ряда негативных социальных и политических процессов. Резко обострилось социальное напряжение на селе. Здесь началось интенсивное расслоение населения.
Вырастала новая крестьянская буржуазия из зажиточных крестьян и одновременно происходила пролетаризация беднейшего слоя населения. Возросло недовольство рабочих своим положением, проявившееся в усилении стачечного движения. Существенно увеличивалось число безработных, составивших в 1924 г. 1,4 млн человек.
Возрастание ряда негативных последствий нэпа вызвало в годы его проведения споры, публикации по поводу сущности нэпа и того, куда он может привести страну. Дискуссии о нем продолжаются и по сей день. Заслуживает внимание обстоятельное исследование нэпа видным историком Ю. Жуковым. В своем фундаментальном труде «Оборотная сторона нэпа», он делает следующий вывод: «нэп обернулся всего лишь свободой для нэпмана, новой буржуазии, торговать женским бельем да открывать кафе, рестораны. Для зажиточных крестьян продавать свой хлеб по любой цене, даже явно завышенной, и еще – застывшими фабриками и заводами, миллионами безработных, миллионами крестьян, уходивших в город на поиски заработка. Так нэп – новая экономическая политика – обернулся НЭПом другим – новой эксплуатацией пролетариата.
Заявленный как средство подъема производительных сил и оживления сельского хозяйства, он так и остался прежде всего свободой торговли, разрешением на аренду и сдачу в концессии предприятий. Не более того.
Нэп обернулся восстановлением самых заурядных рыночных отношений капиталистического характера. В городе – появлением новой буржуазии. В деревне – все ускорявшимся расслоением крестьянства на продолжавших разоряться бедняков и все богатевших кулаков и середняков, оказавшимся источником пополнения рядов как тех, так и других. Социализм, дорогой к которому якобы должен был послужить нэп, все еще оставался призрачной мечтой» (211).
К нэпу переходили в условиях нарастания революционного процесса в развитых странах Запада. Поэтому руководство СССР надеялось на свершение революций в этих странах, приход к руководству государствами «братьев по классу» и помощь индустриального Запада советской России в ее развитии, проведении индустриализации. Однако эти надежды не оправдались. Капиталистическим странам удалось подавить революционные движения. Стало быть, надеяться на помощь извне в преодолении технической отсталости страны не следовало. Более того, враждебное окружение молодой республики усилилось, в связи с чем возросла опасность интервенции.
Указанные обстоятельства понуждали руководство страны ускорить определение путей ее развития, обеспечения безопасности. Об этом свидетельствовал и доклад председателя Реввоенсовета СССР, наркома по военным и морским делам М. В. Фрунзе на пленуме партии в 1925 г. Он охарактеризовал плачевное состояние Красной Армии, ее неспособность в случае необходимости защитить страну. «При теперешнем положении, – заявил Фрунзе, – в дивизиях нет вооружения и других видов снабжения, не подготовлен и командный состав… По целому ряду предметов технического и артиллерийского снабжения … по самому минимальному плану не можем обеспечить мобилизационного развертывания… Не можем потому, что нет запасов. Это страшнейшее и опаснейшее положение. Но может ли наша промышленность – военная и вообще промышленность государственная – обеспечить армию при продолжении войны? На этот вопрос ответ получается еще более тяжелый: абсолютно не может… Ни на одном военном заводе сейчас нет запасов, нет запасов цветных металлов, а что это значит? Это означает, что ни винтовок, ни пулеметов, ни орудий нам выпускать будет нельзя…» (211).
Поиск путей развития страны происходил в условиях острых дискуссий, притом речь шла о принципиальном – по какому пути развиваться стране – по капиталистическому или социалистическому. Отправной же точкой спора был вопрос об отношении к крестьянству, к его составным частям – кулакам, зажиточным крестьянам и середнякам и беднякам. Именно в этом была суть вопроса, который на поверхности принимал форму спора о новой экономической политике.
Так, на XIV партийной конференции председатель Совета Народных Комиссаров Р. Рыков заявил: «Значительная часть спора о кулаке и хозяйственном мужике может быть устранена как совершенно беспредметная, если признать неизбежность при современном восстановительном процессе роста в деревне отношений буржуазного типа и необходимости установления четкой политической линии к этому буржуазному слою… Необходимо прекратить административный зажим этого слоя. Если мы хотим обеспечить дальнейший экономический рост деревни, нужно создать условия для вполне легального найма батраков и облегчить аренду земли… развязывая капитализм в сельском хозяйстве, мы смогли бы в большей мере, чем до сих пор, повернуться лицом к бедняку и середняку» (212). Свою позицию Рыков пытался аргументировать отсутствием возможности наделить лошадьми 40 % безлошадных крестьян и предоставить им инвентарь, а накопления в кулацких хозяйствах рассматривал как «появление материальной возможности поддержать маломощные крестьянские хозяйства и поглотить избыточное население.
Таким образом, Рыков признавал очевидное – наличие буржуазного слоя в деревне, объявлял его полную реабилитацию и предложил идти в деревне по капиталистическому пути, что означало, в том числе, закабаление бедняков кулаками, притом на рабских условиях, что отмечали участники конференции, говоря о жестокой эксплуатации бедняков, часто работающих лишь за кусок хлеба. Из выступления Рыкова также следовало, что он по существу отвергал ленинский кооперативный план. Рыкова поддержал Бухарин, заявивший, что «в общем и целом всему крестьянству, всем его слоям нужно сказать: «обогащайтесь, накапливайте…» (211).
Отступничество Рыкова, Бухарина вызвало бурный протест в партии. Первой против теоретических изысканий и лозунгов Бухарина выступила Надежда Крупская. Она опровергла утверждения Бухарина, что у Ленина было два стратегических плана преобразования села и что он якобы отказался от плана кооперации. Опровергла она и бухаринский лозунг «обогащайтесь». «Выход для многомиллионного крестьянства, – заявила она, – не в капитализме, не в обогащении немногих. Выход в кооперации. Обогащаться можно путем кабалы и путем спекуляции… Лозунг Ильича был не обогащение немногих. Его лозунг был – объединяйтесь в кооперацию, сообща поднимайте технику своего хозяйства» (211).
Категорическое несогласие с позицией Бухарина высказал Сталин. Выступая с докладом на активе Московской парторганизации в мае 1925 г., он сказал: «Существуют два пути земледелия – путь капиталистический и путь социалистический. Путь капиталистический означает развитие через обнищание большинства крестьян во имя обогащения верхних слоев городской и сельской буржуазии. Путь социалистический, наоборот, означает развитие через неуклонное поднятие благосостояния большинства крестьян… Этот путь является единственным спасением крестьянства от обнищания и полуголодного существования… Диктатура пролетариата, – недвусмысленно пригрозил Сталин, – имеющая в своих руках основные нити хозяйства, примет все меры к тому, чтобы победил второй путь, путь социалистический… Надо добиться того, – говорил Сталин, – чтобы крестьянское хозяйство было вовлечено в общую систему социалистического хозяйственного развития… через кооперацию» (211).
Таким образом, Сталин со всей определенностью отверг позицию Рыкова, Бухарина как неприемлемую по идейным соображениям и не отвечающую стоящим перед страной задачам обеспечения ее независимости и развития. Он не только отстаивал социалистический путь развития страны, но и определил направления движения по нему.
«Сейчас, – заявил он, – у нас имеется около 4 миллионов индустриального пролетариата… Нам нужно 15–20 миллионов индустриального пролетариата основных районов нашей страны, кооперированное сельское хозяйство и высокоразвитая металлическая промышленность. И тогда нам не страшны никакие опасности».
Говоря же о развитии тяжелой промышленности он отметил, что «значение ее роста колоссально, ибо оно означает рост всей нашей индустрии и всего нашего хозяйства, ибо металлическая промышленность есть основная база промышленности вообще, ибо ни легкая промышленность, ни транспорт, ни топливо, ни электрификация, ни сельское хозяйство не могут быть поставлены на ноги без мощного развития металлической промышленности. Рост металлической индустрии есть основа роста всей индустрии вообще и народного хозяйства вообще» (213).
XIV конференция поддержала основные предложения Сталина о развитии металлопромышленности, т. е. тяжелой промышленности, приняла по этому вопросу специальную резолюцию, в которой предусматривалось на 26 % увеличить ассигнования на развитие этой отрасли, разработать и утвердить трехлетний план строительства предприятий тяжелой промышленности, признав это «первоочередной задачей»…
Что же касается положения в деревне и стране в целом, то в принятой конференцией резолюции констатировалось, что «наряду с укреплением социалистических элементов хозяйства СССР происходит и будет происходить в то же время развитие частного капитала и связанное с этим частичное обострение конкуренции между социалистическими и капиталистическими элементами хозяйства, как в городе, так и, в особенности, в деревне.
Начавшееся с переходом к новой экономической политике расслоение деревни найдет свое выражение в ближайшем будущем в дальнейшем увеличении и усилении на известное время новой крестьянской буржуазии, вырастающей из зажиточных слоев крестьянства, с одной стороны, и пролетаризации его бедняцких элементов – с другой.
Поэтому мероприятия экономической политики государства как в области регулирования всего народного хозяйства, так и, в особенности, в области сельского хозяйства не могут не считаться с этим фактом» (212).
Таким образом, конференция, как нам представляется, абстрагировалась от проявившихся негативных явлений в связи с активизацией частного капитала, большинство делегатов не в полной мере осознали наличие опасности интервенции и доклад Фрунзе о неготовности Красной Армии и страны к ее отражению.
Дебаты о путях развития страны продолжились и на XIV съезде ВКП(б), открывшемся в декабре 1925 г. Зиновьев, Каменев, Рыков, Бухарин, поддержанные многими делегатами, по существу ратовали за сохранение на длительный срок аграрного характера страны с ориентацией на частный сектор экономики. Сталин же, выступивший с политическим отчетом ЦК, настойчиво повторял, что перед партией во весь рост стоит вопрос о превращении нашей страны в индустриальную державу, экономически независимую от капиталистических стран. «Превратить нашу страну из аграрной в индустриальную, способную производить своими собственными силами необходимое оборудование, – вот в чем суть, основа нашей генеральной линии» (214).
Съезд не согласился с позицией оппозиционеров и в своем решении заявил, что страна диктатуры пролетариата имеет все необходимое для построения полного социалистического общества и что «борьба за победу социалистического строительства в СССР является основной задачей нашей партии» (214).