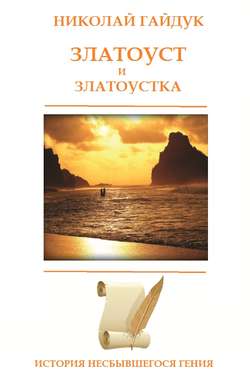Читать книгу Златоуст и Златоустка - Николай Гайдук - Страница 9
Часть первая
Однажды в юности
Глава седьмая. Цветок посреди пепелища
Оглавление1
Чудесная была фамилия у мамы – Незабудкина. Только любовь, она ведь зла – замуж мамочка пошла. Любовь была горячая и мамина фамилия сгорела, превратилась в пепел; так она позднее детям говорила. В общем, стала мама Пепелищева. Детей было трое – два сына и дочка. Сыновья – угрюмые, неразговорчивые, кулаком лишний раз поколотят, чем языком. И оба сыночка в папашу лицом удались, а точнее, в деда, беглого сибирского каторжника, которого в кандалы забили – «музыку на ноги нацепили» за поджоги, вот почему он назывался Пепелищев. У парнишек рожи были каторжанские, зато какая доченька уродилась, куколка – на загляденье. Кто раз посмотрит, век не забудет, потому как это – Незабудка.
Мать настояла, чтоб так назвали.
– Девичья фамилия моя превратилась в пепел, – говорила она, – так пускай цветок растёт на пепелище. Незабудка.
Пепелищев, мужик степенный, молчаливый, только плечами пожал; ему без разницы.
Тихий, скромненький «цветок на пепелище» с каждым годом хорошел, расфуфыривался. Жизнерадостный цветочек, синеглазый, нежный, с тонкими руками-лепестками, на толстых крепеньких ножках, почти всегда прикрытых цветастым длинным платьем. Другие «живые цветы», которые были в букете, – в школьном классе, – вызывающе ярко наряжались порой, стараясь привлекать к себе внимание. А эта Незабудка – никогда ничем не выделялась. Была она девочка не по возрасту строгая, прилежная, да к тому же круглая отличница; и всё это вместе служило немым укором для остальных, не очень строгих, не шибко прилежных и не всегда и не во всём преуспевающих. Вот почему, наверно, в школе Незабудку недолюбливали.
– На пепелище только иван-чай растёт, – говорили остряки, – а незабудки растут на навозе.
– А дураков никто не пашет и не сеет, сами рождаются, – фыркала девчушка.
С первого класса она втрескалась в Ивашку, петухом расшитую рубашку. И настолько это было не по-детски, настолько глубоко, серьёзно, что родители даже забеспокоились: как бы чего не вышло. Но девочка по-прежнему училась на «хорошо» и «отлично», и никаких проблем родителям не создавала. И они порешили: пусть будет так, как есть, а со временем всё будет так, как надо. Родители надеялись, что эта «дитячья придурь» обязательно пройдёт. Но время шло, а сердце девочки не только не остывало – разгоралось на ветрах весёлой юности. Незабудка откровенно бегала или, как тут говорили, ухлёстывала за Ивашкой, нисколько не смущаясь, не боясь насмешек, не обращая внимания на то, что он к ней равнодушен. Зато Апора, старший брат, души не чаял в Незабудке, ухлёстывать за ней пытался, ухажёрить, но девочка, взрослея, начиталась романтических книжек, и однажды заявила, что она «другому сердце отдала и будет верной как скала». Отступившись от неё, Апора стал с потаённой неприязнью присматриваться к Ивашке: что она в нём могла найти? Апора не то, чтоб ревновал, но всё-таки посматривал на брата с холодком, даже с какой-то затаённой враждебностью. И однажды они даже подрались. Апора, как старший брат, был сильнее, наподдавал Ивашке и пригрозил ещё вломить, если он не прекратит издеваться над соседской девчонкой. Парнишка не понял тогда, в чём заключалось его «издевательство». Наверно, в том, что не обращал внимания на Незабудку. Но что же он поделать мог? Насильно мил не будешь.
И он с собой поделать ничего не мог, и она не могла. Незабудка, хотя и понимала, насколько это глупо, а всё равно не думала от Ивашки отставать; всё равно надеялась на что-то; любящее сердце так устроено.
Внешне парень был недоволен и раздосадован – временами «цветок на пепелище» начинал надоедать. А в глубине души – чего уж там греха таить – он был польщён и порою даже ощущал отсутствие внимания со стороны Незабудки, если она уезжала куда-то или просто подолгу не возникала на горизонте. Но всё это было до той поры, пока в судьбе Подкидыша не возникла царевна Златоустка. Всё остальное перед ним померкло, и теперь Ивашке было всё равно, кто там ходит за ним – Незабудка, Маргаритка или Полынь с Крапивой.
И поэтому он не заметил, как Незабудка провожала его в тот день, когда он улетал в Стольный Град – провожала, как серая тень, нигде и никак не выдавая себя. И ждала она Ивашку, тревожилась, потому что видела дурные сны; ждала с нетерпением; каждый день встречала самолёт, приземляющийся на закрайках деревни. И успокоилась только тогда, когда увидела, что он благополучно вернулся из путешествия. А Подкидыш опять не заметил её, тихую, как тень, кроткую, из-за плетня смотревшую, как он идёт – походка гордая, грудь выкатил. «И раньше-то, бывало, к нему не подойдёшь, а теперь и вовсе…»
Дом Пепелищевых стоял почти через дорогу, и нужно было свернуть в переулок, чтобы к родной избе пройти. Свернул Ивашка – и вдруг споткнулся на ровном месте; худая примета. Едва не упав, он так повернулся лицом, что глаза невольно ухватили окна дома Пепелищевых – там занавеска взмахнула белым крылом в самом крайнем окне. Простован догадался, кто смотрит, следит.
– Сколько можно? – Он сплюнул в сердцах. – Надоела!
2
Кузнец, тугой на ухо, не услышал, как звякнула железная щеколда на калитке. Зато услышал воробей – испуганно взлетел перед глазами, заставляя насторожиться. Не спеша поворотясь, Великогроз Горнилыч увидел сына, входящего во двор. Только увидел он не прежнего Ивашку; за несколько дней – точно за несколько лет – парень удивительно переменился. «Ишь ты! И глядит орлом, и костюмчик у него какой-то фильдеперсовый!» – подумал кузнец, плохо понимая, что это такое «фильдеперс»; слышал звон, да не знает, где он.
– Здравствуй, тятя! Ну, как вы тут?
Отец по хозяйству возился, вилами навоз разгребал. Не отвечая на приветствие, он отчуждённо сказал, опираясь на вилы:
– А мы уже думали, ты навернулся на ероплане.
– С чего это вдруг? – растерялся Ивашка.
Тугоухий кузнец не расслышал, а переспрашивать не захотел. Бесцеремонно высморкался и пальцы вытер о подол не заправленной тёмной рубахи.
– Ну, что? – Отец приметил увядающий синяк под глазом парня. – Хорошо погулял?
– Я не гулял, я по делу.
Краснощёкое лицо кузнеца – точно кованое из меди – ничего не выражало. Только глаза почему-то были печальные.
– Ну, и как? Много деньжат промотал? Прибарахлился, вижу. С улыбкой посмотрев на обновку, Ивашка стал объяснять:
– Это старик подарил, такой интересный старик… Великогроз Горнилыч, не слушая, наблюдал за проклятой соседской свиньёй – с той стороны забора повадилась, каналья; вот и теперь показалось грязное мурло, роющее землю и потихоньку отрывающее доску.
– Ах ты, паскудь! – поднимая вилы, закричал отец. – Заколю! Подкидышу на мгновение вдруг показалось, что это на него отец готов наброситься с вилами, но в следующий миг он заметил свиную харю с маленькими, сатанински мерцающими глазками.
– Пошла! Зараза! – крикнул парень, ногою собираясь треснуть по свиному рылу и в то же время не желая новые штиблеты замарать.
Батька это понял. Нахмурился, ворча:
– Хозяйство рушится, а мы на самолётах… Ивашка в сарай смотался, гвозди принёс, молоток.
– Дай сюда! – потребовал отец. – Ты уже, поди, позабыл, с какого конца по гвоздю елдануть.
Приколачивая доску, он машинально покосился на Подкидыша, и молоток со скользом стрельнул по гвоздю – погнул, высекая искру. Сердито сопя, кузнец ухватился железоподобными пальцами – как гвоздодёром – выдрал покалеченый гвоздь. Выкинуть хотел, но прижимистый характер не позволил. Пальцами он выпрямил гвоздину и, зачем-то поплевав на остриё, снова стал ожесточённо заколачивать. Шляпка в дерево ушла – утонула на полсантиметра. Привыкший всё делать основательно, прочно, Великогроз Горнилыч попутно пошатал ещё две-три доски, проверил на прочность. Шумно сплюнул под сапоги. Ногтем-стамеской поцарапал щетинистый подбородок.
– Ну, как там Стольный Град? Шумит? – спросил он, меняя гнев на милость.
Однако парня рядом уже не было – ушёл в избу и замер у порога. Стоял, смотрел на чистое и милое убранство, которое как будто не видел много лет.
Старые ходики неутомимо шагали, побрякивая какою-то ослабленной жестянкой, словно подковкой на миниатюрном сапожке. Две гирьки – две килограммовых еловых шишки, покрашенные в зеленовато-серый цвет – висели на длинной цепочке; года полтора назад Ивашка мастерски выковал эти шишки и мелкозернистую цепку. Опустившись на табуретку возле порога, Подкидыш, утомлённо вздыхая, о чём-то задумался, новыми глазами осматривая старое убранство. После дальней дороги он себя почувствовал в гостях, а не дома. И всё ему тут показалось каким-то сиротливым, неказистым, и в то же время – милым, дорогим… Пылинка медленно кружилась, колобродила в воздухе перед окном, куда падали косо наклонённые лучи. Пролетела сонно жужжащая муха, мерцая крылышками, словно сусальными лепесточками. Сверчок за печкой неожиданно пиликнул… И вдруг подумалось, минута эта – минута счастья, которая впоследствии будет вспоминаться, как очень дорогая, невозвратная.
В комнате, в своём закутке Подкидыш увидел два каких-то дешевеньких позолоченных кольца, друг с другом связанные тонкой стальной паутинкой, той самой паутинкой, которую он когда-то отковал на кузнице. «А это здесь откуда?» Парень постоял возле окна, посмотрел на дом Пепелищевых – через дорогу. И снова ему стало неприятно, как давеча, когда споткнулся в переулке и внезапно обратил внимание на пепелищевский дом. Только теперь уже было не только неприятно – худое предчувствие кольнуло сердце. Выходя из своего закутка, загремел какою-то железкой – отец опять из кузницы принёс.
Дед Илья, проснувшийся на русской печи, тоже встретил парня как-то холодно и отчуждённо – не похуже отца.
– Ну, дак чего? – спросил Илья Муромец, по-богатырски глядя из-под руки. – Давай, хвались. Не зря мотался в эдакую даль? Пропечатали?
– А как же! Пропечатали! Сначала в лоб, потом по лбу!
Дед закурил – дымное облако под потолком забелело голубем.
– А я тебе што говорил? А ты не верил…
– Да ладно! – Широко улыбаясь, парень подошёл к нему и взволнованно заговорил: – Зато я встретил там, знаешь, кого? Он с Пушкиным работал и с этим, как его? С Достоевским. И даже с Гоголем горилку пил…
Дед поперхнулся дымом – искры брызнули.
– А ты сам горилку-то не кушал?
– Нет. – Продолжая улыбаться, парень ещё немного с дедом погуторил и отошёл от печки, в недоумении пощипывая усики. – Я что-то не пойму, в чём дело? Батя мрачный, волком смотрит – ну, это понятно. А ты чего? Какая муха цапнула тебя?
– Тут не муха цапнула и даже не собака… – Докурив самокрутку, дед Мурава из-под руки посмотрел в окно в сторону леса. – Не хотел говорить, тока шило-то в мешке не утаишь…
– Какое шило? – Парень насторожился. – Что случилось?
– По деревне ходят слухи… – Илья Муромец помедлил. – Говорят, будто они свою заимку бросили. Уехали куда-то…
– Кто? – Подкидыш, догадываясь, начал бледнеть. – Ты про кого это? Дед! Не томи! Ты откуда знаешь про заимку? Ну?
Великогроз Горнилыч в дом вошёл на минутку, взял железо, мерцающее под лавкой, угрюмо усмехнулся, посмотрев на сына и, хлопнув дверью, затопал сапогами на крыльце, а вслед за этим за стеной забренчала телега – батя на кузню поехал.
И опять Ивашка заволновался, – просил и требовал ответа на вопрос: что случилось?
Дед пятернёй поцарапал сено густой бороды.
– Охотник приходил. С той стороны деревни. Из-за ручья. Шёл по своим делам, да завернул. Мы с ним старые друзья. Вот он и рассказал, будто уехали они. С твоей зазнобой.
Помолчав, парень тоскливо посмотрел за окно.
– А может, враки?
– Может, – согласился дед, собираясь лечь. – Я не знаю. За что купил, за то и продаю.
Неожиданно раздражаясь, Подкидыш передразнил:
– Купил!.. Продал!.. У вас тут, ёлки-зелёные, только одно на уме! Дед широко зевнул, показывая остатки зубов.
– Чего ты взвился? Коршун.
– Да ничего.
Покряхтывая, дед улёгся на печи – с удовольствием потянулся.
– Ты поешь с дороги, отдохни, – пробормотал он, крестясь. – Намаялся, небось…
Парень кругами походил по комнате. Постоял, посмотрел на старенький голубой ковёр с гусями-лебедями из русской сказки.
– Переживём как-нибудь, перекуём мечи на калачи, – задумчиво проговорил и вспомнил про стальную паутинку, так хорошо откованную в кузне, а теперь висящую в закутке над столом. – Дед! А без меня сюда никто чужой не приходил?
– А кто? Охотник тока. Больше никого. – Дед-лежебока снова широко зевнул. – Мимо меня и мышь не промелькнёт.
«Мимо тебя не только мышь – кот в сапогах протопает!»
– Ладно, отдыхай. А я, наверно, баньку истоплю.
– Хорошее дело, – согласился лежебока, не открывая глаза. – Может, и я попарюсь. Кости ломит. Охо-хо… Старость, не радость, а гроб не корысть.
Ивашка расторопно снял свой модный «фильдеперсовый» костюмчик. Переоделся в грубую сермягу повседневности.
Предвечерние сени были наполнены голубоватым полумраком, наискосок прошитым золотою ниткой закатного луча. Задумываясь, парень загляделся на березовый короб, с которым обычно ходил по тайге. От сильного волнения в душе снова пробудилась незаурядная магическая сила. Глаза его как будто стали лучиться, и берёзовый короб вдруг потихоньку поехал по лавке – поехал навстречу Ивашке. Он подхватил этот короб и, не задумываясь, вышел со двора.
3
Вечернее солнце – натужно покрасневшее, подёрнутое сизо-металлической окалиной по краям, но червонно-медное посередине – тяжелело, теряло высоту над синими горами, над кронами дальней тайги, непроходимо столпившейся на перевалах. А дорога-то была далёкая, высокая – за перевал, за две реки, за три ущелья, и придти он мог туда уже в полнейшей темноте. Рискованно. Только это ничуть не пугало – отчаянный парень: и море по колено, и облака по грудь. Страх совсем другого рода сердце припекал, когда Ивашка напропалую шуровал по тёмно-синим буреломам, по камням, где сверкали росы на кустах, на деревьях, напоминая волчьи глаза.
Подкидыш опасался, как бы слухи не подтвердились – насчёт царевны. Куда она уехала? Зачем? Что там случилось? Что могло их с места сдёрнуть? Сколько лет они там жили, неистово молились, и вот на тебе…
Отгоняя от себя худые мысли, он торопился, и потому не скоро заприметил какого-то чёрного ворона, который незаметно следом увязался – за первым перевалом, или после второго ущелья. Варнак тот был необычайно крупный, жирный, как поросёнок. Он даже как будто похрюкивал, а не покаркивал. Какое-то время ворон втихомолку летел как на привязи – не отставал, но и вперёд не рыпался. Как только путник останавливался дух перевести – ворон опускался на вершину кедра или сосны. Причём так садился, чёрт его дери, будто ногу на ногу закидывал. Подкидыш подумал, что это мерещится, но потом, когда ворон оказался поближе – сомнений уже не оставалось. Варнак действительно сидел, закинув ногу на ногу. Более того, этот стервец курил и временами даже сплёвывал на землю.
– Вот это фокус! – Подкидыш крепко зажмурился. – Надо было отдохнуть с дороги. Ишь, какая дрянь стала мерещиться. Так, чего доброго, и сосны пешком пойдут по тайге и станут ногу на ногу закидывать, отдыхаючи на перевалах…
Он специально думал вслух – так спокойней было, да только уж какое тут спокойствие. Чем ближе подходил он к заветной заимке, тем сильней душа болела, будоражилась. И ветер уже наносил порывами какого-то могильного тления или пожарища. Хотя, конечно, это могла быть тлетворная туша сохатого, задранного медведем и спрятанного где-нибудь в чащобе. И всё-таки тревога обжигала душу. А когда Ивашка, чуть не ломая ногти, по острым каменьям вскарабкался на перевал, с которого должна была открыться небольшая долина, – ужас охватил.
Никогда ещё он не видел такого лучезарно-кровавого заката. Стоя на вершине перевала, где соловьём-разбойником свистел холодный ветер, он перекрестился, глядя туда, где солнце погибало в кровавом озере, далеко расплескавшемся по изломанному горизонту. Скорей всего, это был обыкновенный, «рядовой» закат, предвещающий непогоду на завтра, но парень в этой картине увидел нечто вроде божьего предзнаменования. Слишком необычно, слишком ярко и жарко разыгрались краски в небесах и в горах. Берёзы, толпами стоявшие на косогорах, почти в буквальном смысле кровоточили закатной кровушкой. Высокогорные далёкие снега, укрываясь туманом, представлялись тушами парного, дымящегося мяса, с которого недавно содрали кожу. Ручей в камнях поблизости пульсировал червонно-синими потоками – как большая вскрытая артерия…
Встряхнув головою, Подкидыш нарочно стал спускаться по камням к тому ручью, который почудился «кровавым». Он доказать хотел себе, что всё это игра воображения и простой пустопорожний вымысел. Но когда он руки сунул в воду, чтобы умыться – похолодел от ужаса и явственно почувствовал, как волосы ворохнулись ворохом на загривке, на висках и на макушке.
По ручью бежала не вода – настоящая кровь клокотала, розоватой пеной завихряясь в камнях и между ветками склонённой ивы. Разинув рот, Ивашка не только не мог подняться, чтобы рвануть наутёк – даже руки от ручья не мог отнять. Руки, мелко подрагивая, полоскались в тёплой, густой крови и поминутно пропускали между пальцев кровяные сгустки, похожие на осенние листья, сбитые ветром с холодных осин. И сколько он так просидел у кровяного ручья, неизвестно. И наконец-то ноги сами собой подхватили его и понесли. И сколько он бежал, куда бежал, едва не оставляя уши на сучках, едва не выкалывая глаза, едва не выворачивая ноги в лодыжках, – позднее он толком ничего не мог припомнить.
Где-то за камнями, за деревьями, обессилев, запыхавшись, Подкидыш рухнул на траву. Хрипя, отдышался, руки в ручейке отмыл от крови. Полежал, поглядел в небеса, где начинали мерцать первые звёздочки.
«Что это было? – брезгливо морщась, он оглянулся. – Что за кровь? Может, волк свою жертву настиг неподалёку, зарезал, и свежая кровь потекла по ручью как раз в ту минуту, когда я собрался руки сполоснуть? Или, или… Даже не знаю, что подумать…»
Добравшись до места, он понял: худое предчувствие не обмануло. Предполагая оказаться около заимки, парень оказался на пепелище. И двухэтажный бревенчатый дом, и сеновал, и пасека, и медогонка в районе Золотого Устья – всё дымом и пеплом по тайге разлетелось. На пустой поляне у реки, где ещё недавно шелками шелестело разнотравье, где свечками стояли огоньки-жарки, цветами радуги радовали глаз фиалки, медуница, донник – там были одни головёшки да угли, будто чёрные розы, мерцающие росой, уже успевшей окропить пепелище.
Глядя на жуткий разор, Подкидыш задумался. Поначалу показалось – молния, гроза виновата в этом жутком пожаре. Но потом, когда он побродил вокруг да около, стало понятно – поджог. Парень, конечно, мог и ошибаться, да только вряд ли. Заимка выгорела как-то так, точно специально выжигали.
«За что? – Он застонал. – Кержаки тихо-мирно жили, о спасении души молились, опасаясь прихода Антихриста…»
И вдруг он содрогнулся и похолодел. В тёмной тишине почудилось «пришествие Антихриста» – широкие и жутко-скрипучие шаги. Бум-бум-бум… Хрясь-хрясь-хрясь… Звуки были отчётливые – эхо откликалось по ущелью. Может быть, это падали гнилые деревья – одно за другим? Или камни с гор катились, громко и грозно сшибаясь гранитными лбами? Подумав об этом, Подкидыш тут же понял, что никакие это не деревья и не камни. Это было – куда страшнее.
Избушка на курьих ножках топала по горам, по тайге.
Человек смотрел – глазам не верил. Это была избушка а-ля рус – под старину построили, но видно, плохо знали старину, потому что новый стиль модерн там и тут выглядывал из-под старины, как новое платье может выглядывать из-под старого. Два кровавых глаза – два окна – моргали, как живые, хлопали ставнями-ресницами. Кучерявым чубом над трубою дым развивался – искры вылетали, а иногда вдруг выскакивало даже горящее полено, только почему-то не падало на землю, а кружилось в воздухе, словно жар-птица, и пропадало, сгорая.
Оторопев от страха и потому не сразу спохватившись, парень попятился и побежал – поспешил укрыться за прибрежными валунами, чтобы избушка эта ненароком не затоптала своими уродливо-большими куриными лапами. Выглядывая из-за укрытия, он увидел свет керосиновой лампы в одном окне – кривом и низеньком. Крестовина в окне показалась непомерно большой – точно кладбищенский крест присобачили вместо нормальной оконной рамы. И чем ближе подходила та избушка, тем сильнее сотрясалась земля – травы, кусты дрожали, рассыпая росы… И всё нахальней, всё громче раздавалась разбитная музыка, гремящая внутри, – там как будто пели и плясали, справляя жуткий праздник. Белка всполошилась в дупле неподалёку – выскочила, мерцая глазёнками. Две-три пичуги пролетели, покидая тёплые насиженные гнёзда. До полусмерти перепуганный заяц – точно белобрысый колобок – прокатился по склону и моментально пропал.
Пригибаясь, чтобы не заметили, Подкидыш наступил на сухой сучок – раздался треск, который показался выстрелом…
И вдруг избушка – словно там услышали сухой щелчок – на несколько мгновений остановилась. Потопталась на месте, втаптывая в землю валуны величиною с бараньи головы. Два огненных глаза-окна покосились туда, где затаился человек. Избушка повернулась, принюхалась трубой и неожиданно пошла прямиком на парня, который стоял у обрыва – отступать было некуда. Всё, хана, мелькнуло в голове, сейчас его затопчут примерно так же, как слон котёнка…
Зажмуриваясь, он двумя руками уши зачем-то заложил, будто в тишине его не тронут. Кровь кипела в ушах, в голове, кровь закапала из носа, как из рукомойника – такое давление вдруг поднялось на краю погибели… Но, видно, не судьба ещё, не пробил час, потому что через несколько секунд – когда Подкидыш посмотрел по сторонам – видение пропало, и в тёмной тишине только листья трепетали на осине, стоящей поблизости.
– Я не понял, – прошептал он, обращаясь к белке, сидящей около дупла, – что это было?
– Цо…цо…цо! – зацокала белка и стремглав заскочила в дупло.
В тайге стало тихо. Вода, словно бы остановившаяся на несколько минут, снова побежала, жалобно журча под берегом. И вечерний туман, побелевший от страха и тоже ненадолго минут остановившийся, точно опомнился и дальше пополз по траве, по кустам.
И тут – в новорождённой тишине – Подкидыш впервые услышал большого и странного ворона, сидящего на горелом дереве, уродливо торчащем над поляной. Причём услышал не простое вороново карканье – это были звуки, подобные дикому хриплому хохоту; словно от чёрного неба дерюжный лоскут отдирать пытались. И этот дикий хохот варнака – в тишине и в пустоте туманного ущелья – разносился так далеко, точно стая жутких чёрных воронов переполошилась там и тут, хохоча, крича и топоча, и заполошно хлопая крылами.
А затем случилось нечто удивительное и необъяснимое.
Луна медленно вставала над горбушкой перевала – серебристо-голубым сугробом. Яркие лучи её – косыми тонкими стрелами – сначала прострелили гранитные расщелины в горах, а затем во всю моченьку ударили из-за хребта, беззвучно втыкаясь в реку, в тёмный омут под берегом, вонзаясь между кронами глухого чернолесья. И варнак, беспечно сидящий нога на ногу, странно как-то, подбито вскрикнул, задетый серебристым наконечником лунной стрелы. Чёрным крестом расправив крылья – на фоне луны хорошо было видно – варнак испуганно взлетел с горелого дерева и опустился на ту вершину, которую луна ещё не осветила.
«Ах, вот оно что, – стал догадываться Ивашка. – Этот варнак, антихрист, лунного света, наверно, боится?»
Так оно и было. Чем сильней распалялось белое пламя луны, тем дальше отлетал хрипатый ворон, будто яркие лунные стрелы буквально втыкались в него. И наконец-то варнак совсем пропал из виду – синевато-бледный свет разлился по всей округе. И в этой мёртвой тишине при большой, полноводной луне было особенно горько стоять на пепелище. Стоять и вспоминать, где и как он повстречал свою царевну Златоустку, о чём говорили, о чём так прекрасно молчали…
Подкидыш побродил по пепелищу и сердце дрогнуло – что-то вдруг заметил под ногами. Поднял, присмотрелся. Это был уголёк, с виду простецкий, похожий на червонно-желтый камешек, холодный, гладкий. Но парень уже понял, что это за штучка – такие угольки можно сыскать только у отца на кузне. И чтобы в этом удостовериться, Подкидыш положил уголёк на ладонь и начал усиленно дуть – камешек внутри стал разгораться, искорки посыпались, а через минуту пламя заиграло золотисто-синими лепестками, обжигающими ладонь. Сомнений быть не могло – это уголёк из кузницы. «А как же он сюда попал? – в голове Подкидыша промелькнула страшная догадка. – Отец? Да нет! Не может быть!»
Он подождал, когда волшебный уголёк остынет – положил в карман.
Время от времени луна за облаками пряталась – тёмные круглые копны туч-облаков катились по небу, всё плотнее скирдовались над перевалами. Собираясь покидать испепелённую заимку, Подкидыш заметил живые цветы, чудом уцелевшие посреди пожарища – царские кудри; они стояли в центре обугленной поляны, кудрявились под набегающим ветром, который при свете луны казался ветром посеребрённым. «Эти царские кудри выросли там, где упал волосок с головы царевны!» – благоговейно подумал парень, срывая и пряча цветок в тёмную и тёплую утробу заплечного короба.
И только он спрятал цветок – в тёмных кустах и деревьях неподалёку что-то сухо и громко затрещало, захрускало – точно избушка на курьих ножках опять шарашилась. Готовый задать стрекоча, он пригляделся. Нет, не избушка идёт.
При свете луны обозначилась какая-то горбатая фигура, бредущая берегом. Заволновавшись, парень пошарил под ногами – каменюку поднял на всякий случай.
Сутулая фигура человека – по мере приближения – обрастала чёрными лохмотьями, свисающими с плеч, боков. А затем фигура вдруг зарычала медвежьим басом – железным, громоподобным, слегка надтреснутым.
Шагов десяти не дойдя до человека, медведь устало опустился на прибрежный валун.
– Не бойся, парень, это я, – пробасил он, красновато мерцая глазами.
Ивашка догадался, но всё-таки спросил:
– Кто это – «я»?
– Медведядька. Сторож тутошний. Помнишь, ты мне возле бани дал по морде?
– Ну, извини. – Парень пожал плечами. – Я тогда не знал…
– Да ладно, что теперь… – Медведядька поглядел на пепелище. – Видно, мало морду мне мутузили, если я такое допустил.
Подойдя поближе, Простован при свете луны увидел обгорелую во многих местах шкуру медведя. Левая лапа его была «забинтована» какими-то цветами и листьями, помогающими при ожогах – зверобой, подорожник и что-то ещё.
– А кто здесь был? – понуро спросил Подкидыш. Медведядька хрипловато вздохнул.
– Антихрист, – удручённо ответил. – Они ведь Антихриста ждали, вот и дождались. Накликали.
– Кто он такой? Чего молчишь? Я хочу найти… Да я им, сволочам…
Дядька медведь криво и печально усмехнулся.
– Ишь ты, смелый! Да они тебя раздавят, как комара.
– Ну, это, знаешь… Мы ещё посмотрим… Ты только скажи, какой такой антихрист?
– Какой? – Медведядька неожиданно взбеленился, демонстрируя жуткий оскал. – Да вот такой же, как ты!
Растерянно моргая, парень помолчал, глядя на сторожа.
– Что ты болтаешь, башка два уха?
– А ты? Забыл?.. – Медведядька с удивительной резвостью поднялся и одною лапой сграбастал за грудки – рубаха затрещала, теряя пуговку. – Ты забыл, а я-то помню. Ты, Ванька, дураком не прикидывайся.
– Отпусти! Об чём говоришь? Не пойму.
– Об золоте! Об чём… – Медведядька, отпустив его, загоревал, качая обгорелой головой. – Ох, Ванька, Ванька! Ну, зачем ты это сделал?
Парень понуро молчал. С горечью и грустью глядел в ту сторону, куда улетел странный ворон, куда ушла избушка на курьих ножках.
– Зачем, зачем… – Он кулаком саданул по колену. – За тем, что был дурной!
– А теперь? – Медведядька снова зарычал. – Теперь поумнел?
– Да навряд ли…
– Вот в том-то и дело! – Медведядька поднялся, глядя на звёзды. – Босяк ты, Ванька! Недоумок! Ну, почему ты не выбросил тот самородок проклятый? С него как раз и началась вся эта камарилья, вся эта нечисть на курьих ножках…
Нечего было Ивашке сказать. Молча сидел он, голову пеплом сухим посыпал и нашёптывал, как заклятие:
– Босяк и босиз! Босяк и босиз…