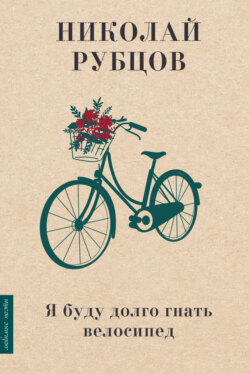Читать книгу Я буду долго гнать велосипед - Николай Михайлович Рубцов, Николай Рубцов - Страница 2
Из сборника «Волны и скалы»
ОглавлениеЭлегия
…брату Алику
Стукнул по карману –
не звенит.
Стукнул по другому –
не слыхать.
В коммунизм – безоблачный зенит –
полетели мысли
отдыхать.
Но очнусь,
и выйду за порог,
и пойду на ветер, на откос –
о печали пройденных дорог
шелестеть остатками волос.
Память отбивается от рук,
молодость уходит из-под ног.
Солнышко описывает круг –
жизненный
отсчитывает
срок…
«Я весь в мазуте, весь в тавоте!..»
Я весь в мазуте,
весь в тавоте,
зато работаю в тралфлоте!
…Печально пела радиола:
звала к любви,
в закат,
в уют!..
На камни пламенного мола
матросы вышли из кают.
Они с родными целовались.
Вздувал рубахи
мокрый норд.
Суда гудели, надрывались,
матросов требуя на борт…
И вот опять – святое дело:
опять аврал, горяч и груб…
И шкерщик встал
у рыбодела,
и встал матрос-головоруб…
Мы всю треску
сдадим народу,
мы план сумеем перекрыть!
Мы терпим подлую погоду,
мы продолжаем плыть и плыть…
…Я юный сын
морских факторий –
хочу,
чтоб вечно шторм звучал,
чтоб для отважных
вечно –
море,
а для уставших –
свой причал…
«Бывало, вырядимся с шиком…»
Бывало,
вырядимся
с шиком
в костюмы, в шляпы, и – айда!
Любой красотке
с гордым ликом
смотреть на нас приятно,
да!
Вина
весёленький бочонок –
как чудо,
сразу окружён!
Мы пьём за ласковых девчёнок,
а кто постарше,
те – за жён…
Ах, сколько их
в кустах
и в дюнах,
у белых мраморных колонн, –
мужчин,
взволнованных и юных!
А сколько женщин! –
Миллион!
У всех дворцов,
у всех избушек
кишит портовый праздный люд.
Гремит оркестр,
палят из пушек,
дают
над городом
салют!
Портовая ночь
Старпомы ждут своих матросов.
Морской жаргон
с борта на борт
летит,
пугая альбатросов…
И оглашён гудками порт!
Иду. (А как же? – Дисциплина!)
Оставив женщин и ночлег,
иду походкой гражданина
и ртом ловлю роскошный снег,
и выколачиваю звуки
из веток, тронутых ледком,
дышу на зябнущие руки,
дышу свободно и легко!
Пивные – наглухо закрыты.
Темны дворы и этажи.
Как бы заброшенный,
забытый,
безлюден город…
Ни души!
Лишь бледнолицая девица
без выраженья на лице,
как замерзающая птица,
сидит зачем-то на крыльце…
– Матрос! – кричит, – Чего не спится?
Куда торопишься? Постой!
– Пардон! – кричу, – Иду трудиться!
Болтать мне некогда с тобой…
Имениннику
Валентину Горшкову
Твоя любимая
уснула.
И ты, закрыв глаза и рот,
уснешь
и свалишься со стула.
Быть может, свалишься
в проход.
И всё ж
не будет слова злого,
ни речи резкой и чужой.
Тебя поднимут,
как святого,
кристально-чистого
душой.
Уложат,
где не дует ветер,
и тихо твой покинут дом.
Ты захрапишь…
И всё на свете –
пойдет
обычным чередом!
Долина детства
Мрачный мастер
страшного тарана,
до чего ж он всё же нерадив!
…После дива сельского барана
я открыл немало разных див.
Нахлобучив мичманку на брови,
шёл в театр, в контору, на причал…
Стал теперь мудрее и суровей,
и себя отравой накачал…
Но моя родимая землица
надо мной удерживает власть.
Память возвращается, как птица –
в то гнездо, в котором родилась.
И вокруг долины той любимой,
полной света вечных звёзд Руси,
жизнь моя вращается незримо,
как Земля вокруг своей оси!
«Я забыл, как лошадь запрягают…»
Я забыл,
как лошадь запрягают.
И хочу её позапрягать,
хоть они неопытных
лягают
и до смерти могут залягать!
Мне не страшно.
Мне уже досталось
от коней – и рыжих, и гнедых.
Знать не знали,
что такое – жалость.
Били в зубы прямо
и в поддых!..
Эх, запряг бы я сейчас кобылку,
и возил бы сено, сколько мог!
А потом
втыкал бы важно
вилку
поросёнку жареному
в бок…
Берёзы
Я люблю, когда шумят берёзы,
когда листья падают с берёз.
Слушаю, и набегают слёзы
на глаза, отвыкшие от слёз…
Всё очнётся в памяти невольно,
отзовётся в сердце и крови.
Станет как-то радостно и больно,
будто кто-то шепчет о любви.
Только чаще побеждает проза.
Словно дунет ветром хмурых дней.
Ведь шумит такая же берёза
над могилой матери моей…
На войне отца убила пуля.
А у нас в деревне, у оград –
с ветром и с дождём гудел, как улей,
вот такой же поздний листопад…
Русь моя, люблю твои берёзы:
с ранних лет я с ними жил и рос!
Потому и набегают слёзы
на глаза, отвыкшие от слёз…
«Мы будем свободны как птицы…»
– Мы будем
свободны,
как птицы, –
ты шепчешь
и смотришь с тоской,
как тянутся птиц вереницы
над морем,
над бурей морской…
И стало мне жаль отчего-то,
что сам я люблю
и любим…
Ты птица иного полета…
Куда ж мы
с тобой
полетим?!
Утро утраты
Человек
не рыдал,
не метался
в это утлое утро утраты.
Лишь ограду встряхнуть попытался,
ухватившись за копья ограды…
Вот пошёл он,
вот в чёрном затоне
отразился рубашкою белой.
Вот трамвай, тормозя, затрезвонил:
крик водителя:
– Жить надоело?!
Шумно было,
а он и не слышал.
Может, слушал,
но слышал едва ли,
как железо гремело на крышах,
как железки машин грохотали…
Вот пришёл он,
вот взял он гитару,
вот по струнам ударил устало…
Вот запел про царицу Тамару
и про башню в теснине Дарьяла.
Вот и всё…
А ограда стояла.
Тяжки копья чугунной ограды.
Было утро дождя и металла.
Было утлое утро утраты…
Сто «нет»
В окнах зелёный свет,
странный, болотный свет…
Я не повешусь, нет,
не помешаюсь, нет…
Буду я жить сто лет,
и без тебя – сто лет.
Сердце не стонет, нет,
Нет,
сто «нет»!
Ненастье
Погода какая!..
С ума сойдёшь:
снег, ветер и дождь-зараза!
Как буйные слезы,
струится дождь
по скулам железного Газа…
Как резко звенел
в телефонном мирке
твой голос, опасный подвохом!
Вот, трубка вздохнула в моей руке
осмысленно-тяжким вздохом,
и вдруг онемела с раскрытым ртом…
Конечно, не провод лопнул!
Я
дверь автомата
открыл пинком
и снова
пинком
захлопнул!..
И вот я сижу
и зубрю дарвинизм.
И вот, в результате зубрёжки –
внимательно
ем
молодой организм
какой-то копчёной рыбешки…
Что делать? –
ведь ножик в себя не вонжу,
и жизнь продолжается, значит!..
На памятник Газа
в окно гляжу:
Железный!
А всё-таки… плачет.
Волны и скалы
Эх, коня да удаль азиата
мне взамен чернильниц и бумаг, –
как под гибким телом Азамата,
подо мною взвился б
аргамак!
Как разбойник,
только без кинжала,
покрестившись лихо
на собор,
мимо волн Обводного канала –
поскакал бы я во весь опор!
Мимо окон Эдика и Глеба,
мимо криков: «Это же – Рубцов!»,
не простой,
возвышенный,
в седле бы –
прискакал к тебе,
в конце концов!
Но наверно, просто и без смеха
ты мне скажешь: «Боже упаси!
Почему на лошади приехал?
Разве мало в городе такси?!»
И, стыдясь за дикий свой поступок,
словно Богом свергнутый с небес,
я отвечу буднично и тупо:
– Да, конечно, это не прогресс…
Левитан(по мотивам картины «Вечерний звон»)
В глаза бревенчатым лачугам
глядит алеющая мгла.
Над колокольчиковым лугом
собор звонит в колокола.
Звон заокольный и окольный,
у окон,
около колонн.
Звон колоколен колокольный,
и колокольчиковый звон.
И колокольцем
каждым
в душу –
любого русского спроси! –
звонит, как в колокол,
– не глуше, –
звон
левитановской
Руси!
На перевозе
Паром.
Паромщик.
Перевоз.
И я
с тетрадкой и с пером.
Не то,
что паром паровоз –
нас
парой весел
вёз паром!
Я рос на этих берегах!
И пусть паром – не паровоз!
Как паровоз
на всех парах –
меня он
в детство
перевёз!
Маленькие Лили(для детей)
Две маленькие
Лили –
лилипуты
увидели на иве жёлтый прутик.
Его спросили Лили:
«Почему ты
не зеленеешь,
прутик-лилипутик?»
Пошли
за лейкой
маленькие Лили,
на шалости не тратя и минуты,
и так усердно,
как дожди не лили,
на прутик лили
Лили –
лилипуты.
На родине
Загородил мою дорогу
грузовика широкий зад.
И я подумал: – Слава Богу!
Село не то, что год назад!
Теперь в полях везде машины,
и не видать худых кобыл.
Один лишь древний дух крушины
всё так же горек, как и был…
Да, я подумал «Слава Богу!»
Но Бог-то тут причём опять?
Уж нам пора бы понемногу
от мистицизма отвыкать!
Давно в гробу цари и боги!
И дело в том, наверняка,
что с треском нынче демагоги
летят из Главков и ЦэКа!
Репортаж
К мужику микрофон подносят.
Тянут слово из мужика.
Рассказать о работе
просят –
в свете новых решений ЦэКа!
Мужику
непривычно трёкать.
Вздох срывается с языка.
Нежно взяли его за локоть:
тянут
слово
из мужика!..
О собаках
Не могу я видеть без грусти
ежедневных собачьих драк…
В этом маленьком захолустье
поразительно много собак!
Есть мордастые – всякой масти,
есть поджарые – всех тонов.
Подойди –
разорвут на части,
иль оставят
вмиг
без штанов…
Говорю о том не для смеху.
Я однажды подумал так:
Да, собака друг человеку, –
одному…
А другому – враг!
Жалобы алкоголика
…Ах, что я делаю?
За что я мучаю
больной и маленький
свой организм?..
Да по какому ж
такому случаю?..
Ведь люди борются
за коммунизм!
Скот размножается,
пшеница мелется,
и всё на правильном
таком пути!..
Так, замети меня,
метель-метелица…
Ох, замети меня,
ох, замети…
И заметёт!..
Праздник в посёлке
Сколько водки выпито!
Сколько стёкол выбито!
Сколько средств закошено!
Сколько женщин брошено!
Где-то дети плакали…
Где-то финки звякали…
Эх, сивуха сивая!..
Жизнь была… красивая!
«Снуют. Считают рублики…»
Снуют. Считают рублики.
Спешат в свои дома.
И нету дела публике,
что я схожу с ума!
Не знаю, чем он кончится,
запутавшийся путь,
но так порою хочется
ножом…
куда-нибудь!
Да, умру я!
Да, умру я!
И что ж такого?
Хоть сейчас из нагана в лоб!
Может быть,
гробовщик толковый
смастерит мне хороший гроб…
А на что мне хороший гроб-то?
Зарывайте меня хоть как!
Жалкий след мой
будет затоптан
башмаками других бродяг.
И останется всё,
как было –
на Земле,
не для всех родной…
Будет так же
светить Светило
на заплеванный шар земной!..
Разлад
Мы встретились у мельничной запруды,
и я ей сразу
прямо всё сказал!
– Кому, – сказал, – нужны твои причуды?
– Зачем, – сказал, – ходила на вокзал?
Она сказала: – Я не виновата…
– Ну, да, – сказал я, – кто же виноват?
Она сказала: – Я встречала брата.
– Ха-ха, – сказал я, – разве это брат?!
В моих мозгах чего-то не хватало:
махнув на всё, я начал хохотать!
Я хохотал. И эхо хохотало.
И грохотала мельничная гать.
Она сказала: – Ты чего хохочешь?
– Хочу, – сказал я, – вот и хохочу!
Она сказала: – Мало ли, что хочешь!
Тебя я слушать больше не хочу!
Конечно, я ничуть не испугался.
Я гордо шёл на ссору и разлад.
И зря в ту ночь сиял и трепыхался
в конце безлюдной улицы закат!..
МУМ(Марш уходящей молодости)
Стукнул по карману, – не звенит:
как воздух.
Стукнул по другому, – не слыхать.
Как в первом…
В коммунизм – таинственный зенит
как в космос,
полетели мысли отдыхать,
как птички.
Но очнусь и выйду за порог,
как олух.
И пойду на ветер, на откос,
как бабка,
о печали пройденных дорог,
как урка,
шелестеть остатками волос,
как фраер…
Память отбивается от рук,
как дура.
Молодость уходит из-под ног,
как бочка.
Солнышко описывает круг,
как сука, –
жизненный отсчитывает срок…
Как падла!
«Ты называешь солнце блюдом…»
Валентину Горшкову
Ты называешь солнце
блюдом…
Оригинально. Только зря:
с любою круглою посудой
Светило
сравнивать нельзя!
А если можно,
значит можно
и мне,
для свежести стишка –
твой череп,
сделанный несложно,
назвать…
подобием горшка!
«Поэт перед смертью сквозь тайные слезы…»
Поэт перед смертью
сквозь тайные слёзы
жалеет совсем не о том,
что скоро завянут надгробные розы,
и люди забудут о нём,
что память о нём –
по желанью живущих
не выльется в мрамор и медь…
Но горько поэту,
что в мире цветущем
ему
после смерти
не петь…
Поэт
Глебу Горбовскому
Трущобный двор.
Фигура на углу.
Мерещится, что это Достоевский.
И ходит холод ветреный и резкий.
И стены погружаются во мглу.
Гранитным громом
грянуло с небес!
Весь небосвод в сверкании и в блеске!
И видел я, как вздрогнул Достоевский,
как тяжело ссутулился, исчез.
Не может быть,
что это был не он!
Как без него представить эти тени,
и странный свет,
и грязные ступени,
и гром, и стены с четырех сторон?!
Я продолжаю верить в этот бред,
когда в своё притонное жилище
по коридору,
в страшной темнотище,
отдав поклон,
ведёт меня поэт…
Он, как матрос, которого томит
глухая жизнь в задворках и в угаре.
– Какие времена на свете, Гарри!..
– О! Времена неласковые, Смит…
В моей судьбе творились чудеса!
Но я клянусь
любою клятвой мира,
что и твоя освистанная лира
ещё свои поднимет паруса!
Ещё мужчины будущих времён,
(да будет воля их неустрашима!) –
разгонят мрак бездарного режима
для всех живых и подлинных имён!
…Ура, опять ребята ворвались!
Они ещё не сеют и не пашут.
Они кричат,
они руками машут!..
Они как будто только родились!
Они – сыны запутанных дорог…
И вот,
стихи, написанные матом,
ласкают слух отчаянным ребятам,
хотя, конечно, всё это – порок!..
Поэт, как волк, напьётся натощак,
и неподвижно,
словно на портрете,
всё тяжелей сидит на табурете.
И все молчат, не двигаясь никак…
Он говорит,
что мы – одних кровей,
и на меня указывает пальцем!
А мне неловко выглядеть страдальцем,
и я смеюсь,
чтоб выглядеть живей!
Но всё равно опутан я всерьёз
какой-то общей нервною системой:
случайный крик, раздавшись над богемой
доводит всех
до крика и до слёз!
И всё торчит:
в дверях торчит сосед!
Торчат за ним
разбуженные тётки!
Торчат слова!
Торчит бутылка водки!
Торчит в окне таинственный рассвет.
Опять стекло оконное в дожде.
Опять удушьем тянет и ознобом…
…Когда толпа
потянется за гробом,
ведь кто-то скажет: «Он сгорел… в труде».
Лесной хуторок(идиллия)
Я запомнил, как чудо,
тот лесной хуторок.
Хутор – это не худо:
это мир, не мирок!
Там, в избе деревянной,
без претензий и льгот,
так, без газа, без ванной
добрый Филя живёт.
Филя любит скотину,
ест любую еду.
Филя ходит в долину,
Филя дует в дуду!
Мир такой справедливый,
даже нечего крыть…
– Филя, что молчаливый?
– А о чём говорить?..