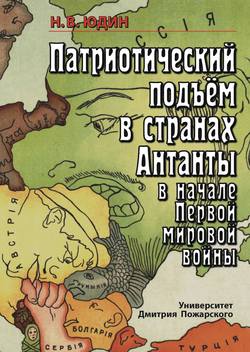Читать книгу Патриотический подъем в странах Антанты в начале Первой мировой войны - Николай Юдин - Страница 2
Введение
Оглавление28 июля 1914 года Австро-Венгрия объявила войну Сербии. Так началась Первая мировая война, не обошедшая стороной ни одну из великих держав. Не будет преувеличением сказать, что Первая мировая война явилась одним из ключевых, поворотных моментов в мировой истории[1]. Ее переломный характер ясно сознавался многими современниками, для которых именно она осталась навсегда «Великой войной». «Они лучше, чем мы, ощутили ее пороговый, катастрофический характер. Именно она разорвала культурно-историческую континуальность цивилизации и миропорядка»[2]. Однако подобное видение места Первой мировой войны – как водораздела – на долгое время ушло в тень, забылось, будучи заслоненным новыми потрясениями – Октябрьской социалистической революцией в России, Второй мировой войной – и их последствиями. В итоге колоссальное, многообразное и противоречивое воздействие, которое Первая мировая война оказала на последующее развитие европейских государств и западного общества в целом, остается еще во многом неизученным. В то же время, без изучения этого воздействия невозможно правильно понять и оценить ни современные социальные процессы, ни современные международные отношения.
Чтобы приблизиться к пониманию уникального места Первой мировой войны в судьбах западной цивилизации, уловить ее ускользающий образ, представляется необходимым присмотреться к тому отпечатку, который она наложила на мировоззрение людей «поколения 1914 года», попытаться воссоздать из тысяч противоречивых оценок, мнений и свидетельств атмосферу, царившую в великих европейских державах в тот период.
В этом отношении уникальные перспективы открывает изучение начала Первой мировой войны: экстремальная ситуация резкого перехода от мира к войне стала временем острого переживания и определения «себя» народами Европы, напряженной переоценки ими своих коллективных ценностей и идентичностей. Наиболее ярким проявлением этой чрезвычайно наэлектризованной атмосферы, «настроения 1914 года», стал патриотический подъем, широкой волной прокатившийся по всем воюющим державам. Именно изучению патриотического подъема в странах, входивших в один из противоборствующих блоков великих держав – Антанту, и посвящено данное исследование.
Обращение к анализу социально-психологического опыта обществ стран Антанты представляется особенно интересным, так как в результате сложных перипетий политической игры европейских кабинетов и неумолимой логики блокового размежевания, данный военно-политический союз объединил страны, которые, на первый взгляд, не имели между собой практически ничего общего. Российская империя принадлежала к «традиционным» империям и, по мнению ряда современных исследователей, ее следовало включать в макросистему «континентальных» или «территориально протяженных» империй, в которую помимо нее входили также Германская, Австро-Венгерская и Османская империи[3]. Отличительными чертами этой макросистемы были иерархичность и консерватизм внутриполитического устройства, большая роль религии в рамках государственной идеологии, антидемократизм. Англия и Франция же причисляются к «модерным», колониальным империям. В процессе исторического развития в этих империях сложилась своеобразная структура, предполагавшая наличие в качестве метрополии гомогенного национального ядра: государства с демократической формой правления, представительными институтами, идеей народного суверенитета – и подчиненной периферии, отделенной от метрополии «большой водой». Это последнее обстоятельство позволяло колониальным империям сохранять на периферии традиционные, репрессивные формы колониальной эксплуатации, проводя либеральные реформы в метрополии[4].
Как отмечает А. И. Миллер, «еще недавно в историографии существовала практически непроницаемая мембрана между континентальными империями, которые было принято описывать как “традиционные”, и морскими империями»[5]. Сегодня всё больше утверждается точка зрения, что их жесткое противопоставление не правомерно. Морские модерные империи сохраняли множество черт традиционного порядка, что особенно проявлялось в сфере колониального управления[6], одновременно континентальные государства демонстрировали тенденции к модернизации, приспосабливанию к вызовам времени.
Одним из главных направлений этой модернизации (помимо политического и экономического) стало развитие процессов национального строительства. Столкнувшись в конце XIX века с кризисом традиционных способов легитимации правящих режимов через религиозную и династическую лояльность, континентальные империи, в частности империя Романовых, стали искать пути к большей консолидации территорий, гомогенизации населения и управления, вставая тем самым на путь строительства национальных государств[7].
В данном исследовании выдвигается гипотеза, что именно исторически длительные процессы складывания национальных идентичностей играли ключевую роль в формировании коллективных представлений и способов самоидентификации во всех европейских обществах рассматриваемого периода. Это не значит, что представления о национальной идентичности были единственными, определявшими их самовосприятие; они сосуществовали и взаимодействовали с другими разнообразными идентичностями, как индивидуальными, так и коллективными (политическими, религиозными и т. д.). Однако их распространение являлось общей тенденцией. Первая мировая война подвела своеобразный итог процессам национального строительства во всех великих империях, со всей очевидностью продемонстрировала его особенности в каждой из стран и вынесла окончательный вердикт усилиям традиционных монархий на этом поприще.
Сформулированная гипотеза неизбежно ставит задачу определения понятий «нация» и «национализм». Несмотря на то, что проблемы, связанные с межнациональными отношениями и конфликтами, национальным самоопределением, и на современном этапе развития международных отношений остаются одними из наиболее актуальных и злободневных, какого бы то ни было устоявшегося определения этих понятий в науке не существует. Выдвигаются самые разнообразные теории и концепции относительно природы и сущности феномена «нация», его связи с проблемами этничности, причин и этапов складывания национального самосознания. Из всего многообразия трактовок и определений понятия «нация» можно выделить несколько крупных течений или направлений. Одним из наиболее распространенных является так называемый «объективистский» подход. Его сторонники считают нацию объективной реальностью, реально существующей общностью людей, которая зародилась под воздействием целого ряда факторов (экономических, социальных, географических и т. д.) Ярким примером объективистского подхода к определению нации является марксизм. В советской историографии долгое время «классическим» считалось определение «нации», данное в свое время И. В. Сталиным в работе «Марксизм и национальный вопрос»: «Нация есть исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры… Только наличие всех признаков, взятых вместе, дает нам нацию»[8]. Сталинское определение «нации» оказало большое влияние на развитие теоретических разработок советских (и не только) социологов, этнологов и историков.
Против объективистского подхода выступили конструктивисты. Конструктивисты утверждают, что действия государства на международной арене предопределяются теми коллективными представлениями и способами самоидентификации, которые составляют его социальную структуру, характеризуют его общество. Иными словами, чтобы понять специфику развития той или иной системы международных отношений, необходимо обратиться к анализу коллективных представлений, которые были присущи государствам, входившим в эту систему[9]. Формирование этих представлений происходит в процессе сложного взаимодействия и кодетерминации объективных и субъективных, долгосрочных и конъюнктурных факторов, с одной стороны, и их восприятием, оценкой и интерпретацией современниками – с другой[10].
С точки зрения конструктивизма, нация – не объективная реальность, а социальная конструкция, искусственное образование, результат целенаправленного конструирования представителями интеллектуальных и политических элит[11]. Крайним проявлением конструктивистского подхода к определению нации является концепция современного ученого, политолога и социолога Б. Андерсона: нация – это «воображенное политическое сообщество, и воображается оно как что-то неизбежно ограниченное, но в то же время суверенное»[12]. В этом духе феномен нации рассматривают в своих работах многие современные историки[13]. Согласно этой концепции, именно воображение выступает в качестве скрепляющего нацию материала – в умах представителей любой нации живет идея о существовании и принадлежности к некой общности, ограниченной и противопоставленной другим подобным общностям. В значительной неопределенности предложенных формулировок кроется объяснение их универсальности: они позволяют расширительно трактовать в качестве наций даже очень неоднородные в культурном и этническом отношении сообщества людей. В то же время, определение нации, данное Б. Андерсоном, не лишено недостатков, главным из которых является пренебрежение к роли материальных факторов, граничащее с отрицанием существования объективных оснований для зарождения национального самовосприятия.
Попыткой примирения этих двух диаметрально противоположных подходов к определению нации (объективистского и конструктивистского) является умеренно-конструктивистская концепция М. Хроха. Он определяет нацию как «большую социальную группу, цементируемую не одним, а целой комбинацией нескольких видов объективных отношений (экономических, политических, языковых, культурных, религиозных, географических, исторических) и их субъективным отражением в коллективном сознании»[14]. Главным достоинством концепции М. Хроха является то, что в ней равным онтологическим статусом наделяются и социально-экономические, объективные, факторы, и факторы субъективные, связанные с коллективными ценностями, способами самоидентификации той или иной социальной общности. Подобный подход открывает широкие перспективы для действительно всестороннего анализа феномена «нация».
Что же касается понятия «национализм», то здесь большой интерес представляют взгляды выдающегося историка-марксиста Э. Хобсбаума, который определял его как принцип, согласно которому для населения того или иного государства политический долг по отношению к этому (национальному) государству является самым важным, требующим в экстренных случаях подчинения себе всех прочих общественных обязанностей[15]. С этой точки зрения патриотический подъем в странах Антанты в начале Первой мировой войны является ярким и однозначным проявлением национализма в действии.
Данные определения нации и национализма являются лишь общеметодологическим каркасом, задающим самое общее направление для последующего исследования. Дело в том, что теоретические работы по национализму в той или иной мере стремятся дать ему некое универсальное определение, осмыслить с позиций современности. При таком подходе теряется понимание конкретно-исторической специфики национализма, характерной для разных исторических периодов и разных стран. Но, как убедительно показал в своем исследовании французский историк Р. Жирарде, только во Франции в период с 1871 по 1914 год термин «национализм» неоднократно менял свои содержание и смысл самым кардинальным образом: от ассоциирования с принципами Великой французской революции и республиканизма до воплощения антиреспубликанизма и реакции[16]. Поэтому, на наш взгляд, говоря о национализме, нельзя ограничиваться общими, тяготеющими к универсальности, его определениями: национализм – это историческое понятие, его конкретное смысловое наполнение должно основываться на анализе реалий изучаемого периода и изучаемой страны.
Можно заключить, что патриотический подъем представляет собой внешнюю манифестацию, результат чрезвычайно сложных, противоречивых процессов выработки коллективной самоидентификации обществ, столкнувшихся с внешней угрозой. Патриотический подъем можно определить как ситуацию, когда патриотизм, чувство любви к родине превращаются в безусловные, абсолютные ценности, подчиняющие себе или подавляющие все другие ценности и способы самоопределения, а интересы коллектива, общества в целом, однозначно трактуются как превалирующие над интересами личности или отдельной социальной группы.
Патриотический подъем находил свое выражение в сфере общественного мнения, что неизбежно влечет дальнейшее расширение комплекса методологических проблем, которые встают перед исследователем «человеческого измерения» мировой войны. Несмотря на то, что феномен общественного мнения неоднократно становился предметом исследования в рамках социологии и истории[17], устоявшегося общепринятого его определения не существует.
Один из подходов к изучению общественного мнения, названный морализующе-нормативным, был впервые выдвинут немецким философом Ю. Хабермасом. Суть его сводится к тому, что публика, формирующая общественное мнение, это не масса, не народ, а представители образованных слоев населения, элита. Именно они имеют возможность резонёрствовать в представительных учреждениях и на страницах прессы, считая себя выразителями настроений всего общества[18]. На первый взгляд, методологическая концепция Ю. Хабермаса идеально подходит для изучения состояния общественного мнения в европейских странах во время Первой мировой войны. Как отмечает в своей работе, посвященной немецкому обществу в начале войны, М. Залевски, «мы имеем дело исключительно со сливками типичной интеллектуальной культуры и только с обнародованным, но не обязательно общественным мнением… Что касается последних недель кануна войны 1914 года, когда были приняты самые важные решения, массовые источники об отношении к этому общества отсутствуют»[19]. Это замечание в полной мере применимо и к странам Антанты. Получается, что сами источники, имеющиеся в распоряжении современных исследователей, вынуждают их работать в первую очередь с мнением элиты общества. Однако опираться в исследовании исключительно на эту элитистскую трактовку общественного мнения – значит сознательно закрывать глаза на очевидную многогранность и неоднозначность данного феномена.
Целесообразнее трактовать общественное мнение более широко, не сводить его исключительно к мнению, выраженному на страницах средств массовой информации и в парламентских прениях. В этом отношении исключительно справедливым представляется замечание, высказанное Ю. Ю. Хмелевской: «Любые экстремальные обстоятельства, а массовые вооруженные конфликты в особенности, неизбежно вызывают состояние крайней напряженности в психологическом климате общества. В реакции на сложную ситуацию можно явственно выделить два уровня: “эмоциональный”, фиксируемый преимущественно в вербальных формах и оценочных суждениях, и “функциональный”, проявляющийся в поступках и социальном поведении»[20]. Средства массовой информации выражают, прежде всего, «эмоциональный» уровень реакции, но они же могут служить источником для оценки «функционального» уровня, фиксируя различные формы массовых выступлений: антивоенные митинги, парады, патриотические шествия, погромы и т. д. Поразивший современников порядок при мобилизации в Российской империи, очереди добровольцев перед рекрутскими участками в Англии, отказ французских социалистов от призывов к всеобщей забастовке и поддержка ими военных усилий своего правительства представляют собой не что иное, как явления общественного мнения, выражения патриотического подъема, своего рода «плебисцит» в пользу войны[21].
При рассмотрении общих концепций общественного мнения отдельного упоминания заслуживает оригинальная теория «спирали молчания», которую сформулировала немецкая исследовательница Э. Ноэль-Нойман. По ее мнению, существует два источника, порождающих общественное мнение. Первый – это непосредственное наблюдение за окружающим, улавливание, одобряются ли те или иные действия, явления, заявления и т. п. Второй источник – средства массовой информации. Э. Ноэль-Нойман утверждает, что «общественное мнение базируется на бессознательном стремлении людей, живущих в некотором сообществе, прийти к общему суждению, к согласию»[22]. Люди, несогласные с общепринятыми взглядами, озвучивая свою позицию, рискуют подвергнуться общественному осуждению. Страх перед остракизмом сковывает волю несогласных, заставляет их молча подчиняться воле большинства, порождая «спираль молчания». И наоборот, люди, уверенные в том, что их позиция встретит всеобщее одобрение, склонны выражать ее публично, тем самым только укрепляя существующие ценности и взгляды. Таким образом, сила авторитета общественного мнения обусловлена его опорой на большинство. Общественное мнение является эффективным средством социального контроля и консолидации общества, что приобретает особое значение в условиях войны.
Концепция Ноэль-Нойман дает также ключ к пониманию механизмов формирования консенсуса в обществе: консенсус может быть основан как на искреннем воодушевлении широких слоев населения, так и на сознательном или бессознательном конформизме определенной части общества. Уже здесь содержится указание на то обстоятельство, что общественное мнение является сложносоставным явлением, включает в себя как мнения публично заявленные, так и мнения неартикулированные, остающиеся по тем или иным причинам в тени, вне поля зрения средств массовой информации и сторонних наблюдателей.
Эту мысль предельно четко сформулировал современный французский исследователь П. Лабори, который утверждает, что следует говорить не об «общественном мнении» в той или иной стране в тот или иной период, а об «общественных мнениях»[23]. Употребление формы единственного числа представляет собой заманчивое, но опасное обобщение: при таком подходе мы волей-неволей ставим одно из мнений, характеризовавших картину настроений в обществе в конкретный момент времени, выше остальных. Это обобщение, следовательно, ведет к сознательному обеднению чрезвычайно сложного и неоднозначного исторического феномена. В действительности, разнообразные общественные настроения сосуществуют параллельно, отражая социальную, политическую, образовательную, религиозную и т. д. неоднородность любого общества. Лишь в экстремальных случаях, к каковым несомненно относится начало Первой мировой войны, когда все общественные слои сталкиваются с одной глобальной проблемой или угрозой, на смену разноголосице и органическому плюрализму мнений приходит некая согласованность, формируется консенсус. Только тогда уместно говорить об общественном мнении как о чем-то сравнительно едином, монолитном.
Таким образом, можно дать следующее определение понятию «консенсус»: консенсус – это согласованность (добровольная или вынужденная, осознанная или бессознательная) множества общественных мнений, составляющих картину настроений в обществе, по тому или иному вопросу внутренней или внешней политики. Это позволяет дополнить данное выше определение патриотического подъема пониманием его как явной манифестации общественного консенсуса.
Особенно хотелось бы подчеркнуть характеристику консенсуса как возможно вынужденного согласия всех слоев и классов общества. Из нее следует, что консенсус вовсе не означал полного исчезновения оппозиции, противоречий и конфликтов. Скорее, речь идет об исчезновении или радикальном ослаблении публичной оппозиции, нежелании ее представителей конфликтовать с ярко выраженным и однозначным мнением большинства[24].
Наконец, важно отметить, что консенсус представляет собой неестественное состояние общественного мнения (мнений) и может существовать лишь ограниченный период времени. Это наблюдение прекрасно иллюстрирует пример европейских обществ во время Первой мировой войны. Начало процессу интенсивного складывания общественного консенсуса по вопросу о войне и одновременно широкому подъему патриотических чувств в странах Антанты положили события Июльского кризиса 1914 года. Именно в ходе Июльского кризиса заявили о себе особенности внутриполитической ситуации в каждой из стран, задавшие границы и определившие характерные черты патриотического подъема в последующие месяцы, проявилась специфика положения и роли СМИ в той или иной стране. Однако этот миг всеобщего воодушевления, сплочения перед лицом внешней угрозы был недолгим. Уже к маю 1915 года заявила о себе прямо противоположная тенденция. И современники, и исследователи отмечают, что весна 1915 года характеризовалась кардинальным изменением в отношении к войне со стороны правящих элит и широких слоев общества в странах Антанты. Военный энтузиазм первых месяцев войны всё больше уходил в прошлое, перед воюющими государствами всё острее вставали проблемы поддержания внутренней стабильности. И в России, и в Англии, и во Франции разворачиваются процессы постепенной эрозии общественного консенсуса по вопросу о войне.
Сказанное выше не означает, что общественный консенсус по вопросу о войне и основанный на нем патриотический подъем в странах Антанты уже весной 1915 года окончательно и бесповоротно ушли в прошлое. Скорее, можно говорить о том, что к весне 1915 года они прошли пик своего развития, в полной мере проявились их специфические черты в каждом из рассматриваемых государств. Как следствие, изучение общественных настроений в странах Антанты именно в этот сравнительно ограниченный отрезок времени (июль 1914 – май 1915 года), на который во всех воюющих обществах приходятся наиболее характерные и яркие проявления патриотического подъема и общественного консенсуса, представляется особенно важным потому, что не только дает возможность проанализировать процесс складывания консенсуса по вопросу о войне и проследить внутреннюю эволюцию в отношении населения к войне, но и позволяет приблизиться к пониманию мировоззрения людей той эпохи в целом, что, в свою очередь, может послужить отправной точкой для изучения современных проблем мировой политики.
Обращение к проблематике «человеческого измерения» Первой мировой войны не только ставит перед историками чисто методологические трудности, но и предъявляет особые требования к Источниковой базе исследования. Главная проблема, с которой сталкиваются в этом отношении все ученые, связана с определением и подбором источников, которые бы позволяли воссоздать картину реакции населения воюющих держав на события 1914–1918 годов, учитывая, что социологических опросов в тот период не проводилось ни в одной из великих держав[25]. К тому же отмечается целый ряд дополнительных трудностей: необходимость учитывать заведомо ошибочные или ангажированные мнения[26], наличие разного рода оппозиционных мнений[27], разница в восприятии событий представителями разных социальных, политических, этнических и гендерных групп населения[28].
Решение этой проблемы видится в привлечении максимально широкого и разнообразного круга исторических источников. Источники, использованные при работе над данной монографией, можно условно разделить на несколько групп. В первую группу следует отнести неопубликованные документы отечественных и зарубежных архивов, многие из которых вводятся в научный оборот впервые. Особого упоминания заслуживают материалы французских архивов, ознакомиться с которыми автору удалось во время стажировки в Париже, организованной историческим факультетом и кафедрой новой и новейшей истории исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Прежде всего, речь идет о документах французского Министерства внутренних дел, которые хранятся во французском Национальном архиве и представлены донесениями префектов, сводками МВД о настроениях различных групп населения, прежде всего политически неблагонадежных, вырезками из газет[29]. Данные документы рисуют картину неоднозначной и болезненной реакции французского общества, особенно левых – социалистов и анархистов, – на начало мировой войны. Тем самым документы МВД позволяют оценить границы национального консенсуса, установившегося в конце 1914 года во французском обществе.
Широко привлекались документы из архива французского Министерства иностранных дел[30]. В поле зрения французских дипломатов находился широкий круг вопросов, связанных со взаимоотношениями с союзниками по Антанте, внутриполитической обстановкой и настроениями населения в этих странах.
Отечественные неопубликованные документы представлены материалами крупнейших российских архивов. Так, в Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ) содержится целый ряд материалов, проливающих свет на внутриполитическую обстановку в Российской империи в годы Первой мировой войны. Особый интерес представляют разнообразные документы Министерства внутренних дел: ведомственные циркуляры, отчеты сотрудников полиции и жандармских чинов, распоряжения по организации контрразведывательной деятельности, наблюдению за социалистами, рабочими, крестьянами[31]. В поле зрения сотрудников МВД попадали самые разные вопросы: от проведения мобилизации на местах до наблюдения за различными благотворительными организациями.
Специального упоминания заслуживают документы V отделения Особого отдела Департамента полиции МВД, представляющие собой перлюстрацию писем подданных Российской империи, объединенные в дела по хронологическому принципу[32]. Тысячи писем из всех уголков Российской империи, написанные представителями различных социальных групп, дают объемную и противоречивую картину реакции населения на начало новой войны и участия в ней России. Говоря о репрезентативности выборки, сделанной в свое время сотрудниками Особого отдела, следует подчеркнуть, что в нее попадали отнюдь не только письма лиц, признанных политически неблагонадежными. Среди перлюстрированных писем встречаются и те, авторами которых выступали видные чиновники, и те, чье содержание проникнуто духом верности царю и империи. То, что они привлекли внимание Особого отдела, объясняется интересом МВД к состоянию общественного мнения и отношению населения к началу войны.
Ценным источником сведений об общественных настроениях в Англии и Франции накануне и в начале Первой мировой войны служат материалы Архива внешней политики Российской империи (АВПРИ), прежде всего телеграммы русских послов в Париже и Лондоне[33] и обзоры иностранной печати, подготовленные сотрудниками МИДа[34].
О положении дел в союзных державах позволяют также судить донесения военных агентов в Париже и Лондоне, проходившие через канцелярию генерал-квартирмейстера Главного управления Генерального штаба и хранящиеся в Российском государственном военно-историческом архиве (РГВИА)[35].
Помимо архивных материалов, в работе использовались и опубликованные дипломатические и партийные документы и стенограммы заседаний представительных органов в Англии, Франции и
Российской империи[36]. Данные источники позволяют изучить мировоззренческие установки различных групп политических элит, проанализировать специфические черты их реакции на начало боевых действий, особенности патриотического подъема и консенсуса по вопросу о войне в странах Антанты.
Следующую крупную группу источников составили материалы средств массовой информации, представленные, главным образом, публикациями наиболее влиятельных, близких к правящим кругам ежедневных газет: «Новое время», «The Times», «Le Temps», «Le Figaro», «Le Matin» и другие. Обращение к материалам официозной прессы открывает перспективы для изучения особенностей пропаганды в странах Антанты периода Первой мировой войны, коллективных ценностей и идентичностей, лежавших в ее основе. Особенности настроений и мировоззрения политической элиты Англии позволяют оценить публикации авторитетных либеральных английских журналов «The Contemporary Review»[37], «The Economist»[38] и «The Fortnightly Review»[39]. С содержательной точки зрения к материалам средств массовой информации вплотную примыкают и источники, представленные различными пропагандистскими памфлетами и брошюрами[40].
Наконец, в данном исследовании был привлечен большой массив мемуаров политиков, дипломатов, генералов и военачальников, офицеров, солдат, представителей интеллигенции (поэтов, писателей, журналистов, философов), крестьян и рабочих[41]. Они позволяют не только воссоздать сложную и неоднозначную картину реакции современников на начало Первой мировой войны, но и изучить динамику изменений общественных настроений в странах Антанты.
Каждая из указанных групп источников (за исключением разве что ряда архивных материалов) по отдельности уже не раз использовалась в исследованиях, посвященных тем или иным аспектам истории Первой мировой войны, в том числе ее «человеческому измерению». Новизна данной работы заключается в том, что она представляет собой первую попытку провести на основе компактного в хронологическом отношении сюжета и современных методологических подходов анализ всех этих групп источников в их системной взаимосвязи. О новизне предлагаемого исследования говорит и тот факт, что к настоящему моменту как в отечественной, так и в зарубежной историографии отсутствует комплексное исследование феномена патриотического подъема во всех трех странах Антанты во время Первой мировой войны, притом что сама по себе эта проблематика характеризуется наличием целого ряда остро дискуссионных вопросов.
Еще в 30-е годы XX века французский историк П. Ренувен сформулировал проблему моральной подготовленности населения великих держав в 1914 году к большой войне[42]. По его мнению, активное обсуждение в прессе гонки вооружений и полемика вокруг новых военных законов не только порождали у современников чувство тревоги, но и укрепляли в их сознании идею о перспективе скорой войны[43]. Он также поставил вопрос о влиянии общественных настроений в той или иной стране Антанты на процесс формирования ее внешнеполитического курса, отметив специфические черты, присущие публичной сфере каждой из трех держав[44].
Во многом поворотным с точки зрения разработки подходов к изучению «человеческого измерения» Первой мировой войны стал 1977 год. Именно тогда вышло фундаментальное исследование французского историка Ж.-Ж. Беккера, посвященное реакции французского общества на начало Первой мировой войны[45]. С этого момента изучение «человеческого измерения» войны становится полноправным и независимым направлением в западной историографии. Опираясь на широкий массив архивных документов и материалов прессы, Ж.-Ж. Беккер продемонстрировал сложность и неоднозначность отношения французов к разразившейся войне, поставил вопрос о разнице в восприятии событий лета 1914 года представителями различных социальных, политических, возрастных групп. Он решительно выступил против традиционной точки зрения, согласно которой патриотический подъем, энтузиазм были основными формами реакции обществ на начало Первой мировой войны[46]. По мнению Ж.-Ж. Беккера, война явилась для подавляющего большинства людей той эпохи полной неожиданностью и вызвала в первую очередь чувства подавленности, страха и тревоги[47].
Комплекс вопросов, связанных с реакцией людей «поколения 1914 года» на мировую войну и «человеческим» измерением этого конфликта, стал предметом оживленных дискуссий в 1980—1990-х годах. В работах этого периода был подробно освещен широкий круг проблем: влияние внутриполитических и социальных конфликтов на мировоззрение людей той эпохи, значение гонки вооружений и экономических факторов в определении взглядов правящих кругов, отношение к войне различных социальных, политических, гендерных и возрастных групп населения; много внимания уделено изучению особенностей пропаганды военного времени и мобилизации общественных настроений[48]. Одновременно обнаружилась тенденция к своего рода «нормализации» и «банализации» социального и психологического опыта 1914 года[49]. Так, Дж. М. Уинтер пишет, что ничего необычного в реакции населения стран Антанты на начало войны не было, и, например, наплыв добровольцев в армию в Англии полностью объяснялся традиционным комплексом причин: стремлением к приключениям, престижем военной формы, перспективой неплохого заработка, альтруизмом[50]. Говоря о ситуации в континентальных странах, Дж. М. Уинтер пишет, что призыв в армию там являлся привычным явлением и то, что он прошел успешно, следовательно, не показатель популярности войны, а результат обыденности этого явления[51]. Но вряд ли стоит говорить, что призыв в армию в мирное время сильно отличается от призыва во время войны.
Отмеченная выше тенденция получила дальнейшее развитие в новейших исследованиях. Всё чаще начинает ставиться под вопрос сам факт существования патриотического подъема как широкого общественного настроения[52]. Историки начинают писать о «мифе 1914 года». Большой резонанс имела монография Дж. Вери, посвященная реакции населения Германии на начало войны. Дж. Вери трактует различные функциональные проявления патриотического подъема в Германии (митинги, шествия, пение гимна) как формы карнавальной культуры и традиции[53]. Начало войны, по его мнению, стало моментом, когда перестали действовать традиционные социальные ограничители, люди могли позволить себе то, что было обычно запрещено, осуждалось обществом как нарушение порядка и приличий, и в этом отношении напоминало карнавал. Таким образом, энтузиазм 1914 года имел лишь косвенное отношение к войне: это была возможность выпустить пар, пошуметь, попеть песни, почувствовать себя частью коллектива[54]. По мнению Дж. Вери, энтузиазм 1914 года там, где он был зафиксирован, вовсе не обязательно носил милитаристский или патриотический характер.
Подобный подход представляется интересным в методологическом плане, так как ставит совершенно новый вопрос: а что на самом деле скрывается за манифестациями и митингами, отмеченными в великих державах в начале войны? Однако концепция Дж. Вери чревата искажением оценки связи начала военных действий с мировоззрением современников. Если видеть в энтузиазме, подъеме общественных настроений в 1914 году лишь возбуждение от переживания значительных событий, радость временного освобождения от гнета социальных условностей и ограничений[55], то теряется понимание более глубокой социальной и психологической обусловленности «феномена 1914 года».
Можно отчасти согласиться с отечественным исследователем А. И. Миллером, который пишет о формировании «обслуживающего Европейское Сообщество исторического мифа о европейском единстве»[56]. Это, возможно, излишне категоричное утверждение верно в том отношении, что тенденция к «нормализации» опыта 1914 года действительно ведет к сглаживанию противоречий между европейскими государствами накануне Первой мировой войны, нивелированию роли национализма в формировании мотивации ее рядовых участников. Война предстает лишь как следствие политических просчетов, дипломатической игры европейских кабинетов, в лучшем случае – как результат специфического мировоззрения лидеров великих держав[57]. Что же касается широких слоев населения, то их реакция оказывается при таком подходе исключительно пассивной, конформистской. Отрицается существование или сколько-нибудь широкое распространение сознательной и деятельной поддержки современниками начала войны.
В отечественной историографии периодом активного изучения «человеческого измерения» Первой мировой войны стали конец 1990-х – 2000-е годы.[58]. Стабильно растет число диссертационных исследований, посвященных этой проблематике[59]. Появился целый ряд сборников статей и монографий, подготовленных Российской ассоциацией историков Первой мировой войны и Институтом всеобщей истории Российской академии наук[60]. О морально-психологической атмосфере в европейских обществах накануне Первой мировой войны пишут, с опорой на донесения русских военных агентов, Е.Ю. Сергеев и Ар. А. Улунян[61]. Много внимания изучению реакции населения стран Антанты на события Первой мировой войны, анализу патриотического подъема и консенсуса, установившихся в этих странах, уделяют А. В. Ревякин[62], Б. И. Колоницкий[63], А.Ю. Прокопов[64], С. В. Тютюкин[65], Е.С. Сенявская[66], В. В. Миронов[67], С. Н. Базанов[68]. К 100-летию со дня начала Первой мировой войны было опубликовано фундаментальное исследование, подготовленное сотрудниками исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова «Первая мировая война и судьбы европейской цивилизации»[69]. В российской науке указанная проблематика является сравнительно новым, молодым направлением исследований, в котором еще не сложилось четко оформленных школ. Внимание ученых привлекают вопросы политической культуры правящей элиты империи Романовых, государственной идеологии и национальной политики, партийной борьбы и менталитета самых широких слоев населения[70].
С точки зрения изучения последней проблемы отдельного упоминания заслуживают работы О. С. Поршневой[71]. На базе широкого привлечения архивных источников, в том числе региональных, она воссоздает сложную картину отношения российских крестьян и рабочих к разразившейся войне[72]. Выводы О. С. Поршневой имеют большое значение для темы данного исследования, поскольку позволяют оценить границы патриотического подъема в Российской империи, его эмоциональное и функциональное проявления в городе и деревне.
Таким образом, отмеченные дискуссии вокруг самого факта существования патриотического подъема в начале войны недвусмысленно говорят о необходимости дальнейшего изучения данной проблемы, а сравнительный анализ опыта трех стран позволяет сделать это на качественно новом уровне. Только через сравнение и сопоставление социально-психологического опыта населения великих держав, в данном случае – стран Антанты, – в начале Первой мировой войны можно приблизиться к пониманию природы так называемого «настроения 1914 года», ответить на вопрос о сущности и масштабах патриотического подъема в рассматриваемый период. Для этого представляется необходимым рассмотреть несколько взаимосвязанных сюжетов: проанализировать процесс складывания общественного консенсуса по вопросу о войне в странах Антанты; выявить общие тенденции в этом процессе и его специфические черты в каждой из рассматриваемых стран; изучить роль средств массовой информации в поддержании патриотического подъема; проанализировать ключевые сюжеты, мотивы и образы пропаганды; проследить внутреннюю эволюцию отношения населения к войне в 1914 – первой половине 1915 года.
В заключение хотелось бы сказать, что предпринятое исследование представляет интерес не только как чисто историческое; оно затрагивает целый комплекс проблем, связанных с определением места и роли социальных и идеологических факторов в формировании внешнеполитических курсов государств и определении специфики международных отношений в тот или иной период времени, который не только не потерял своей значимости в настоящий момент, но и, наоборот, начинает привлекать всё большее внимание политологов и ученых-международников. Изучение под этим ракурсом событий, связанных с началом Первой мировой войны, открывает перспективы для углубления и совершенствования методологии исследований современных международных отношений.
1
Виноградов В.Н. 1914 год: быть или не быть войне? // Последняя война Российской империи: Россия, мир накануне, в ходе и после Первой мировой войны по документам российских и зарубежных архивов. Материалы международной научной конференции 7–8 сентября 2004 г. М., Наука: 2006. С. 161.
2
Солонин Ю. Н. Опыт войны: от впечатления к метафизике // Первая мировая война: история и психология. (Материалы Российской научной конференции 29–30 ноября 1999 г.) СПб., 1999. С. 7.
3
Миллер А. И. Империя Романовых и национализм: эссе по методологии исторического исследования. М., 2008. С. 33; Суни Р.Г. Империя как она есть: имперский период в истории России, «национальная» идентичность и теории империи // Национализм в мировой истории. М., 2007. С. 43.
4
Суни Р. Г. Указ. соч. С. 44.
5
Миллер А. И. Указ. соч. С. 49.
6
См. подробнее: Cannadine D. Ornamentalism. How the British Saw Their Empire. Oxford, 2001.
7
Миллер А. И. Указ. соч. C. 44; Суни P. Г. Указ. соч. C. 43.
8
Сталин И. В. Марксизм и национальный вопрос // Сталин И. В. Марксизм и национальный вопрос. М., 1959. С. 10.
9
Wendt A. Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics // International Relations. Vol. 46.1992. № 2. P. 396–407.
10
Kratochwil F., Ruggie J. G. International Organization: A State of the Art on an Art of the State // International Organization. Vol. 40. 1987. № 3. P. 770; Wendt A. The Agent-Structure Problem in International Relations Theory // International Organization. Vol. 41.1987. № 3. P. 349–366.
11
Геллнер Э. Нации и национализм. М., 1991. С. 23, 35.
12
Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М., 2001. С. 30.
13
Суни Р. Г. Указ. соч. С. 42.
14
Хрох М. От национальных движений к полностью сформировавшейся нации: процесс строительства наций в Европе // Нации и национализм. М., 2002. С. 122.
15
Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 года. СПб., 1998. С. 18.
16
Girardet R. Le nationalisme franqais, 1871–1914. Paris, 1966. P. 21.
17
Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб, 2001; Современная социальная теория: Бурдьё, Гидденс, Хабермас. Новосибирск, 1995; Луман Н. Власть. М., 2001; Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение: открытие спирали молчания. М., 1996.
18
Habermas J. The Structural Transformation of the Public Sphere. Cambridge, 1989. P. 56.
19
Залевски M. Немецкое общество и начало Первой мировой войны // Война и общество в XX веке. В 3 кн. Кн. 1. Война и общество накануне и в период Первой мировой войны М., 2008. С. 401.
20
Хмелевская Ю.Ю. Британия в 1914–1918 гг.: инструментализация предвоенного социально-психологического опыта «немилитаристской» нации // Война и общество (к 90-летию начала Первой мировой войны). Материалы межвузовской научной конференции. Самара, 10–11 декабря 2004 г. Самара, 2005. С. 151.
21
Фюре Ф. Прошлое одной иллюзии. М., 1998. С. 58.
22
Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение: открытие спирали молчания. М., 1996. С. 334.
23
Laborie Р. Opinion publique // Historiographies, И. Concepts et debats. Paris, 2001. P.805–807.
24
Ноэль-Нойман Э. Указ. соч. С. 334.
25
Ян X. Указ. соч. С. 121; Verhey J. The Spirit of 1914: Militarism, Myth, and Mobilization in Germany. Cambridge, 2006. P. 13.
26
Becker J.-J. 1914: Comment les Frangais sont entres dans la guerre. Paris, 1977.
P. 259.
27
Carroll M. E. French Public Opinion and Foreign Affairs, 1870–1914. New York, 1931. P.4.
28
Verhey J. Op. cit. P. 12; Joll J. The Origins of the First World War. New York, 1984.
P. 196.
29
Archives nationals [Далее – AN]. F. 7. 12495, 12911, 13055, 13074, 13195, 13333,13335—13337,13348,13349,13371,13571.
30
Archives du Ministere des affaires etrangeres [Далее – АМАЕ]. Correspondance politique et commerciale, 1896–1918. Guerre 1914–1918. Russie. Vol. 641, 757; Guerre 1914–1918. Grande Bretagne. Vol. 534–536; Guerre 1914–1918. Dossier general. Vol. 1–9; Correspondance politique et commerciale, 1896–1918. Nouvelle serie. Russie. Vol. 4, 22, 23, 42, 72; Correspondance politique et commerciale, 1896–1918. Nouvelle serie. Grande Bretagne. Vol. 21,22; Maison de la presse 1914–1928. Information, propagande.
31
Государственный архив Российской Федерации [Далее – ГАРФ]. Ф. 63. Оп. 34. Д. 1015; Ф. 58. Оп. 7. Д. 310–334, Оп. 9. Д. 317. Оп. 10. Д. 207; Ф. 217. On. 1. Д. 472, 1153,1154,1207; Ф. 219. On. 1. Д. 95, 96,108; Ф. 6281. On. 1. Д. 178.
32
Там же. Ф. 102. Оп. 265. Д. 967, 976–980, 992—1021; Ф. 102. Оп. 267. Д. 40.
33
Архив внешней политики Российской империи [Далее – АВПРИ]. Ф. 133. Оп. 470. 1913. Д. 118, 120, 132. Т. 1, Д. 216; 1914 г. Д. 8, 9 Т. 1–2., Д. 10, 59, 60, 356, 378; 1915 г. Д. 5,10; Ф. 138. Оп. 467.1912–1914 гг. Д. 323/327.
34
Там же. Ф. 139. Оп. 476.1914 г. Д. 587, 588.
35
Российский государственный военно-исторический архив [Далее – РГВИА]. Ф. 2000. On. 1. Д. 3434, 3436, 3375.
36
Историческое заседание Государственной думы 26 июля 1914 года. Хутор Тихорецкий, 1914; Государственная дума. Созыв IV. Стенографический отчет заседания 26 июля 1914 г. Пг., 1914; Протоколы центрального комитета и заграничных групп Конституционно-демократической партии. В 6 т. Т. 2–3. М., 1997–1998; Партии демократических реформ, мирного обновления, прогрессистов. 1906–1916. М, 2002; Партия «Союз 17 октября». Протоколы съездов, конференций и заседаний центрального комитета. В 2 т. Т. 2.1907–1915. М., 2000; Программные документы политических партий России в дооктябрьский период. М., 1991; Государственная дума. 1906–1917. Стенографические отчеты. Т. IV. М., 1995; Мировые войны XX века. В 4 кн. Кн. 2. Первая мировая война: Документы и материалы. М., 2002; Lowe C. J., Dockrill M.L. The Mirage of Power. British Foreign Policy 1902—14, Vol. 1. London, 1972; Parliamentary Debates. Official Report. House of Commons. Ser. V. Vol. 65–72. London, 1914–1915; Annales de la Chambre des deputes.il Legislature. Debats parlementaires. Session de 1914. T. 2. Paris, 1915.
37
The Contemporary Review. Vol. 103–104. 1913; Vol. 105–106. 1914; Vol. 107.
1915.
38
The Economist. Vol. 76–77.1913; Vol. 78–79.1914; Vol. 80.1915.
39
The Fortnightly Review. Vol. 93–94.1913; Vol. 95–96.1914; Vol. 97.1915.
40
Агнивцев Н.Я. Под звон мечей. Пг., 1915; А. Р. Вильгельм II – угроза гуманности и цивилизации. Киев, 1914; Андреев Л.Н. В сей грозный час. Пг., 1915; Бай де. Дело Вильгельма. М., 1915; Он же. Мировой германский вопрос. М., 1915; Он же. Нравоучения войны. М., 1915; Беляев А. А. По поводу современной войны. Сергиев Посад, 1915; Бешеный Вильгельм. М., 1914; Бутру Э. Германия и война. Пг., 1914; Викторов С. М. Вековая борьба славянства с миром германским. Киев, 1914; Вильгельм кровавый. История последних дней. М., 1914; Виноградов П.Г. Россия на распутье. М., 2008; Демчинский Б. Сокровенный смысл войны. Пг., 1915; Джурович Д. П. Немцы и славяне. Минск, 1916; Назаревский Б. Война за правду. Как началась великая европейская война? М., 1915; Быховский В. В. Немецкий страх перед «Русской опасностью». Как объясняют сами немцы истинные причины в ойны? М., 1914; Оссендовский А. М. Великое преступление. Пг., 1915; Резанов А. С. Немецкие зверства. Пг., 1915; Страхов П. Зло Германии и его религиозно-философские причины. М., 1915; Brailsford H.N. Belgium and “the Scrap of Paper”. London, 1915; Idem. The Origins of the Great War. London, 1914; Dontenville J. Apres la guerre. Les Allemagnes. Paris, 1915; Lanson G. Culture allemande, humanite russe. Paris, 1915; Wells H.G. The War that Will End War. London, 1914; Wettstein G. La crise europeenne. La guerre, ses causes, ses resultats, la Cour d’arbitrage, l’armistice, etc., au point de vue neutre et objectif. Lausanne, 1914.
41
Милюков П. H. Воспоминания. M., 2001; Савич H. В. Воспоминания. СПб., 1993; Сазонов С. Д. Воспоминания. Ми., 2002; Ллойд Джордж Д. Речи, произнесенные во время войны. Ми., 2003; Игнатьев А. А. Пятьдесят лет в строю. Т. 2. М., 1955; Пуанкаре Р. На службе Франции. Воспоминания. Мемуары. Ми., 2002; Палеолог М. Царская Россия накануне революции. М., 1991; Берти Ф. За кулисами Антанты. Дневник британского посла в Париже. М., 1927; Эррио Э. Из прошлого. М., 1958; Арамилев В. В дыму войны. М., 1930; Черкасов И.Т., Костерин А.Е. Повесть о простых людях. М., 1957; Пирейко А. В тылу и на фронте империалистической войны. Л., 1926; Войтоловский Л. Н. Всходил кровавый Марс: по следам войны. М., 1998; Головин Н.Н. Из истории кампании 1914 года на русском фронте. Прага, 1926; Деникин А. И. Путь русского офицера. М., 1990; Он же. Очерки русской смуты. М., 2003; Джунковский В. Ф. Воспоминания, 1905–1915. Т. 2. М., 1997; Сергеевский Б.Н. Пережитое. 1914. М., 2009; Брусилов А. А. Мои воспоминания. М., 2001; Бубнов А.Д. В царской ставке: мемуары адмирала Российского флота. СПб., 1995; Спиридович А. И. Великая война и Февральская революция, 1914–1917. Ми., 2004; Сухомлинов В. А. Воспоминания. Мемуары. Ми., 2005; Степун Ф. А. Из писем прапорщика-артиллериста. Томск, 2000; Врангель Н.Н. Дни скорби. СПб., 2001; Гиппиус 3. Петербургские дневники. М., 1990; Заблудовская Р.М. Франция за пять лет. 1914–1919. Париж, 1920; Розанов В. В. Последние листья. М., 2000; Бердяев Н.А. Судьба России. М., 1990; Волконский С. Родина. М., 2002; Barthas L. Les carnets de guerre de Louis Barthas, tonnelier. 1914–1918. Paris, 1981; Alexandre J.-R. Avec Joffre d’Agadir a Verdun. Paris, 1932; Joffre J. Memoires du marechal Joffre, 1910–1917. T. 1. Paris, 1932; Gallieni J. S. Memoires du marechal Gallieni, defense de Paris. 25 aout – 11 septembre 1914. Paris, 1928; Bloch M. Memoirs of War. 1914–1915. London, 1980; Graves R. Goodbye to All That. London, 1929; Pares B. Day by Day with the Russian Army. 1914–1915. London, 1915; Barnard Ch. I. Paris War Days. Boston, 1914; Gibbs P. L’ame de la guerre. Paris, 1916; Idem. Ten Years After: A Reminder. London, 1924; Russell B. The Autobiography of Bertrand Russell, 1914–1944. Toronto, 1968; Buchanan G. My Mission to Russia and Other Diplomatic Memoirs. Vol. 1. London, 1923; Malcolm I. War Pictures behind the Lines. London, 1915; Lloyd George D. War memoirs. Vol. 1.1914–1915. Boston, 1933; Riddell G. The Riddell Diaries, 1908–1923. London, 1986; Asquith H.H. Memoirs and Reflections, 1852–1927. Vol. 2. Boston, 1928; Grey E. Twenty-five Years, 1892–1916. Vol. 2. London, 1935.
42
Renouvin R La crise europeenne et la Grande guerre (1904–1918). Paris, 1934. P. 152.
43
Ibid. P.152.
44
Ibid. P. 153–156. P. 153–156.
45
Becker J.-J. 1914: Comment les Franqais sont entres dans la guerre. Paris, 1977.
46
Taylor A. J.P. Illustrated History of the First World War. New York, 1964. P. 19; Ferro M. The Great War 1914–1918. London: Routledge, 1973. P. 8; Marwick A. War and Social Change in the Twentieth Century. P. 80.
47
Becker J.-J. Op. cit. P. 259.
48
Idem. La population franqaise face a l’entree en guerre. // Les Societes europeennes et la guerre de 1914–1918. Paris, 1990; Keiger J.F.V. Britain’s “Union Sacree” in 1914 // Les Societes europeennes et la guerre de 1914–1918. Paris, 1990; Herrmann D.G. The Arming of Europe and the Making of the First World War. Princeton, 1996; Stevenson D. Armaments and the Coming of War: Europe, 1904–1914. London, 1996; Leed E.J. No Man’s Land. Combat and Identity in World War I. Cambridge, 1979; Fussell P. The Great War and Modern Memory. Oxford, 1979; Stevenson J. British Society, 1914–1945. London, 1984; Stromberg R. N. Redemption by War. The Intellectuals and 1914. Lawrence, 1982; Bond B. War and Society in Europe, 1870–1970. Bungay, 1984; Liddle P. H. Voices of War. London, 1988; Sanders M.L., Taylor P. M. British Propaganda during the First World War, 1914–1918. London, 1982; Mayeur J.-M. La vie politique sous la Troisieme Republique. Paris, 1984; MacKenzie J.M. Propaganda and Empire. The manipulation of British Public Opinion, 1880–1960. Manchester, 1985; Sweet D. The Domestic Scene: Parliament and People // Home Fires and Foreign Fields. London, 1985; Bourne J. M. Britain and the Great War, 1914–1918. New York, 1989; Montant J.-C. L’organization centrale des services d’informations et de propaganda du Quai d’Orsay pendant la Grande guerre. // Les societes europeennes et la guerre de 1914–1918. Paris, 1990; Robert J.-L. The Image of Profiteer // Winter J. M., Robert J.-L. Capital Cities at War. Paris, London, Berlin, 1914–1919. Cambridge, 1997; Gullace N.F. Sexual Violence and Family Honor: British Propaganda and International Law during the First World War // American Historical Review. 1997, June. Vol. 102. № 3; Audoin-Rouzeau S. Children and Primary Schools of France, 1914–1918 // State, Society and Mobilization in Europe during the First World War. Cambridge, 1997.
49
Gregory A. The Last Great War: British Society and the First World War. Cambridge, 2014; Winter J. M. The Experience of World War I. Edinburg, 1988; Winter J. M., Baggett B. 1914—18: Le grand bouleversement. Paris, 1997; Schor R. La France dans la Premiere guerre mondiale. Paris, 1997.
50
Winter J. M. The Experience of World War I. P. 118.
51
Ibid. P. 165–166.
52
Хейстингс M. Первая мировая война. Катастрофа 1914 года. М.: 2014; Verhey J. The Spirit of 1914: Militarism, Myth, and Mobilization in Germany. Cambridge: Cambridge University Press, 2006; Loez A. 14–18. Les refus de la guerre. Une histoire des mutins. Paris, 2010; Idem. La Grande guerre. Paris, 2010; Mulligan W. The Origins of the First World War. Cambridge, 2010.
53
Verhey J. Op. cit. P. 24–25.
54
Ibid. P.97—112.
55
Verhey J. Op. cit.
56
Миллер А. И. Указ. соч. С. 47.
57
Clark C. The Sleepwalkers. How Europe Went to War in 1914. New York, 2014.
58
Костриков С.П. Россия в Первой мировой войне. М., 2000; Бахтурина А. Ю. Окраины Российской империи: государственное управление и национальная политика в годы Первой мировой войны (1914–1917 гг.). М., 2004; Кострикова Е.Г. Российский МИД в борьбе за европейское общественное мнение в годы Первой мировой войны // Россия в XIX–XX веках. Материалы II Научных чтений памяти профессора В. И. Бовыкина. М., 2002; Она же. Российское общество и внешняя политика накануне Первой мировой войны, 1908–1914. М., 2007; Иванов А. И. Первая мировая война в русской литературе 1914–1918 гг. Тамбов, 2005; Хмелевская Ю. Ю. Британия в 1914–1918 гг.: инструментализация предвоенного социально-психологического опыта «немилитаристской» нации // Война и общество (к 90-летию начала Первой мировой войны). Материалы межвузовской научной конференции. Самара, 10–11 декабря 2004 г. Самара, 2005; Сдвижков Д. А. Идеи ненасилия в образованных слоях Германии и России накануне Первой мировой войны // Ненасилие как мировоззрение и образ жизни (исторический ракурс). М., 2000.
59
Акопов А. А. Формирование образа врага на страницах газеты «Северокавказский край» в годы Первой мировой войны.: Дисс… канд. ист. наук. Пятигорск, 2008; Белогурова Т.А. Отражение общественных настроений в российской периодической печати 1914 – февраля 1917 гг.: Дисс…. канд. ист. наук. Брянск, 2006; Сенокосов А. Г. Англия и Антанта: на пути к военно-политическому союзу (1907–1914).: Дисс… канд. ист. наук. М., 2005; Забелина Н.Ю. Враги и союзники в восприятии британцев в годы Первой мировой войны.: Дисс… канд. ист. наук. М., 2011; Смирнова И. В. Морально-психологическое состояние британских солдат на Западном фронте в 1914–1918 гг.: Дисс… канд. ист. наук. М., 2011; Цыкалов Д. Е. Проблема «Россия и Запад» в отечественной публицистике периода Первой мировой войны: июль 1914 – февраль 1917 г.: Дисс… канд. ист. наук. Волгоград, 2003; Эйдук Д.В. «Образ врага» и перспективы войны в русской периодической печати в 1914–1915 гг.: по материалам газеты «Утро России».: Дисс… канд. ист. наук. СПб., 2008.
60
Первая мировая война: дискуссионные проблемы истории. М., 1994; Первая мировая война: пролог XX века. М., 1998; Мировые войны XX в. В 4 кн. Кн. 2. Первая мировая война: документы и материалы. М., 2002; Мировые войны XX в. В 4 кн. Кн 1. Первая мировая война. М., 2005; Война и общество в XX в. Кн. 1. Война и общество накануне и в период Первой мировой войны М., 2008; Белова И. Б. Первая мировая война и российская провинция, 1914 – февраль 1917 гг. М., 2011.
61
Сергеев Е.Ю., Улунян Ар. А. Не подлежит оглашению. Военные агенты Российской империи в Европе и на Балканах. М., 2003.
62
Ревякин А. В. Франция: «Священное единение» // Мировые войны XX века. В 4 кн. Кн. 1. Первая мировая война. М., 2005; Он же. Война и интеллигенция во Франции // Первая мировая война. Пролог XX века. М., 1998; Он же. Французский национализм и Первая мировая война // Война и общество в XX веке. В 3 кн. Кн. 1. М. 2008.
63
Колоницкий Б. И. «Трагическая эротика». Образы императорской семьи в годы Первой мировой войны. М., 2010.
64
Прокопов А.Ю. Британская империя: общество и вызовы войны // Мировые войны XX в. В 4 кн. Кн. 1. М., 2005; Он же. Война и вопросы социально-политического развития Великобритании // Война и общество в XX веке. В 3 кн. Кн. 1. М. 2008.
65
Тютюкин С. В. Патриотический подъем в начале войны // Мировые войны XX в. В 4 кн. Кн.1. Первая мировая война. М., 2005; Он же. Россия: от Великой войны – к Великой революции // Война и общество в XX веке. В 3 кн. Кн. 1. М. 2008.
66
Сенявская Е. С. Противники России в войнах XX в.: эволюция «образа врага» в сознании армии и общества. М., 2006.
67
Сенявская E.C., Миронов В. В. Человек на войне: «свои» и «чужие» // Мировые войны XX в. В 4 кн. Кн.1. Первая мировая война. М., 2002.
68
Базанов C.H. Патриотический подъем в российском обществе в начале Первой мировой войны // Патриотизм – духовный стержень народов России. М., 2006.
69
Первая мировая война и судьбы европейской цивилизации / Под ред. Л. С. Белоусова и A.C. Маныкина. М., 2014.
70
Морозова Н.В., Назарова Т. П. Эволюция «образа врага в сознании русского общества в годы Первой мировой войны (по материалам центральной печати). Волгоград, 2015; Соловьёв C.A. Развитие государственно-монополистического капитализма в Англии в годы Первой мировой войны. М., 1985; Куликов C.B. Бюрократическая элита Российской империи накануне падения старого порядка. (1914–1917). Рязань, 2004; Чертищев А. В. Политические партии России и массовое политическое сознание действующей русской армии в годы Первой мировой войны. (Июль 1914 – март 1918). М., 2006; Лавринович Д.С. Либерально-консервативная оппозиция в России: формирование и борьба за власть, 1912 – март 1917 гг. Могилёв, 2006; Алексеева И. В. Последнее десятилетие Российской империи: Дума, царизм и союзники России по Антанте, 1907–1917. М., 2009; Гайда Ф. А. Либеральная оппозиция на путях к власти. (1914 – весна 1917). М., 2003; Айрапетов О. Р. Генералы, либералы и предприниматели: работа на фронт и на революцию (1907–1917). М., 2003; Романова Е.В. Путь к войне: развитие англо-германского конфликта. 1898–1914. М., 2008.
71
Поршнева О. С. Менталитет и социальное поведение рабочих, крестьян и солдат в России в период Первой мировой войны (1914 – март 1918 г.). Екатеринбург, 2000; Она же. Российский крестьянин в Первой мировой войне (1914 – февраль 1917) // Человек и война (война как явление культуры). М., 2001; Она же. «Настроение 1914 года» в России как феномен истории и историографии // Российская история. 2010. № 2. С. 185–199.
72
Поршнева О. С. Менталитет и социальное поведение рабочих, крестьян и солдат в России в период Первой мировой войны (1914 – март 1918 г.). Екатеринбург, 2000. С. 106–166.