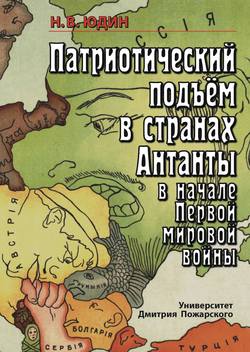Читать книгу Патриотический подъем в странах Антанты в начале Первой мировой войны - Николай Юдин - Страница 3
Глава I
Общественный консенсус как основа патриотического подъема: страны Антанты во время Июльского кризиса
1914 года
§ 1. Реакция правительств и населения стран Антанты на начало Июльского кризиса 1914 года
ОглавлениеСобытиям Июльского кризиса, ставшего непосредственным прологом новой войны, и реакции на них современников посвящено необозримое количество работ как в отечественной, так и в зарубежной историографии. Тем не менее, споры о степени вины и роли той или иной великой европейской державы в развязывании Первой мировой войны не утихают до сих пор. Как ни парадоксально, одной из причин этих споров является не недостаток исторических источников, дошедших до нас с тех времен, а, наоборот, их изобилие. В них содержатся крайне противоречивые свидетельства и оценки, позволяющие при желании обосновать практически любую теорию. Эта ситуация, очевидно, чревата скатыванием исторических исследований в эпистемологический релятивизм. Данное обстоятельство настоятельно диктует применение в современных исторических исследованиях, посвященных проблемам Первой мировой войны, новых междисциплинарных методологических подходов, требует осмысления событий той эпохи с точки зрения их включенности в более широкий исторический контекст.
Последние предвоенные годы характеризовались нарастанием напряженности и конфликтности в отношениях между противостоящими группировками великих европейских держав. Во всех странах шла активная подготовка к будущей войне, выражавшаяся в тот момент в принятии специальных военных бюджетов, утверждении новых военных программ, направленных на перевооружение армий, увеличение их численности и усиление резервов[73]. Вехами в этом процессе могут послужить военные законы в Германии, Франции и России, принятые в 1912 году[74]; избрание Р. Пуанкаре президентом Франции в 1913 году, которое отразило утверждение во французской правящей элите курса на жесткое противодействие внешнеполитическим устремлениям Германии[75],[76]; ярким доказательством последнего вывода служит принятие во Франции нового военного закона в том же 1913 году как ответной меры на увеличение германского военного бюджета[77].
В странах Антанты все эти военные приготовления сопровождались информационно-пропагандистскими кампаниями в их поддержку на страницах ведущих средств массовой информации[78]. Эти кампании имели кумулятивный эффект, приводя к постепенному утверждению (по крайней мере, в среде политических и интеллектуальных элит) мысли о неизбежности скорой общеевропейской войны, начало которой всё чаще связывалось с 1914 годом[79]. Примером таких кампаний могут послужить полемика во французской печати вокруг нового военного закона в 1913 году[80] и русско-германская «газетная война» 1914 года[81], непосредственным поводом к началу которой послужила статья в одной из авторитетных немецких газет («Кёльнише цайтунг») о необходимости превентивного удара Германии и Австро-Венгрии по России, призванного обезопасить их от неизбежной, по мнению газеты, агрессии с ее стороны. Хотелось бы особенно подчеркнуть, что в рассматриваемый период никто не делал секрета из того, против кого ведутся описанные выше военные приготовления. Наоборот, угроза со стороны Германии представлялась крупнейшими средствами массовой информации в России и во Франции как своего рода аксиома[82]. Можно заключить, что, по крайней мере, с точки зрения пропаганды, образ будущего врага получил в указанных странах вполне конкретное наполнение и определение.
Впрочем, эти газетные кампании одновременно ярко продемонстрировали как неоднородность общественного мнения в рассматриваемых странах, так и проблемы, существовавшие во взаимоотношениях между партнерами по Антанте. Например, скандал вокруг отправки в Турцию германской военной миссии во главе с генералом Лиманом фон Сандерсом осенью 1913 года наглядно показал, что Восточный вопрос продолжал отравлять отношения между Россией и ее западными партнерами по Антанте и накануне Первой мировой войны. Англия и Франция отнюдь не желали усиления позиций России в Турции, с подозрением относились к любым ее предложениям, касавшимся расстановки сил на Балканах и в зоне проливов, и потому не спешили оказывать ей дипломатическую поддержку в противодействии германским внешнеполитическим инициативам[83]. Не меньшую проблему для сторонников укрепления
Антанты в тот период представляла весьма двусмысленная позиция Англии[84]. Откровенное нежелание английского правительства связывать себя формальными военными обязательствами с партнерами по Антанте вызывало вопросы о ее возможных действиях в случае начала общеевропейской войны как в самой Англии, так и в континентальных державах[85]. Это беспокойство лишь усилилось после провала попытки добиться от Англии заключения военного союза в ходе визита английской королевской четы во Францию весной 1914 года, приуроченного к 10-летнему юбилею англо-французской Антанты[86].
Далеко не в последнюю очередь к проведению подобной осторожной политики в отношении Антанты английское правительство (у власти в тот момент находился либеральный кабинет, возглавлявшийся Г. Асквитом) принуждала позиция, занятая частью либералов и лейбористами, а также симпатизировавшими им средствами массовой информации. Они осуждали увеличение военных расходов, выступали против каких бы то ни было формальных обязательств в отношении континентальных партнеров по Антанте[87]. Подобное сдерживающее влияние оказывали на свое правительство и французские социалисты. Во время обсуждения законопроекта о трехлетней воинской службе они открыто выступили против курса на подготовку к войне и обострение отношений с Германией, противопоставив им пацифистские и интернационалистские лозунги[88]. Полемика в прессе показала, что накануне войны их взгляды разделялись не только политически активными организованными рабочими, но и многими представителями интеллектуальной элиты страны, проникали в армию[89]. С позицией социалистов приходилось считаться: в 1914 году в Палате депутатов левые партии имели 268 мест из 602[90]. Интересно отметить, что в России в тот момент курс на укрепление сотрудничества с партнерами по Антанте и противодействие Германии подвергался критике лишь со стороны крайне правых политиков. Умеренно-консервативное и либеральное большинство Государственной думы[91]в целом поддерживало этот курс, более того, русский МИД часто становился объектом критики за недостаточную активность в этом направлении[92].
В целом же приходится констатировать, что даже взгляды представителей правящих элит в странах Антанты накануне Июльского кризиса отличались противоречивостью и разнородностью, основывались на разном понимании государственных интересов; даже применительно к политическим элитам не представляется возможным говорить о некоем едином общественном мнении по вопросам внешней политики. Тем более нельзя говорить о нем в масштабах всего общества, какую бы страну Антанты мы ни взяли. Так, если для политических и интеллектуальных элит были характерны вполне устоявшиеся представления о возможности скорой общеевропейской войны (вне зависимости от отношения к подобной перспективе), то широкие слои городских и сельских обывателей, как правило, мало интересовались перипетиями международных отношений и были поглощены внутриполитическими и социальными проблемами, они плохо представляли себе опасность сложившейся накануне Первой мировой войны международной обстановки[93]. В этом состоянии внутренней раздробленности общества стран Антанты встретили Июльский кризис 1914 года.
Поводом к началу Июльского кризиса стало убийство австрийского наследника престола эрцгерцога Франца Фердинанда и его супруги герцогини Софии Гогенберг 28 июня 1914 года в боснийском городе Сараево сербским националистом Гаврилой Принципом. Это событие вызвало самый широкий резонанс в европейских обществах. 29 июня газеты Антанты вышли под огромными заголовками, извещавшими об убийстве. Портреты погибших, некрологи, статьи и многочисленные телеграммы заполнили страницы средств массовой информации[94]. Все газеты без исключения признали покушение страшным преступлением[95]. Французские газеты «Le Temps» и «Le Matin» напоминали своим читателям о тяжких испытаниях, выпавших на долю австрийского императора Франца Иосифа, и выразили уверенность, что симпатии всего мира сейчас находятся на стороне императора[96].
Однако, выразив сочувствие Францу Иосифу, пресса очень скоро занялась обсуждением возможных последствий покушения. В этой связи большую обеспокоенность российских и французских газет вызывали сообщения о росте антисербских настроений в Двуединой монархии и неспособность ее властей пресечь на своей территории погромы сербских кварталов[97]. В России и Франции печать практически единодушно встала на сторону Сербии, отстаивая идею о ее непричастности к организации покушения[98]. «Le Temps» подчеркивала, что «ни правительство Сербии, ни сербский народ не могут ни в какой степени быть признаны виновными в трагедии Австро-Венгрии»[99]. С решительным осуждением антисербских погромов также выступили «Le Figaro»[100] и «Le Matin»[101]. Последняя с тревогой отмечала, что австрийская пресса всё более открыто стремится приписать убийство эрцгерцога сербскому правительству. «Le Temps» решительно отметала подобные теории: «В тот момент, когда Сербия делает всё возможное, чтобы наладить отношения с Австрией, было бы совершенно абсурдно предполагать, что она [Сербия] может одобрять или извинять сараевское убийство. Совсем напротив, если бы этого убийства не произошло, это было бы именно в интересах Сербии. К несчастью, сербское правительство не могло ничего сделать, чтобы предотвратить покушение, учитывая тот факт, что оно было совершено австрийскими подданными»[102]. Английские журналисты, в отличие от их русских и французских коллег, отнюдь не стремились выступить в поддержку Сербии. Наоборот, как либеральные, так и многие консервативные издания открыто встали на сторону Австро-Венгрии, обвиняя сербское правительство в организации покушения[103].
Интересно отметить, что буквально через несколько дней после убийства в Сараево в печати появились первые слухи о готовящемся ультиматуме Австро-Венгрии с требованием проведения расследования на территории Сербии с участием австрийских сыщиков[104]. Тем не менее, не следует преувеличивать ажиотаж или тревогу антантовской прессы в связи с сараевским покушением. Сообщения об убийстве Франца Фердинанда очень скоро сошли с первых полос газет, будучи оттесненным внутриполитическими проблемами и светскими скандалами. Успокоению способствовала также сдержанная позиция Австро-Венгрии, которая не выступила сразу с дипломатическим демаршем против Сербии; надежда, что 84-летний Франц Иосиф не захочет омрачать последние годы своего правления европейской войной[105]. Так, «Le Figaro» писала, что личное вмешательство Франца Иосифа в австро-сербский конфликт с целью его скорейшего мирного разрешения совершенно развеяло опасения о возможном разрыве отношений между двумя государствами[106].
Во Франции общество в тот момент было сосредоточено на перипетиях суда над Г. Кайо, женой бывшего министра финансов Ж. Кайо, убившей редактора «Le Figaro» Г. Кальметта за то, что тот развернул травлю ее мужа на страницах своей газеты и грозился предать огласке его частную переписку. Новости об этом процессе оттеснили сообщения о сараевском убийстве с первых полос газет[107]. В Англии внимание прессы и общества было приковано к назревавшему вооруженному конфликту в Ирландии в связи с обсуждением закона о гомруле[108]. В этом отношении можно согласиться с категоричным заявлением Дж. Ф. В. Кейгера, что Июльского кризиса в современном его понимании для людей того периода просто не существовало[109]. Действительно, если обратиться к изучению публикаций в антантовской прессе, остается только констатировать, что события международной жизни в июле 1914 года отнюдь не находились в центре внимания современников[110].
Да, новость о сараевском убийстве подняла продажи газет, но она не воспринималась как некое судьбоносное или роковое событие. Пресса стран Антанты вовсе не пыталась подготовить общественное мнение к перспективе скорой войны из-за этого покушения. Тревожные публикации, в которых подчеркивалась опасность сложившейся ситуации на Балканах, были немногочисленны и в июле 1914 года не выходили на первые полосы газет. Люди к тому моменту привыкли к сообщениям об убийствах венценосных особ, и те не воспринимались как нечто из ряда вон выходящее, а кризисы на Балканах представлялись чуть ли не как постоянный элемент политического ландшафта.
Свидетельствами успокоения антантовских политиков могут послужить отъезд русского министра иностранных дел С.Д. Сазонова в свое загородное имение на короткий отпуск в середине июля 1914 года и прибытие в Петербург с официальным визитом президента Франции Р. Пуанкаре 20–23 июля. Именно так восприняли поездку Р. Пуанкаре средства массовой информации в странах Антанты, их логика понятна: существуй угроза кризиса, визит был бы, несомненно, отложен. Это событие, вполне естественно, привлекло особое внимание газет Франции и России[111]. Самым подробным образом освещались все детали торжеств, приуроченных к высокому визиту: состав русской и французской эскадр, встречи президента, балы, обеды[112]. Целиком приводились речи и тосты, произнесенные Р. Пуанкаре и Николаем II, в которых прославлялось прошлое русско-французского союза, говорилось о его нынешних силе и значении[113]. Русские газеты не преминули подчеркнуть, что военная мощь русско-французского союза служит лучшей гарантией мира в Европе и должна оказывать отрезвляющее воздействие на «австрийских шовинистов»[114].
По-своему освещала обстоятельства визита французского президента в Россию «The Times». Основное внимание газета уделяла даже не столько официальной части визита, сколько антимилитаристским демонстрациям и забастовкам, которыми рабочие встретили приезд Р. Пуанкаре. Отмечалось, что 23 июля столкновения продолжались в различных частях Петербурга до полуночи, и что, несмотря на применение властями оружия, требовались еще более жесткие меры для прекращения «анархии и хулиганских действий»[115]. Очень показательно, что в этот период английская официозная газета целиком встала на сторону царского правительства, с одной стороны, выступая за более жесткие меры в отношении забастовщиков, а с другой – выражая удивление «терпимостью, проявленной правительством в отношении нарушителей общественного порядка»[116]. «The Times» была одним из наиболее последовательных сторонников укрепления Антанты и стремилась по возможности улучшить образ Российской империи в глазах английского общества.
На фоне успокоительных настроений и публикаций, возобладавших к концу июля 1914 года в странах Антанты, поступившее 24 июля в средства массовой информации известие об австрийском ультиматуме Сербии произвело эффект разорвавшейся бомбы[117]. При этом в реакции газет и журналов на новое обострение международной ситуации как в капле воды отразились все отмеченные выше проблемы во взаимоотношениях между членами Антанты и особенности внутриполитической обстановки в каждой отдельно взятой стране. Так, практически единодушное и самое резкое осуждение встретил австрийский демарш в русской прессе. Большинство газет считали военное вмешательство Российской империи в австро-сербский конфликт не только возможным, но и необходимым, подчеркивая, что она может рассчитывать на полную поддержку со стороны Франции[118]. В считавшейся официозной газете «Новое время» была опубликована статья, звучавшая как самое настоящее предупреждение Австрии: «Русское правительство ясно сознает, что австрийский ультиматум Сербии направлен собственно против России. И Россия отвечает на него не только словами, но и должными действиями. Сербия, подвергшаяся беззаконному нападению, не останется одинокой. Возмутителям мира придется иметь дело не только с Сербией, но и с Россией»[119]. Воинственностью отличалась и реакция «Московских Ведомостей»: «Наступил последний час! Австрия должна оглянуться на пройденный путь: каждая война кончилась для нее печально и новая должна кончиться катастрофой за то, что она – виновница тех бедствий, которые обрушатся на народы Европы»[120]. В этой статье прямо говорилось, что единственным и неизбежным последствием австрийской ноты будет общеевропейская война. Единственным диссонансом прозвучала статья в либеральной газете «Речь». 25 июля она подчеркивала, что России и Франции не стоит рассчитывать на военную помощь со стороны Англии и им следует воздержаться «от каких бы то ни было поощрений по адресу Сербии»[121].
На стороне Сербии решительно выступила французская официозная пресса[122]. «Le Temps» подчеркивала совершенно недопустимый тон австрийского ультиматума и беспрецедентный характер требований, в нем предъявленных[123]. Газета также выражала уверенность, что Россия не оставит Сербию в столь трудный для нее час. Пространной статьей отреагировала на известие об австрийском ультиматуме «Le Figaro». Крайнее возмущение газеты вызывали тон и формулировки австрийской ноты, а особенно тот факт, что обвинения в организации сараевского покушения, по мнению французской газеты, выдвигались не просто в адрес сербского правительства, которое могло уйти в отставку, а лично против короля Сербии[124]. Со всей отчетливостью опасность сложившейся ситуации обрисовывала на своих страницах «Le Matin». По ее мнению, новый международный кризис требовал решительного вмешательства всех великих держав, концертной дипломатии, но Австрия выбрала такой момент для своего ультиматума, когда Антанта фактически парализована: президент Франции находится за пределами своей страны, а Англия балансирует на грани гражданской войны. Единственный шанс на мирное урегулирование конфликта в этой обстановке «Le Matin» видела в мирных инициативах России[125]. Вообще же французская официозная и консервативная пресса, равно как и русская, с самого момента опубликования ультиматума выступала за жесткую политику в отношении Германии и Австро-Венгрии, считая согласованное и решительное выступление стран Антанты на стороне Сербии единственным способом сохранить европейский мир.
Что касается Англии, то посол в Лондоне А. К. Бенкендорф констатировал раскол в английской печати по отношению к австро-сербскому конфликту[126]. Радикальные и либеральные газеты, прежде всего «The Standard» и «The Manchester Guardian», решительно встали на сторону Австро-Венгрии и заявили, что Сербия должна подчиниться всем предъявленным требованиям[127]. «The Standard» писала: «…симпатии Англии на стороне Австрии, которая страдает от сербского упрямства»[128]. Иную позицию заняли консервативные газеты («The Times», «The Morning Post»), взывавшие к вмешательству великих держав в этот конфликт и требовавшие соблюдения норм международного права[129]. О впечатлении, произведенном ультиматумом в странах Антанты, писала «The Times». В статье «Угроза Европе» отмечалось, что, по мнению осведомленных английских дипломатов, международная ситуация в тот момент была гораздо более опасной, чем во время Боснийского кризиса 1908–1909 годов или Балканских войн 1912–1913 годов[130]. Приводилась также точка зрения французских политиков, которые выражали сомнение в возможности локализовать австро-сербский конфликт[131].
26 июля пришло известие, что Австрия не приняла ответ Сербии. Несмотря на это, в печати продолжался поиск путей выхода из кризиса, мирного решения проблемы. Задержка в три дня с момента истечения срока действия австрийского ультиматума и до объявления 28 июля 1914 года войны Австро-Венгрией Сербии породила в печати стран Антанты надежды если не на сохранение мира на Балканах, то, по крайней мере, на локализацию конфликта.
26—27 июля российские газеты еще продолжали в весьма резких выражениях комментировать ситуацию вокруг австро-сербского конфликта. Некоторые из них («Свет», «Колокол», «Петербургский курьер», «Утро России») призывали правительство проявить твердость и в случае необходимости применить силу для защиты Сербии, рассчитывая при этом на полную и единодушную поддержку всего населения империи[132]. «Новое время» приходило к выводу, что за действиями Австро-Венгрии стоит Германия, и что только от Германии зависит мирное разрешение этого конфликта: «Германскому императору достаточно сказать два слова, и австро-венгерская дипломатия возьмет свою словесную ноту обратно»[133]. Газета писала, что отказ Германии повлиять на своего союзника чреват самыми тяжелыми последствиями. Вновь подчеркивалось, что в случае агрессии Австро-Венгрии против Сербии, Россия не останется в стороне, а это повлечет за собой вступление в войну Германии, Франции и, может быть, Англии. В заключение, «Новое время» задавалось вопросом, стоит ли мир на пороге общеевропейской войны, и писало: «Ответ на этот основной вопрос, волнующий общественное мнение, надо искать в Берлине»[134]. Провинциальные издания не отставали от столичных и требовали от царского правительства проявить твердость и, «в случае необходимости, с мечом выйти на защиту своих сербских братьев»[135].
«Хочет ли Германия войны?» – под таким заголовком 27 июля была опубликована статья в «Le Temps»[136]. Газета заключала, что Австро-Венгрия не шла бы так открыто на обострение международной ситуации, составляя ультиматум в столь резких выражениях, отказываясь, несмотря на настояние России, продлить срок его действия, если бы за ней не стояла Германия. По мнению «Le Temps», войны между Австро-Венгрией и Сербией миновать уже почти невозможно[137]. В то же время, французские проправительственные газеты старались избегать излишне резких выпадов в отношении Германии, и их публикации отличались большой сдержанностью[138]. Эта сдержанность официозных газет отчасти объяснялась нежеланием правительства навлечь на себя обвинения со стороны социалистов в вынашивании агрессивных замыслов, милитаризме. Подобные опасения были неслучайны.
Именно в эти дни просыпается интерес левых изданий к международной ситуации. Традиционно французские социалистические и анархистские газеты сравнительно мало внимания уделяли внешнеполитическим проблемам, в основном обращаясь к внутренним социальным, политическим и экономическим вопросам. Теперь, в последние дни июля 1914 года, они активно включились в комментирование обстановки на Балканах и вступили в полемику с официозными изданиями. «La Bataille Syndicaliste» и «L’Humanite» призывали французов выйти на антивоенные демонстрации, напоминая им об ужасах, с которыми сопряжена любая война[139]. Анархистская «La Bataille Syndicaliste» в статье «Долой войну!» особенно подчеркивала, что во время этого кризиса со всей очевидностью проявилась противоположность интересов правящих классов и широких народных масс, что правительства великих держав проводят антинародную политику, сознательно толкая мир к войне[140]. Так заявила о себе накануне начала боевых действий антивоенная оппозиция во Франции. Но важно отметить, что, в сущности, открыто против войны в тот момент выступили только левые издания, отстаивавшие свою традиционную пацифистскую и интернационалистскую точку зрения. Французское правительство с большим беспокойством следило за антивоенной социалистической пропагандой, опасаясь, что она может спровоцировать массовые выступления рабочих.
В английской прессе продолжалась активная полемика между либеральными и консервативными изданиями. О значении, которое придавалось русским правительством этой полемике, могут свидетельствовать регулярные донесения А. К. Бенкендорфа[141]. 26 июля он писал: «Я не наблюдаю никаких атак на принцип Тройственного согласия, которое воспринимается как данность. С другой стороны, большинство газет считают, что в данный момент Англия должна ограничиться ролью посредника. Трудно судить об общественном мнении, не опираясь на газеты. Пресса была застигнута врасплох, колеблется, однако воздерживается от прямой критики в адрес твердой позиции России»[142]. Изучая публикации в ведущих средствах массовой информации, русские дипломаты стремились оценить расстановку сил в английских правящих кругах, найти ключ к пониманию позиции британского правительства в случае резкого обострения обстановки на континенте.
Если обратиться к непосредственному изучению статей в английских средствах массовой информации, то в освещении австро-сербского конфликта внимание прессы было приковано к сербскому ответу на предъявленный ранее ультиматум. Консервативная печать указывала на беспрецедентную уступчивость сербского правительства. «The Times» писала, что в свете примирительности сербского ответа конфликт должен быть решен мирными способами[143]. В то же время газета с тревогой отмечала рост воинственных настроений в Вене и Берлине: «Атмосфера в обеих столицах напоминает ту, что царила в Париже в июле 1870»[144]. В целом газета весьма пессимистически оценивала шансы на сохранение мира: с точки зрения «The Times», начала военных действий между двумя странами следовало ожидать в течение ближайших 7—10 дней[145].
Консервативные газеты особенно подчеркивали необходимость решительного вмешательства Англии в ситуацию на континенте. «The Times» писала, что до тех пор, пока существует надежда на сохранение мира, Англия сделает всё возможное для этого, но любая попытка пошатнуть баланс сил в Европе будет пресечена всею мощью империи, «это то, что наши интересы, наш долг, наша честь требуют от нас. Англия без колебаний ответит на их призыв»[146]. В том же ключе комментировала обстановку на Балканах «The Morning Post». Она отмечала, что если Австро-Венгрия выступит в роли агрессора, то Англия не останется в стороне[147], и дело не в каких-то международных договорах, а в моральном долге: «Она не может молча смотреть на то, как одна стана провозглашает себя судьей, присяжным и палачом в одном лице»[148]
73
Красноречивую картину нарастания напряженности в Европе накануне Первой мировой войны рисуют донесения русских военных агентов, об этом см. подробнее: Сергеев Е.Ю., Улунян Ар. А. Не подлежит оглашению. Военные агенты Российской империи в Европе и на Балканах. М., 2003.
74
Herrmann D.G. The Arming of Europe and the Making of the First World War. Princeton, 1996. P. 174; Luntinen P. French Information on the Russian War Plans, 1880–1914. Helsinki, 1984. P. 192.
75
Евдокимова H. П., Виватенко С. В. Раймон Пуанкаре – президент Франции. СПб., 2006. С. 168–170; McMillan J. The Way It Was, 1914–1934. London, 1979. P. 17; Mulligan W. The Origins of the First World War. Cambridge, 2010. P. 147.
76
Именно так воспринималось избрание Р. Пуанкаре русскими дипломатами и правыми средствами массовой информации. См. например: Архив внешней политики Российской империи [Далее – АВПРИ]. Ф. 133. Оп. 470. Д. 120. 1913 г. Л. 4;Новое время. 1913, 5 (18) января. С. 4; Московские ведомости. 1913, 13 (26) января. С. 1.
77
Антюхина-Московченко В. И. История Франции, 1870–1918. М., 1963. С. 613; Тарле Е.В. Европа в эпоху империализма. 1871–1919. М., 1928. С. 231.
78
Новое время. 1913, 8 (21) февраля. С. 3; Московские ведомости. 1913, 24 января (6 февраля). С. 1; Le Figaro. 1913, 9 Fev. Р. 1; Le Temps. 1913,11 Fev. P. 1; Ibid. 1913, 15Fev. P. 1; Ibid. 1913,16 Fev. P. 1; The Times. 1913, 20 Feb. P. 7.
79
Так, в газете «Новое время» в статье «Новый взрыв германского милитаризма» от 8 (21) февраля 1913 г. отмечалось: «1914 год уже давно указывался как год, угрожающий Европе общей войной (по совокупности той конъюнктуры, которую в этом году представят соперничающие морские и военные программы)». Новое время. 1913, 8 (21) февраля. С. 3.
80
Le Temps. 1913, 21 Fev. Р. 1; Ibid. 1913, 23 Fev. P. 1; Ibid. 1913, 26 Fev. P. 1; Ibid. 1913, 28 Fev. P. 1; Ibid. 1913, 7—28 Mars. P. 2; Le Matin. 1913, 21 Fev. P. 3; Ibid, 1913, 28 Fev. P. 1; Ibid. 1913, 6—31 Mars. P. 3; Le Figaro. 1913, 16 Fev. P. 2; Ibid. 1913, 25 Fev. P. 1;
Ibid. 1913, 3—25 Mars. Р. 1; Юдин Н.В. Полемика во французской печати вокруг закона о трехлетней воинской службе 1913 г.: к вопросу об общественных настроениях во Франции накануне Первой мировой войны // Per Aspera… Вып. 3. М., 2011. С 155–168; Michon G. La preparation a la guerre. La Loi de trois ans, 1910–1914. Paris, 1935. P.137–138.
81
АВПРИ. Ф. 139. On. 476.1914 г. Д. 587. Л.124–133,152 158; Новое время. 1914, 24 февраля (9 марта). C. 4; Там же. 1914, 27 февраля (12 марта). С. 4; Там же. 1914,1 (14) марта. С. 4; Московские ведомости. 1914,16 (29) марта. С. 1; Le Temps. 1914, 23 Fev. Р. 2; Ibid. 1914, 7 Mars. P. 1; Ibid. 1915, 15 Mars. P. 1; Ibid. 1914, 21 Mars. P. 1; Le Figaro. 1914, 7 Mars. P. 2; Le Matin. 1914,12 Mars. P. 1; Le Petit Parisien. 1914, 7 Mars. P. 1; The Times. 1914, 10 March. P. 7; Ibid. 1914, 12 March. P. 5; Ibid. 1914, 16 March. P. 9; The Fortnightly Review. Vol. 95. 1914, March. P. 618; The Economist. Vol. 78. 1914, 21 March. P. 702; The Contemporary Review. Vol. 105. 1914, April. P. 571–572; Сергеев Е.Ю., Улунян Ар. A. Указ. соч. C. 323.
82
Новое время. 1914, 16 (29) апреля. С. 4; Там же. 1914, 23 апреля (6 мая). С. 4; Московские ведомости. 1914,14 (27) мая. С. 1; Там же. 1914,15 (28) мая. С. 1.
83
Новое время. 1913,12 (25) ноября. С. 3; Там же. 1913,13 (26) ноября. С. 3; Там же. 1913, 14 (27) ноября. С. 4; Там же. 1913, 20 ноября (3 декабря). С. 4; Там же. 1913,
6 (19) декабря. С. 5; Там же. 1913, 10 (23) декабря. С. 4; Там же. 1913, 29 декабря (1914, 11 января). С. 4; Там же. 1913, 30 декабря (1914,12 января). С. 4; Там же. 1914, 9 (22) января. С. 3; Le Temps. 1913, 26 Nov. Р. 2; Ibid. 1913,1 Dec. P. 2; Ibid. 1913, 20 Dec. P. 1; Ibid. 1914,4 Jan. P. 1; Ibid. 1914, 23 Jan. P. 1; Ibid. 1914, 29 Jan. P. 1; The Times. 1913, 29 Nov. P. 7; Ibid. 1913, 2 Dec. P. 7; Bestuzhev I. V. Russian Foreign Policy, February – June 1914 // 1914: The Coming of the First World War. New York, 1966. P. 92.
84
Политика Англии в отношении стран Антанты накануне Первой мировой войны подробно проанализирована в диссертационном исследовании А. Г. Сенокосова: Сенокосов А. Г. Англия и Антанта: на пути к военно-политическому союзу (1907–1914).: Дисс…. канд. ист. наук. М., 2005.
85
Новое время. 1913, 23 января (5 февраля). С. 5; The Times. 1913, 30 Jan. Р. 5; The Fortnightly Review. Vol. 93. 1913, Jan. P. 32–35; Neilson К. E. Wishful Thinking: The Foreign Office and Russia, 1907–1917 // Shadow and Substance in British Foreign Policy, 1895–1939. Edmonton, 1984. P. 158.
86
Archives du Ministere des affaires etrangeres [Далее – АМАЕ]. Correspondance politique et commerciale, 1896–1918. Nouvelle serie. Grande Bretagne. Vol. 22. P. 265–267; АВПРИ. Ф. 139. On. 476. 1914 г. Д. 587. Л. 233–237, 244; Там же. Ф. 133. On. 470.1914. Д. 323/327. Л. 15; Новое время. 1914, И (24) апреля. С. 4; Там же. 1914,12 (25) апреля. С. 4; Le Temps. 1914, 8 Avril. Р. 1; Ibid. 1914, 22 Avril. P. 1; Ibid. 1914, 25 Avr. P. 1; Ibid. 1914, 25 Mai. P. 1; Le Figaro. 1914, 24 Avril. P. 1; The Times. 1914, 8 Apr. P.9.
87
AMAE. Correspondance politique et commerciale, 1896–1918. Nouvelle serie. Grande Bretagne. Vol. 22. P. 165–166, 174–176; The Contemporary Review. Vol. 105. 1914, June. P. 868–869.
88
Archives nationales [Далее – AN]. F. 7.13335. Contre les armements, contre la loi de 3 ans, contre tout militarisme. Mai 1913; Ibid. Laisant C.-A. Contre la loi des trois ans; Ibid. F. 7.13336. La Bataille Syndicaliste. 1913, 7 Mars; Ibid. 1913, 9 Mars; Ibid. 1913, 18 Mars; L’Humanite. 1913, 24 Fev. P. 1; Ibid. 1913, 25 Fev. P. 1; Ibid. 1914, 3 Mars. P. 1; Ibid. 1913,4 Mars. P. 1; Ibid. 1913, 6 Mars. P. 1; Ibid. 1913,13 Mars. P. 1; Ibid. 1913,15 Mars. P. 1.
89
AN. F. 7.13335. Paris. 1913, 26 Mars; Ibid. 1913, 8 Avril; Ibid. 1913, 20 Mai; Ibid. 1913, 24 Mai; Ibid. 1913, 27 Mai; L’Humanite. 1913,13 Mars. P. 1.
90
Антюхина-Московченко В. И. Указ. соч. С. 403.
91
Партийно-фракционный состав IV Государственной думы выглядел следующим образом: из 442 мест правые получили 65, националисты и умеренно правые – 120, октябристы – 98, прогрессисты – 48, кадеты – 59, национальные группы – 21, трудовики – 10, социал-демократы – 14, беспартийные – 7. (Эти цифры дает советский историк Ф. И. Калинычев в монографии «Государственная дума в России». М., 1957. С. 489). Аналогичные данные приводит в своей работе современный исследователь Д. С. Лавринович, который пишет, что в IV Государственной думе в зависимости от ситуации формировалось два блока: правоцентристский, объединявший 283 депутата, и левоцентристский из 226 депутатов. (Лавринович Д. С. Либеральноконсервативная оппозиция в России: формирование и борьба за власть, 1912 – март 1917 гг. Могилёв, 2006. С. 29–34).
92
Новое время. 1913,13 (26) ноября. С. 3; Там же. 1913, 6 (19) декабря. С. 5; Там же. 10 (23) декабря. С. 4; Там же. 1913, 29 декабря (1914, И января). С. 4.
93
АВПРИ. Ф. 138. Оп. 467.1914 г. Д. 323/327. Л. 9.
94
Le Temps. 1914, 30 Juin. Р. 1; Le Figaro. 1914, 29 Juin. P. 1–2; Ibid. 1914, 30 Juin. P. 1–2; Le Petit Parisien. 1914, 29 Juin. P. 1; Le Matin. 1914, 29 Juin. P. 1; The Times. 1914, 29 June. P. 8; Ibid. 1914, 30 June. P. 9; The Annual Register. A Review of Public Events at Home and Abroad. For the Year 1914. London, 1915. P. 138.
95
Hale O.J. Publicity and Diplomacy, with Special Reference to England and Germany. London, 1940. P. 446.
96
Le Temps. 1914, 30 Juin. P. 1; Le Matin. 1914, 29 Juin. P. 1.
97
АВПРИ. Ф. 139. On. 476. 1914 г. Д. 588. Л. 2; Le Temps. 1914, 1–8 Juil; Сазонов C. Д. Воспоминания. Мн., 2002. C. 164–165.
98
Carroll M. E. French Public Opinion and Foreign Affairs. London, 1931. P. 286.
99
Le Temps. 1914, 2 Juil. Р. 2.
100
Le Figaro. 1914,1 Juil. P. 2; Ibid. 1914, 4 Juil. P. 2.
101
Le Matin. 1914, 30 Juin. P. 1; Ibid. 1914, 5 Juil. P. 1.
102
Le Temps. 1914, 8 Juil. P. 2.
103
Steiner Z. S. Britain and the Origins of the First World War. Basingstoke, 1977. P. 220.
104
Le Temps. 1914, 2 Juil. P. 1; Новое время. 1914, 1 (14) июля. С. 4; Сазонов С. Д. Воспоминания. Мн., 2002. С. 164.
105
Сазонов С. Д. Указ. соч. С. 165.
106
Le Figaro. 1914, 7 Juil. Р. 2.
107
Carroll М. Е. Op. cit. Р. 288; Hale О. J. Op. cit. Р. 446..
108
Hale О. J. Op. cit. Р. 446; Keiger J.F. V. Britain’s “Union Sacree” in 1914 // Les Societes europeennes et la guerre de 1914–1918. Paris, 1990. P. 40; Nomicos E. V., North R. C. International Crisis: The Outbreak of World War I. London, 1976. P. 44.
109
Keiger J.F.V. France and the Origins of the First World War. London, 1983. P. 145.
110
Joll J. The Origins of the First World War. New York, 1984. P. 172.
111
Новое время. 1914, 5 (18) июля. С. 4; Там же. 1914, 9 (22) июля. С. 3; Le Temps. 1914, 21 Juil.P. 1.
112
Подробнее об этом см.: Палеолог М. Царская Россия накануне революции. М., 1991. С. 31–44.
113
АВПРИ. Ф. 139. Оп. 476. 1914 г. Д. 588. Л. 7, 10, 72–73; Новое время. 1914, 8 (21) июля. С. 1–2; Там же. 1914, 9 (22) июля. С. 3; Там же. 1914, 10 (23) июля. С. 3; Le Temps. 1914, 21 Juil. Р. 1; Ibid. 1914, 22 Juil. P. 1; Ibid. 1914, 23 Juil. P. 1.
114
АВПРИ. Ф. 139. On. 476.1914 г. Д. 588. Л. 10.
115
The Times. 1914, 24 Jul. P. 7.
116
Ibid.
117
АВПРИ. Ф. 133. On. 470.1914 г. Д. 10. Л. 7; Hale O. J. Op. cit. P. 450.
118
АВПРИ. Ф. 139. Оп. 476.1914 г. Д. 588. Л. 12–13.
119
Новое время. 1914,12 (25) июля. С. 2.
120
Московские ведомости. 1914,13 (26) июля. С. 1.
121
АВПРИ. Ф. 139. Оп. 476.1914 г. Д. 588. Л. 13.
122
Carroll М. Е. Op. cit. Р. 296–297..
123
Le Temps. 1914, 25 Juil. Р. 1; Ibid. 1914, 26 Juil. P. 1.
124
Le Figaro. 1914, 25 Juil. R 1.
125
Le Matin. 1914, 25 Juil. P. 1.
126
АВПРИ. Ф. 133. On. 470.1914 г. Д. 10. Л. 7.
127
Там же. Ф. 139. On. 476.1914 г. Д. 588. Л. 76–77.
128
Там же. Л. 77.
129
Там же. Л. 77; Ф. 133. Оп. 470.1914 г. Д. 10. Л. 7.
130
The Times. 1914, 25 Jul. Р. 9.
131
Ibid.
132
АВПРИ. Ф. 139. Оп. 476.1914 г. Д. 588. Л. 14–17.
133
Новое время. 1914,13 (26) июля. С. 4.
134
Там же. 1914,13 (26) июля. С. 4.
135
АВПРИ. Ф. 133. Оп. 470.1914 г. Д. 10. Л. 13.
136
Le Temps. 1914, 27 Juil. Р. 1.
137
Ibid
138
Carroll М. Е. Op. cit. Р. 298.
139
AN. F. 7. 13348. L’Humanite. 1914, 27 Juil.; Ibid. La Bataille Syndicaliste. 1914, 26 Juil., Ibid. 1914, 27 Juil.
140
Ibid. La Bataille Syndicaliste. 1914, 26 Juil.
141
АВПРИ. Ф. 133. On. 470.1914 г. Д. 378. Л. 84,125; Там же. Д. 9. Л. 20, 26.
142
АВПРИ. Ф. 133. Оп. 470.1914 г. Д. 378. Л. 84.
143
Там же. Д. 10. Л. 13.
144
Там же.
145
The Times. 1914, 27 Jul. Р. 7.
146
АВПРИ. Ф. 133. Оп. 470.1914 г. Д. 10. Л. 13.
147
Там же. Ф. 139. Оп. 476.1914 г. Д. 588. Л. 81.
148
Там же. Ф. 133. Оп. 470.1914 г. Д. 10. Л. 15.