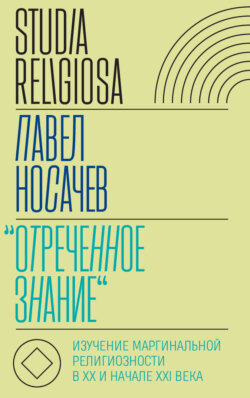Читать книгу «Отреченное знание». Изучение маргинальной религиозности в XX и начале XXI века. Историко-аналитическое исследование - Носачёв Павел - Страница 9
ЧАСТЬ 1
Мистоцентрический подход
Глава 1
Мистоцентризм и религионизм
ОглавлениеДля начала стоит отметить, что исследования западного эзотеризма не развивались в научном вакууме, они глубоко укоренены в религиоведческих, культурологических, исторических, философских и социологических теориях и без них не могут быть поняты. Так, первое направление исследований, выделенное нами в этой работе, является частью большого религиоведческого движения, не столь сильно структурированного, но очень влиятельного, роль которого в развитии исследования религии в XX веке едва ли можно переоценить. В зарубежной науке это направление получило название «религионизм». В «Путеводителе для запутавшихся» В. Ханеграафф охарактеризовал основные черты религионизма следующим образом: это течение
опирается на убежденность в том, что универсальное, скрытое, эзотерическое измерение реальности действительно существует. Научные методы, однако, являются «экзотерическими» по самому своему определению и могут изучать только то, что эмпирически доступно наблюдателям, независимо от их личных убеждений; академия, таким образом, не имеет инструментов для получения прямого доступа к истинной и абсолютной природе реальности…25
Иными словами, это течение признает несводимость религиозных феноменов ко всем возможным проявлениям человеческой жизни, утверждает реальность центра религиозной жизни (того, который Р. Отто назвал нуминозным), описывает возможности некой связи с этим центром и подчеркивает невозможность постичь суть религии с помощью стандартизированного инструментария современной науки. Религионизм, как широкое явление интеллектуальной культуры первой половины XX века, вобрал в себя целый ряд течений. Во-первых, это различные формы интегрального традиционализма – эзотерического учения, ставящего своим центром представление о наличии единой надрелигиозной традиции, чьи следы теряются в глубине веков, получить доступ к которой могут лишь избранные26. Во-вторых, это классическая феноменология религии. В-третьих, это круг Эранос. Именно круг Эранос сыграл ключевую роль в распространении и развитии религионизма в XX веке, именно в его рамках традиционализм и классическая феноменология религии были объединены с психологией К. Г. Юнга. Поскольку религионизм – достаточно широкое явление, имеющее определенные связи с западным эзотеризмом, но все же не сводящееся ни к его выражению, ни к его изучению, то мы обратимся к той части религионистского движения, в которой главным объектом исследования стал западный эзотеризм. Для удобства обозначим эту часть мистоцентрическим подходом в исследовании западного эзотеризма.
Термин «мистоцентризм» был предложен Стивеном Вассерстромом как характеристика общего религиоведческого подхода исследователей круга Эранос, преимущественно Мирчи Элиаде, Гершома Шолема и Анри Корбена. Характеризуя мистоцентризм как метод, Вассерстром пишет:
Эранос стремился […] создать мистоцентрическую концепцию религии… Суть религии, таким образом, должна быть найдена в религиозном опыте […] ядром религиозного опыта, в свою очередь, считается опыт мистический… И проблема здесь вовсе не в том, что мы избираем традицию в качестве проводника, а в том, что мы делаем это некритически27.
При всей неоднозначности работы Вассерстрома28, такое определение подхода круга Эранос к исследованию западного эзотеризма представляется удачным. В особенности хотелось бы обратить внимание на последнее предложение, которое является определяющим в характеристике методологии мистоцентризма. Коку фон Штукрад проще и более образно выразил базовую тенденцию членов круга следующими словами: «Гершом Шолем, Анри Корбен, Мирча Элиаде, Мартин Бубер и Карл Густав Юнг сами были частью движения против „расколдовывания“ мира»29.
В лице основных представителей Эранос мы впервые сталкиваемся с попыткой серьезного подхода к исследованию отдельных сфер западного эзотеризма. Причем подход этот не спорадический, а сформированный в рамках целой школы30 мыслителей, одной из важных характеристик которой и является исследование западного эзотеризма. В дальнейшем мы бы хотели подробнее остановиться на нескольких представителях круга Эранос – К. Г. Юнге, М. Элиаде и Г. Шолеме. Именно они, по общему мнению, были первыми, кто серьезно поставил вопрос об изучении западного эзотеризма в XX веке. Обычно в ряд с указанными мыслителями ставят и Анри Корбена31. Этот известный исследователь ислама был близким другом Элиаде и Шолема и в значительной степени разделял их идеи и представления. Но для нашего исследования Корбен не подходит по одной простой причине: его сложно назвать ученым, он был эзотериком, «гностиком», изучавшим различные традиции, то есть в фигуре Корбена, в отличие от Элиаде, Шолема и Юнга, как мы продемонстрируем далее, граница между исследователем и исследуемым явлением была стерта почти полностью. В подтверждение приведем слова самого Корбена, недвусмысленно характеризующие его мировоззрение:
…для всех должно быть очевидно, почему мы ассоциируем концепцию гнозиса со взглядом огненных глаз. Взгляд гнозиса визионерский, а не теоретический, он причастен к видению пророков, глашатаев Невидимого. Раскрыть «огненные глаза» – значит преодолеть все фальшивые и пустые оппозиции между верованием и знанием, между мышлением и бытием, между знанием и любовью, между Богом пророков и Богом философов. Гностики ислама в согласии с иудейскими каббалистами в особенности настаивали на идее «профетической философии». Именно в «профетической философии» и нуждается наш мир32.
Эта «профетическая философия», необходимая современному миру, есть не что иное, как весть, полученная просвещенными людьми, так называемыми новыми гностиками, в их внутреннем религиозно-мистическом опыте. Корбен считал себя именно таким гностиком и в своих друзьях видел единомышленников. Недаром им провозглашен лозунг «Гностики всех стран, соединяйтесь»33. Причем его гнозис был не личным внутренним увлечением. Для проведения «профетической философии» в жизнь Корбен на склоне лет, незадолго до исламской революции в Иране, организовал университет святого Иоанна Иерусалимского (L’universite de Saint-Jean de Jerusalem)34, который должен был стать центром новой учености. Элиаде и Шолем участвовали в его создании и работе35. Университет был центром, объединявшим представителей различных религиозных течений вокруг идеи противостояния современности и некоторых положений западного эзотеризма. Вот как описывается день его открытия 12 июля 1974 года: «Иудеи, посвященные в традицию каббалы, сидят рядом с мусульманами из Ирана и Мали, архиепископ Камбре и теологи всех послушаний делят неудобные скамьи с франкмасонами и другими масонскими членами»36.
Корбен стоит особняком от друзей, его устремленность в иные реальности нивелировала в глазах научного сообщества общезначимость большинства его трудов. Так, Артур Верслуис, характеризуя творчество Корбена-исламоведа, пишет:
Корбен, конечно, не является всеобщим любимцем в сфере исследований ислама, можно встретить множество научных работ по темам и личностям, о которых ранее писал Корбен, но в таких работах его имя редко будет упомянуто даже в именном указателе. Это отсутствие указывает на то, что ученые не рассматривают Корбена как историка. На самом деле, как справедливо указывает Вассерстром, Корбен сам видел себя в роли ученого-пророка. Он не позиционирует себя как традиционный историк, его вклад больше заметен в области, которую можно обозначить как антиисторическая духовная философия, то есть духовная или профетическая философия, которая преимущественно основана на преодолении истории37.
Современные исследователи считают, что Корбен ответственен за конструирование представления об исламском эзотеризме и за привнесение в исламоведение традиционалистских идей Генона и Шуона. Как известно, традиционалисты превозносили суфизм, видя в нем уникальное хранилище изначальной проторелигиозной духовной традиции. Корбен, используя их схему, перенес эти же характеристики на шиитский ислам, при этом почти полностью игнорируя духовное измерение суннизма. По мнению современной исследовательницы исламского эзотеризма Лианы Саиф38, у Корбена было три причины для этого. Первая – это эзотерическая интерпретация Корана через доктрину двенадцати имамов. Вторая – это выраженная подозрительность и враждебность среди шиитов по отношению к движению суфиев, возникшему в суннитской среде. И третья – это бинарная логика ереси и ортодоксии, с помощью которой он отыскивал гностические формы религии. Так, шиитские системы, по Корбену, испытали на себе заметное внеисламское влияние (например, зороастрийское). Это влияние наделяло шиизм особым гетеродоксальным статусом, включая его в единую для Эранос традицию гнозиса всех времен и эпох.
Воздавая честь кругу Эранос, Корбен писал, что члены круга были «гностическими умами»39. При всей кажущейся справедливости такого подхода необходимо более пристально взглянуть на творчество ближайших коллег Корбена, чтобы четче понять, ощутима ли в их творчестве грань, отделяющая «гностический ум» от трезвости ученого. Однако стоит заметить, что такая установка была задана кругу самой его основательницей. Ольга Фрёбе-Коптайн настаивала на том, что участники семинаров должны «идентифицировать себя с предметом исследования, для того чтобы обеспечить духовное соучастие или то, что она назвала Ergriffenheit, эмоциональную захваченность предметом исследования»40.
Такое романтичное отношение к своему предмету присуще не только Корбену; по мнению многих исследователей, оно имплицитно характерно и для других членов Эранос; можно сказать, что Эранос здесь есть лишь одна из форм выражения духа времени. Вассерстром не раз упоминает об этом в своей работе, но нам здесь хотелось бы обратиться к другой характеристике. В книге «Культура и смерть Бога», описывая состояние искусства начала XX века, Терри Иглтон рисует красноречивую картину духовных оснований трагического искусства эпохи. Представляется, что это описание вполне приложимо к той особой роли, которую приписывали себе члены Эранос:
Трагическое искусство – это вопрос богов, героев, воинов, мучеников и аристократов, а не заурядных граждан среднего класса. Опыт, описываемый этим искусством, во многом ограничен духовной элитой. Оно имеет дело с мифом, ритуалом, судьбой, виной, высокими преступлениями, искуплением и кровью, а не хлопчатобумажными мельницами и всеобщим избирательным правом. Оно вызывает квазирелигиозные чувства страха, благоговения, трепета и покорности. Трагедия – это все то, чего недостает современности: аристократичность, а не эгалитаризм, духовность, а не наука, абсолютность, а не условность, судьба, а не самоопределение…41
Таким образом, хорошо видна та особая рыцарская роль, которую должны играть те, кто рискнет вернуть трагическое в современный мир. Тем более если это трагическое вызывает не квазирелигиозные, а вполне религиозные чувства. Прежде чем перейти к рассмотрению отдельных персоналий, кратко охарактеризуем Эранос как сообщество исследователей.
25
Hanegraaff W. Western Esotericism: A Guide for the Perplexed. London: Bloomsbury Academic, 2013. P. 11.
26
Подробнее об этом см.: Сэджвик М. Наперекор современному миру: Традиционализм и тайная интеллектуальная история XX века. М.: Новое литературное обозрение, 2014.
27
Wasserstrom S. Religion after Religion. Princeton, 1999. P. 239.
28
Оговоримся, что Вассерстром во многом строит свое исследование именно на изучении биографий, используя информацию о личной жизни исследователей для создания рамки интерпретации их научного творчества. Не разделяя его подход в целом, мы все же считаем, что термин «мистоцентризм» удачно подходит для описания первого подхода к изучению западного эзотеризма.
29
Stuckrad K. Locations of Knowledge… P. 46.
30
Интересно, что в статье «Время Эранос» Анри Корбен иронизирует над попытками будущих исследователей редуцировать значение Эранос до рамок школы или направления (XIII). Для его участников круг был чем-то бóльшим.
31
См., например, общую композицию рассматриваемой ниже книги Вассерстрома.
32
Wasserstorm S. Religion after religion. P. 31.
33
Ibid.
34
Об истории и значении университета см.: Sedgwick M. Against the Modern World. New York, 2004. P. 156–157; Wasserstorm S. Religion after religion. P. 148, 210; Hakl H. T. Eranos. P. 276–277.
35
Томас Хакль характеризует деятельность университета, ссылаясь на его учредительные документы, следующими словами: «Несмотря на доминирующее христианское впечатление, выраженное в его мотивах, деятельность университета сосредотачивалась вокруг общего для всех трех „религий Книги“ – иудаизма, христианства и ислама. Изначальной целью было создание „духовного рыцарства“, противостоящего „беспорядку, возникшему в духе, душах и сердцах“ людей, „…ставшему результатом поражения западных секулярных институтов“. Однако цель университета лежит глубже, чем „простое замещение старых институций новыми“. Теология „смерти Бога“ не может быть принята, она сравнима лишь с „разрушением Храма“. Как борцы с „историцизмом и агностицизмом“ и другими оплотами, мешающими дарованию смысла в чисто врéменном, его участники осознают анахроничность своей миссии, „новое рождение“ – вот что действительно ожидалось ими» (Hakl T. Eranos. P. 276).
36
Ibid.
37
Versluis A. Reviewed on Religion After Religion. P. 289.
38
Saif L. What is Islamic Esotericism? // Correspondences. 2019. Vol. 7. № 1. Р. 1–59.
39
Corbin A. The Time of Eranos. London, 1958. P. XIV.
40
Gershom Scholem: The Man and His Work. New York: State University of New York Press, 1994. P. 22.
41
См.: Eagleton T. Culture and the death of God. P. 177.