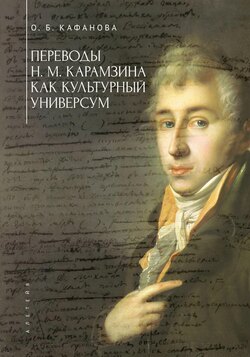Читать книгу Переводы Н. М. Карамзина как культурный универсум - О. Б. Кафанова - Страница 7
Часть I. Годы учения
Глава 3. Первый театральный перевод: «Эмилия Галотти» Лессинга
ОглавлениеПеревод «Эмилии Галотти» (1788) необычное явление для Карамзина, потому что он был сделан специально для театральной постановки трагедии78. Можно предположить, что более ранний перевод пьесы, выпущенный петербургским типографом Б. Ф. Брейткопфом в 1784 г., по мнению Карамзина, не удовлетворял этой цели79.
Таким образом, перевод «Эмилии Галотти» Лессинга заставил Карамзина задуматься о своеобразии драматического перевода, имеющего свои особенности по сравнению с переводами произведений для чтения.
Из краткого обращения «К читателю», предпосланного Карамзиным его переводу, выясняется, что существовал первый вариант, впоследствии им отвергнутый: «Переводив сию трагедию для представления на театре, спешил я перевести ее поскорее, и оттого не мог перевести исправно. После заметил я, что было переведено дурно и решился перевод мой исправить и напечатать, чтобы некоторым образом загладить поступок свой перед людьми, которые, зная истинные красоты драмы, любят Лессинговы творения и сожалели, что переводчик Эмилии Галотти не чувствовал многих красот сея трагедии, и потому и не показал их в своем переводе»80.
По-видимому, трагедия Лессинга, впервые представленная в 1786 г. в Петровском театре в Москве, основывалась на переводе Карамзина81. В настоящее время уточнена дата ее постановки – 22 ноября 1786 г.82. Скорее всего первый вариант перевода Карамзина был готов уже в конце 1786 г., а исправленная его редакция появилась в самом начале 1788 г (предисловие датировано 13 января)83.
В отличие от большинства предыдущих русских переводов комедий и драм Лессинга84, карамзинский перевод был на редкость полным: в нем сохранено точное деление на акты и явления, переданы все авторские ремарки и имена действующих лиц. В русском переводе 1784 г. персонажи страдали одинаковым косноязычием и пристрастием к казенно-канцелярским оборотам. Текст изобиловал архаизмами и высокими славянизмами («учиниться», «учреждать себя», «отсулить», «отверзты», «сей», «оный», «поелику», «толико», «ин», «инде»), германизмами («она взяла прибежище к чтению» – ср.: «Sie hat zu den Büchern Zuflucht genommen») и наивными неологизмами («придворный скакальщик» – «Hofmännchen»).
Карамзин не только исправил ошибки и неточности, допущенные его предшественником, но сумел избежать буквализмов и смешения стилей, свойственного его переводу «Юлия Цезаря»:
Лессинг
«Marinelli: Sie schienen gestern so weit entfernt, dem Prinzen jemals wieder vor die Augen zu kommen» (291)85.
Перевод 1784 г
«Вчера казалось, что вы так удалены, чтоб когда-нибудь государю на глаза казаться» (107).
Перевод Карамзина
«Казалось, что вчера были вы очень далеки от свидания с принцем» (96).
Карамзину удалось при всей верности оригиналу сделать речь действующих лиц живой и естественной. Из его собственного отзыва о постановке пьесы в театре видно, что более всего писатель ценил в Лессинге способность проникать во внутренний мир человека и создавать правдивые характеры, не только положительные (Одоардо, Аппиани), но и смешанные, противоречиво сочетающие в себе плохие и хорошие черты (принц, Орсина, Клавдия).
«Живое чувство истины», которое, по мнению Карамзина, дала немецкому драматургу «натура», проявилось и в речи действующих лиц, ситуационно и характерологически обусловленной. «Диалог же всегда так натурален, – отмечал он в рецензии, – что и актер и зритель может забыть – один, что он на театре, другой – что он в театре86.
В этом замечании косвенно указывался новый критерий оценки актерского мастерства, обусловленный сменой исполнительского стиля: декламационную статичность, принятую в театре классицизма, вытеснила экспрессивность. Все драматургические компоненты в целом способствовали эмоционально-психологическому воздействию на зрителей, т.е. главной, по его мнению, цели театрального представления. Карамзин подкреплял свой анализ текстом собственного перевода, в котором ему удалось передать психологизм автора.
Карамзинский перевод выдержан в едином стиле, ориентированном на разговорное начало. В нем преодолена затрудненность форм русской литературной речи XVIII в. и присутствует определенная экспрессивная дифференциация речевых характеристик. Необычность стиля перевода Карамзина была замечена современниками. По утверждению П. Н. Арапова, «Эмилия Галотти» была «первая <…> драма в хорошей разговорной прозе; она подвигла многих к переводам сценическим»87.
«Правильность» языка Карамзина вместе с тем ничуть не повредила передаче гражданского пафоса трагедии. Р. Ю. Данилевский, признавая художественные достоинства карамзинского перевода считает, что «несколько архаическое словоупотребление первого переводчика точнее передавало гражданскую патетику оригинала88. Однако, несмотря на смягчение отдельных грубых и бранных выражений («der Narr», «der Tor» – «безумный», «глупец»; «der Halunke» – «плут»), общая тональность перевода убедительно воссоздавала свободолюбивый смысл подлинника. Герои Лессинга и у Карамзина в полный голос утверждают свои человеческие права. Орсина «вопиет» об отмщении за свое поруганное чувство:
Лессинг
«Ha! (wie in der Entzückung) welch eine himmlische Phantasie! Wenn wir einmal alle, – wir, das ganze Heer der Verlassenen, – wir alle in Bacchantinnen, in Furien verwandelt, wenn wir alle ihn unter uns hätten, ihn unter uns zerrissen, zerfleischten, sein Eingeweide durchwühlten, – um das Herz zu finden, das der Verräter einer jeden versprach und keiner gab! Ha! Das sollte ein Tanz werden! Das sollte» (302).
Перевод Карамзина
«О! (в восторге). Какая небесная мечта! Когда бы мы все… все оставленные… превратясь в жриц Вакховых, превратясь в фурий, на него бросились, его растерзали, исторгнули его внутренность… чтобы найти то сердце, которое изменник обещал каждой из нас, но ни которой не отдал! О! Какая была бы радость! Какое торжество!» (115)
Трудно дать лучший вариант перевода этого страстного выкрика исступленной женщины89. Очень важно понять причины обращения Карамзина к этой пьесе Лессинга. Очевидно, еще совсем молодой литератор, он смог почувствовать своеобразие поэтики немецкого драматурга, до сих пор вызывющей разнообразные споры и интерпретации. Лессинг – безусловный просветитель, разделящий эстетику рационализма; однако он в то же время и разрушитель рационального изображения человека90.
Вся пьеса занимает особое место в драматургии этого, по мнению немецких литературоведов, умелого полемиста, размышляющего в своей теории драмы о двух главных понятиях – «страхе» и «сострадании». Лессинг сумел поставить в ней сложные вопросы и не дать окончательных ответов91. Не случайно Ф. Кох отметил иррациональность финальной сцены трагедии «Эмилия Галотти»92. Именно эта сцена стала центральной в карамзинском переводе. Эмилия в сцене свидания с отцом предстает смятенной, не понимающей себя. Она признается отцу в том, что не уверена в себе, полная соблазнов дворцовая жизнь и обольстительный принц могут ее увлечь к падению, поколебать ее нравственные принципы. Эта боязнь себя самой заставляет ее просить отца об избавлении от этого смятения в чувствах. И Одоардо, увидев Эмилию и услышав ее признания, поступает импульсивно, закалывая собственную дочь. Но эти иррацтональные порывы героев оборачиваются вполне осмысленным политичским протестом. Эмилия, по утверждению Г. Н. Бояджиева, «решается на смерть, потому что предпочитает честь бесчестию». Одоардо, не в меньшей степени, чем его дочь, является героем трагедии, носителем ее морального пафоса93. Вот этот синтез рационализма и иррационализма в поэтике пьесы Лессинга и был, по-видимому, чрезвычайно привлекательным для Карамзина, который сумел средствами родного языка передать постепенное перерастание семейной проблематики в общественную. Гневным обвинением деспотизму звучат последние слова Одоардо:
Лессинг
«Ich gehe und liefere mich selbst in das Gefängnis. Ich gehe und erwarte Sie als Richter. – Und dann dort erwarte ich Sie vor dem Richter unserer aller!» (318).
Перевод Карамзина
«Я сам пойду в темницу. Пойду и буду ожидать там вас как судию… А потом… потом… буду ожидать вас перед всеобщим судиею нашим» (141).
На основании карамзинского отзыва о постановке «Эмилии Галотти», в котором главное внимание уделялось эстетическим и психологическим проблемам, многие исследователи утверждали, что он в своем переводе приглушил социальную направленность трагедии94. Однако он не только не «смягчил» идейный пафос трагедии Лессинга, но, напротив, усилил его по сравнению с предшествующим переводом. Заметнее всего это ощущается в монологе Одоардо, возмущенного беззаконными поступками принца, который, влюбившись в Эмилию, велел поместить девушку в своем дворце, предварительно устранив ее жениха:
Лессинг
«Wie? – Nimmermehr! – Mir vorschreiben, wo sie hin soll? – Mir sie vorenthalten? Wer will das? Wer darf das? – Der hier alles darf? Was er will? Gut, gut, so soll er sehen, wie viel auch ich darf, ob ich es schon nicht dürfte! Kurzsichtiger Wüterich! Mit dir will ich es wohl ausnehmen…» (308).
Перевод 1784 г
«Как? – нет, никогда! Мне предписывать, где ей жить? Отымать ее у меня? Кто это хочет – кто это осмеливается? тот, кто все здесь смеет делать, что хочет. Добро, добро! Так увидите же и то, что я смею, хотя б я и не смог сметь! Неосторожный преступник! с тобою мы переведаемся…» (141).
Перевод Карамзина
«Как!… мне предписывать, куда ей ехать… У меня отнимать ее? Кому? Кто смеет так думать?… Тот, кто здесь все то делать смеет, что захочет? хорошо! Пусть же увидит, что и я делать смею, хотя я и не государь! Слепой тиран! Я переведаюсь с тобою…» (124).
Анонимный переводчик оказался осторожнее Карамзина, ни разу не употребив слова «тиран», в то время как Карамзин специально ввел отсутствующее у Лессинга слово «государь», недвусмысленно подчеркивая, что обвинение направлено против самого монарха.
Карамзин, таким образом, ясно и эмоционально убедительно передал тираноборческий пафос трагедии и реализовал весь драматургический потенциал оригинала, используя при переводе лексику, синтаксис и пунктуацию, способствовавшие общей психологизации стиля. Вместе с тем пьеса была приближена к условиям постановки на российской сцене. Принц, например, обращался у Карамзина не только к Маринелли, своему ближайшему слуге, но и к живописцу Конти на «ты», что соответствовало русским обычаям общения монарха с подчиненными, тогда как у Лессинга в обоих случаях вежливая форма.
Ни разу не переиздававшийся перевод оказался поразительно живучим. Спектакль, поставленный в 1786 г. в московском, т.е. более демократическом по сравнению со столичным, театре, сохранялся в репертуаре до 1802 г. и приобрел «большое общественное и художественно значение»95. В 1831 г., когда на основе карамзинского же перевода96 (и это спустя почти полвека!) «Эмилия Галотти» была возобновлена на петербургской сцене, цензура потребовала ее сокращения.
Развернутую характеристику трагедии Карамзин дал в рецензии на театральную постановку пьесы. Знаменательно, что она помещена в первой книжке «Московского журнала», как бы знаменуя ориентацию всего журнала на глубокий психологизм и новые преромантические тенденции в искусстве:
«Не много найдется драм, которые составляли бы такое гармоническое целое, как сия трагедия, – в которых бы все приключения так хорошо связаны и все характеры так искусно изображены были, как в “Эмилии Галотти”. Главное действие возмутительно, но не менее того естественно. <…> Что принадлежит до характеров, то не знаю, в каком наиболее удивляться искусству авторову. Гордый, благородный Одоардо; чувствительная, пылкая Эмилия; сладострастный, слабый, но притом добродушный принц, могущий согласиться на великое злодеяние, когда то способствует удовлетворению его страсти, но всегда достойный нашего сожаления; Маринелли, злодей по воспитанию и привычке; Орсина, от ревности с ума сошедшая, но умная в самом своем сумасшествии; Клавдия, слабая женщина, но нежная мать; граф Аппиани, которого зритель любит еще прежде, нежели он на сцену выходит, и который обнаруживает в себе столько чувствительности и любви в разговоре с Эмилиею и столько благородства в ссоре с Маринелли; советник Камилло Рота, который, сказав только несколько слов, заставляет нас почитать в себе мужа редкой добродетели; ученый живописец с своею пластическою натурою и с Рафаэлем без рук; честный разбойник и убийца и, наконец, всякий слуга, который выходит на сцену, – все, все показывает, что автор наблюдал человечество не два дни, и наблюдал так, как не многие наблюдать удобны; что натура дала ему живое чувство истины, которое и автора и человека делает великим»97.
Своим переводом и рецензией на постановку трагедии Карамзин привлек внимание И. Х. Буссе, издателя петербургского «Journal von Russland». Не найдя в его труде прямых следов влияния немецких эстетиков, он удивился его оригинальности. «Как глубоко иностранец должен был постичь своеобразнейший дух немецкого языка и искусства драмы, чтобы так суметь оценить “Эмилию Галотти”!», – с восхищением писал он98.
Позднее, рецензируя в «Московском журнале» спектакли московского театра, в репертуаре которого было много переводных пьес, Карамзин постоянно обращал внимание на качество драматического перевода. Критерии его оценки вытекали из специфики театрального воздействия, непосредственного и эмоционального.
78
В сокращенном виде анализ перевода опубликован: Kafanova O. B. Nikolay Michaylovič Karamzin (1766–1826) // Wegbereiter der deutch-slawischen Wechselseitigkeit. Berlin: Akademie Verlag, 1983. S. 167–174.
79
Емилия Галотти, трагедия в пяти действиях господина Лессинга, переведена с немецкого госп. А. СПб., Печатана у Брейткопфа, 1784. – 162 с. (Ниже ссылки на перевод даются с указанием страниц в тексте). По мнению Г. А. Гуковского, перевод выполнен Г. Апухтиным. См.: Гуковский Г. А. Очерки по истории русской литературы и общественной мысли XVIII века. Л.: «Художественная литература», 1938. С. 247. Это предположение кажется обоснованным, поскольку перевод подписан инициалом «А». Однако Г. М. Фридлендер, вслед за Н. Н. Бахтиным, приписывает перевод В. А. Петину. (Фридлендер Г. М. Лессинг: очерк творчества. М.: ГИХЛ, 1957. С. 234).
80
Эмилия Галотти, трагедия в пяти действиях, сочиненная Лессингом. Перевод с немецкого. М.: В унив. типографии у Н. Новикова, 1788. С. 2. (Ниже страницы перевода даются в тексте).
81
Асеев В. Н. Русский драматический театр от его истоков до конца XVIII века. М.: Искусство, 1977. С. 451.
82
История русского драматического театра: в 7 т. Т.1. От истоков до конца XVIII века. М.: Искусство, 1977. С. 483.
83
Если же допустить, что в 1786 г. «Эмилия Галотти» была поставлена по тексту анонимного перевода, тогда непонятно, почему Карамзин замечал, что «спешил» перевести трагедию «скорее» для «представления на театре». Кроме того, маловероятно, что московская труппа почти одновременно использовала два разных перевода.
84
См.: Данилевский Р. Ю. Г. Э. Лессинг и Россия: Из истории русско-европейской культурной общности. СПб.: Издательство «Дмитрий Буланин», 2006. С. 15–39.
85
Текст трагедии приводится по изданию: Lessing G. E. Gesammelte Werke. Berlin; Weimar: Aufbau Verl., 1968. Bd. II. S. 239–318. Ниже страницы указываются в тексте.
86
Московский журнал, 1791. Ч. 1. Кн. 1, январь. С. 73. Любопытно, что во втором издании «Московского журнала» Карамзин выразился иначе, словно желая пояснить, чтó он подразумевает под «натуральностью». Ср.: «Разговор же всегда так пристоен к месту и к лицам…» (1802. Ч. 1. Кн. 1, январь. С. 77).
87
Арапов П. Н. Очерк постепенного хода и усовершенствования русского театра //Драмматический альбом с портретами русских артистов и снимками с рукописей. М.: В Университетской тип. и В. Готье, 1850. С. LVI.
88
Данилевский Р. Ю. Г. Э. Лессинг и Россия. С. 33.
89
Уже отмечались исключительные достоинства перевода Карамзина и его способность выдержать сравнение с переводами, появившимися столетием позже. См.: Шибанов И. П. Творчество Лессинга в оценке русской революционно-демократической критики // Известия Воронежского гос. пед. ин-та. 1956, Т. XXI. С. 167; Ковалевская Е. Г. Иноязычная лексика в произведениях Н. М. Карамзина // Материалы и исследования по лексике русского языка XVIII века. М.; Л.: Наука, 1965. С. 233.
90
Dilthey W. Das Erlebnis und die Dichtung: Lessing, Goethe, Novalis, Hölderlin. Vier Aufsätze. Leipzig: Druck und Verlag von B. G. Teubner, 1906; BaeumlerA. Kants Kritik der Urteilskraft, ihre Geschichte und Systematik. Bd. I. Das Irrationalitätsproblem in der Aesthetik und Logik des 18. Jahrhunderts bis zur Kritik der Urteilskraft. Halle: M. Niemeyer, 1923; Mann O. Lessing. Sein und Leistung. Hamburg: Schröder, 1948; Krause S. Das Problem des Irrationalen in Lessings Poetik. (Dissertation). Köln, 1962; Перфильева З. Е. Иррациональное в эстетике и драматургии Г. Э. Лессинга. Диссертация и автореферат по ВАК РФ 10.01.03 канд. филол. наук, 2009, Самара; Lessing und die Sinne. Herausgegeben von Alexander Košenina und Stefanie Stockhorst. Hannover: Wehrhahn Verlag, 2016.
91
Dreßler T. Dramaturgie der Menschheit – Lessing. Stuttgart. Wimar: Verlag J. B. Metzler, 1996. S. 245–324.
92
Koch F. Lessing und der Irrationalismus // Deutsche Vierteljahresschrift für Wissenschaft und Geistesgeschichte. Bd. VI, 1928. S. 114–143.
93
Бояджиев Г. Н. Немецкий театр // Бояджиев Г. Н. История западноевропейского театра. Т. 2. С. 480.
94
См.: Мордовченко Н. И. Русская критика первой четверти XIX в. С. 31–32; Шибанов И. П. Творчество Лессинга в оценке русской революционно-демократической критики. С. 168; Кряжимская И. А. Театрально-критические статьи Н. М. Карамзина в «Московском журнале» // XVIII век. Сб. 3. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1958. С. 271; Кулакова Л. И. Эстетические взгляды Н. М. Карамзина // Русская литература XVIII века: Эпоха классицизма. М.; Л.: «Наука», 1964. С. 166; Кислягина Л. Г. Формирование общественно-политических взглядов Н. М. Карамзина (1785–1893). М.: Изд-во Моск. ун-та, 1976. С. 60.
95
История драматического театра. Т. 2. С. 127.
96
Там же. Т. 3. С.336. Новый перевод «Эмилии Галотти», выполненный А. Яхонтовым, появился лишь в 1865 г.
97
Московский журнал, 1791. Ч. 1. Кн. 1, январь. М. 63–73.
98
Journal von Russland, J. I, 1794. Bd. I, St. 4, Oktober, S. 255–256, 258.