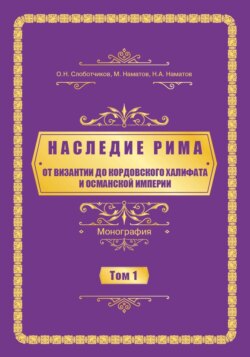Читать книгу Наследие Рима. Том 1. Oт Византии дo Кордовского Халифата и Османскoй империи - О. Н. Слоботчиков - Страница 5
3
Наследие Рима на востоке: Византийская империя
ОглавлениеРазделение Римской империи в 395 году и долгое правление Феодосия II, внука Феодосия «Великого», между 408 и 450 годами, составляют порог этой главы, которая завершается примерно в 960 году, когда Византийская империя достигает второй кульминации в еe истории. В течение этих пяти столетий восточная часть старой Империи выжила, хотя и выжила в условиях, с которыми историки расходятся во мнениях[96].
Для некоторых выживание общества старого стиля очевидно. То есть они считают, что продолжали существовать как публичные отношения между жителями, подчиняющиeмися власти императора, имеющего универсальное значение, так и городская система, способная поддерживать организующие функции сельского пространства своей территории и его связи между разными городами Империи.
Для других историков, однако, такое выживание касается только владения государственной властью, но это спорно, когда анализируются социальные особенности Империи, которые, по их мнению, были ослаблены и в конечном итоге изменены в результате кризиса VII века.
Это, вместе с резким сокращением территорий Империи, будет характеризоваться деструктуризацией, но не уничтожением старого общества и государства. Именно восстановление государства и общества в длительный период кризиса иконоборчества (между 726 и 843 годами) откроет путь ко второй кульминации Византийской империи с македонской династией. И это на двух уровнях: внутренняя реструктуризация и внешнее расширение ее политического и культурного влияния на болгарский и русский миры в процессе, в котором военные усилия стимулировали концентрацию власти в руках аристократии.
В середине X века Византийская империя, уже полностью греческая, завершила свою собственную историю, став лидером греко-славянского христианства, существование которого, параллельно с усилением латино-германской территории на Западе, подтвердилo разделение культурного пространства Европы.
Великолепие Империи: время Юстиниана
Образ преемственности Византийской Империи неизбежно усиливается ее историей V и VI веков. В отличие от распада и варварства западного пространства, восточное не только продолжало демонстрировать признаки внутреннего единства, но и пыталось реинтегрировать всю древнюю Римскую империю.
Римское наследие в восточной части Империи
В 476 году, когда жизнь Империи угасла на Западе, на Востоке она показала характеры, которые должны были сделать ее узнаваемой на века: Греческая Империя, культурный, политический, городской, меркантильный и христианский. В результате раздела в 395 году онa занялa обширную территорию: от восточного побережья Адриатического моря до границы с Персией и от Дуная до африканской пустыни.
Еe доминирующий язык, греческий, сосуществовал с другими языками богатой литературной продукции, такими как коптский в Египте, иврит, арамейский и сирийский в Сирии или арабский язык на крайнем юго-востоке. Эти разные языки, особенно греческий, служили средством культурного самовыражения регионов с давними традициями использования письма и осуществления философских и богословских размышлений.
Политическая основа Империи была основана на прочности институтов и силе государственных дел, начиная с императора и кончая законом. Еe экономическая основа (и, в значительной степени, социальная) заключалась в широком слое мелких крестьянских собственников, поселившихся в деревнях, которые снабжали рынки крупных городов, которые, в свою очередь, давали тон Византийской империи, составляя важные центры торговли, управления и образования[97].
Обеспечение крупных городских центров стало одной из обязанностей государства, что объясняет государственный контроль над торговлей Империи. Эта империя, греческая, культурная, политическая, городская, меркантильная, наконец стала христианской, и во главе ее стоял Константинопольский патриарх, который практически вел себя как Папа на Востоке, хотя всегда подчинялся цезаропапистской власти императора.
Обоим приходилось иметь дело с неортодоксальными интерпретациями христианских догм, укоренившимися в некоторых регионах, где они стали питательной средой для политического сопротивления. В то время это было сделано арианством, которое считало, что второе лицо Троицы было создано Отцом и, следовательно, не было совечным ему, – доктрина, которая была осуждена еще в 325 году на Первом Вселенском Соборе в Никеe. Но большее влияние оказали несторианство и монофизитство.
Первoe усилилo человеческую природу Христа, устранилo состояние Девы как Матери Божьей и поставилo под сомнение универсальную ценность искупления, считая его делом человека, а не бога. Онo былo осужденo на Эфесском соборе в 431 году. Со своей стороны, монофизитство выступило против предыдущей ереси и защищало существование единой божественной природы во Христе, будучи осужденным на Халкидонском соборе в 451 году. Осуждение трех ересей имело место в соглашении Папы Римского и Патриарха Константинополя, но проблема продолжала существовать веками.[98]
Христиане Сирии (где процветало несторианство) и Египта (где укоренилось монофизитство) видели в этих еретических вариантах дополнение к своим отличительным признакам. Они были основаны на культурной индивидуальности, основанной на их собственном языке, и поощрялись соответственно апостольскими престолами Антиохии и Александрии, которые не хотели признавать превосходство Константинополя в церковной организации. Комбинация этих элементов создала постоянное центробежное напряжение в Византийской империи[99].
Чтобы противодействовать этому, император Зенон (477–491), получивший знак отличия, который Одоакр прислал ему из Италии в знак исчезновения Империи на Западе в 476 году, попытался достичь догматического баланса между православными и монофизитскими позициями. Он сделал это посредством Генотикона, или указа о единстве от 482 года, но его усилия не послужили успокоением восточных провинций Империи и не были приняты Папой, что привело к расколу между Церквями Рима и Византии, который продолжался сорок лет. Преемник Зенона, император Анастасий (491–518), получивший знаменитое письмо папы Геласия I, поддерживал политические и религиозные взгляды своего предшественника.
Император Юстиниан и его программа
В 518 году, после смерти императора Анастасия, в результате государственного переворота на императорский престол был возведен глава дворцовой стражи Юстин I (518–527), родом из Латинской Иллирии. Его правление послужит укреплению основ его племянника Юстиниана, которого он связал с троном и который после смерти дяди возглавит Империю между 527 и 565 годами.
Личность императора Юстиниана и его соратников с явной враждебностью отразил историк Прокопий Кесарийский в своей «Тайной истории». Он представил Юстиниана автократом, сторонником мельчайших деталей государственного управления и стойким защитником ортодоксии, определенной на Халкидонском соборе 451 года. Его жена Феодора выглядит как его противоположность: низкого социального происхождения, интуитивная и высококвалифицированная интриганка, промонофизитка, но так же, как и ее муж, осознает требования императорского пурпура[100].
Наконец, в качестве преданных слуг императора показаны генералы Нарсес и Белисарио, юрист Трибониано, архитектор законодательного собрания, и префект претория Хуан де Кападокия, глава администрации и финансового аппарата. Все они были ответственны за успехи первой части (примерно до 543–545 годов) правления Юстиниана, который, с другой стороны, встретил горькие разочарования во второй части. Программа единства народа и империи Юстиниана была основана на модели самодержавного императора, который взял на себя право принимать решения во всех сферах жизни своих подданных. Чтобы укрепить его образ, сложный придворный церемониал, который Греческая православная церковь включила в свою литургию, имел тенденцию отождествлять императора с самим Богом.
Храм Святой Софии, то есть Святой Премудрости, второго лица Святой Троицы, построенный Юстинианом, стал метафорой его собственных амбиций. Призыв предполагал определенное отождествление между воплощенным Богом (Христом) и представителем Христа на земле (императором).
Чтобы укрепить это, архитектура храма была самa сознательным изображением имперской власти и ее претензий на единство. Базилика вместе с императорским дворцом составляла символическое ядро столицы, которое, окруженное девятикилометровой стеной, представляло собой микрокосм Империи и гарантию ее выживания.
Законодательный сборник под руководством Трибониано пытался в области права и правительства быть инструментом развития программы имперского абсолютизма. Целью юридического сборника было собрать римскую традицию и согласовать ее с христианской, чтобы обеспечить Империи однородную основу. Его результатом стал Corpus Juris Civilis, состоящий из четырех частей. Кодекс Юстиниана написан на латыни, в котором собраны императорские указы, изданные Адрианом от II века до 533 года. Новеллы, или новые положения самого Юстиниана, написаны по-гречески Pandectas, это собрание текстов римских юристов и институты, пособие для студентов-юристов[101].
Сборник законов Юстиниана собрал наследие Нижней Римской империи, которое закрепило принципы централизации, разделения гражданской и военной власти, профессионализации чиновников и общего контроля за их деятельностью. Но вместе с принципами он унаследовал и свои слабости; в частности, двe: административный гигантизм и одержимость сбором налогов, которые позволили бы поддерживать империалистическую политику Юстиниана.
Интеллектуальное единство христианской базы, как это было определено Халкидонским собором 451 года, составляло, в свою очередь, идеологическую основу программы Юстиниана. Исходя из этого, император действовал в двух направлениях. Первoe имелo свой символ в закрытии в 529 году школы или академии Афин, последнего центра классической языческой культуры в Империи.
Второе привело к контролю, а иногда и преследованию монофизитов, евреев и манихеев с довольно ограниченными результатами. Монофизиты укрепили свои позиции в Сирии и Египте, где их религиозные разногласия стали составной частью сепаратизма, который в 630–640 годах облегчит мусульманам оккупацию этих территорий. Евреи сопротивлялись имперской политике контроля и дисквалификации и, когда мусульмане вошли в Империю, их приняли за спасителей.
Наконец, манихеи, преследуемые с начала правления Юстиниана, стали потенциальными пособниками персидских армий. Перед лицом и того, и другого лучшими агентами императора были, без сомнения, монахи. В своих монастырях в столице или в провинциях, некоторые из них сохранились до наших дней, например, монастыри святого Саввы в Палестине и святой Екатерины на горе Синай, монахи составляли мощную и постоянную группу давления в истории Византийскoй империи.
Городское оживление и сельский упадок
Общество Византийской империи, как и общество Римской империи, имело в городе и на определенной им территории базовую ячейку для организации пространства и системы власти. В течение V века и первых десятилетий VI века население византийских городов продолжало расти. Богатство Империи и забота государства о снабжении большeго населения стимулировали коммерческую деятельность как по региональным, так и по дальним маршрутам, доходившим до Китая. Увеличение благосостояния городов и расширение городских территорий привело, в свою очередь, к увеличению количества общественных работ, особенно в столице (стены, дворец, базилика), что способствовало перемещению людей из деревни в город[102].
Это больше касалoсь неквалифицированных рабочих, чем настоящих мастеров. Рядом с ними неконтролируемая толпа нищих и бродяг способствовала приданию городам жизненного тонуса. Оба использовали цирки Александрии и Антиохии, и прежде всего ипподром Константинополя, чтобы высвободить свою энергию и потребности. Эта толпа представляла угрозу власти, особенно в периоды нехватки поставок, как бы способствуя мятежу.
Это было продемонстрировано в 532 году, когда восстание под названием Ника поставило под угрозу трон Юстиниана. Если византийские города представляли собой потенциал для экономической энергии и административной организации, а также социальную угрозу, со своей стороны сельский мир был предоставлен своей собственной судьбе. Это вылилось в эмиграцию в города и усиление налогообложения крестьян.
Это начало оказывать те же эффекты, что и в III веке в западной части древней Римской империи, то есть потеря способности поддерживать публичное осуществление власти и концентрацию собственности в руках влиятельных людей, которые часто видели признание фискальной автономии в своих обширных владениях[103].
Таким образом, вторая часть правления Юстиниана, обремененная расходами на его экспансионистскую политику, характеризовалась определенной утратой общественного контроля над государством, по крайней мере в сельском мире, и социальным расколом между крупными как церковными, так и религиозными землевладельцами, мирянaми и мелкими крестьянaми. Они, в отличие от горожан, не участвовали в каких-либо зрелищных восстаниях, но их бегство в монастырь, армию, бандитизм или городa было признакaми определенного разрушения сельского мира.
Средиземноморская реинтеграция и ее провал
Программа Юстиниана единства, народа и Рима, внутренние последствия которой мы только что видели, преследовала очень точную цель: физическую реконструкцию единства древней Римской империи. Император намеревался воспользоваться динамикой роста своего королевства и тем, что, по его мнению, было хрупким политическим построением немцев на территориях с преимущественно римским населением, которые, как он думал, приветствовали бы восстановление старой Империи с радостью.
Попытки остготов Теодориха, который в начале VI века, казалось, хотел создать пангерманское пространство в западном Средиземноморье, подтолкнули Юстиниана к запуску своего проекта в 532 году, когда он преодолел восстание Ники и подписал «Вечный мир» с Персидской империей. Византийские операции в западном Средиземноморье начались в следующем году под командованием генералов Велизария и Нарсеса, которые в считаные месяцы уничтожили королевство вандалов в Северной Африке. В 534 году византийцы ступили на итальянский полуостров[104].
Поначалу прием, оказанный Папой и частью населения, которое в течение нескольких лет было напугано своими арианскими правителями, заставило византийцев задуматься о возможности повторного признания их североафриканского успеха. Обстоятельства вскоре изменились, и остготы со своим королем Тотилой оказали упорное сопротивление, которое вынудило византийцев вести так называемую готскую войну в течение тридцати лет. В ходе этого, в 554 году, византийцы не упустили возможности также вторгнуться в Испанию, где в течение семидесяти лет они занимали часть территории, а именно Балеарские острова и пространство между устьем рек Хукар и Гвадалквивир[105].
Юстиниановский проект реинтеграции в Средиземноморье тогда достиг своего пика, хотя повсюду на довольно временной основе. Действительно, в Африке имперским войскам пришлось столкнуться с серией берберских восстаний; в Италии «готская война» оставила страну в руинах, а ее жители тосковали по старым добрым временам ранних лет Теодориха; а в Испании монархи вестготов не прекращали своих усилий по изгнанию византийцев с территории.
Все это означало для них рост военных расходов, которые ни в коем случае не компенсировались и требовали значительного увеличения налогового бремени. В этих обстоятельствах возобновление персидской угрозы и приход к воротам Константинополя новых народов, таких как болгары, славяне и авары, высветили несоответствие между великолепием фасада Византийской империи и ослаблением ее полномочий и структуры. В то время, в 565 году, Юстиниан умер.
От Восточной Римской империи до Византийской империи
Между 565 годом, смертью Юстиниана, и 610 годом, вступлением на трон Ираклия и новой династией, жизнь Византийской империи высветила два факта. С одной стороны, этот Юстиниан был последним римским императором. С другой стороны, вторая часть его правления означала переход от старой «римской» цивилизации к новой «византийской» культуре. Отныне онa будет развиваться в ограниченном контакте с западом, в ожидании того, что произойдет на востоке, и готовa сохранить три наиболее важных элемента наследства Юстиниана: публичное право, богатую столицу и модель самодержавного и сакрализованного императора.
Конец «римской» мечты
Смерть Юстиниана в 565 году, казалось, ускорила два процесса, которые начинали ослаблять Византийскую империю: угроза внешних врагов и ухудшение внутренней социальной, политической и военной ситуации как из-за их присутствия, так и, прежде всего, из-за износа, вызванного средиземноморской политикой реинтеграции.
Внешние угрозы осуществляли авары, славяне и персы. Первые были народом турецкого происхождения, связанным с гуннами, которые из азиатских степей были перемещены на запад под давлением других кочевников. В 558 году авары получили разрешение селиться на землях Византийской империи[106].
Семь лет спустя они поселились на Паннонской равнине, откуда они изгнали лангобардов, которые направились в Италию, где их приход в 568 году ознаменовал начало потери своих позиций для византийцев, поселившихся там.
Славяне составляли группу народов, связанных друг с другом по языковым и культурным особенностям, которые исторические источники располагали в I и II веках на территории соприкосновения современной Польши и России. Их организация в задруги или семейные общины представляла более архаичный уровень социально-политического развития, чем у германцев IV века.
В начале VI века славяне переправились через Дунай и начали медленно проникать на юг. В конце того столетия их присутствие было уже значительным, особенно в Македонии, откуда они вели пиратскую деятельность на своих примитивных моноксилах, выдолбленных в стволах деревьев.
В VII веке Македония называлась Эсклавиния, что было признаком ее присутствия в этом районе. С этого момента заселение славян на Балканах стало иметь культурное значение для византийцев, подобное тому, которое германцы на Западе имели для римских провинциалов латинской сферы. Таким образом, если запад европейского континента становился латино-германским пространством, восток был районом развития греко-славянской культуры.
Персы были самой серьезной угрозой для Византийской империи, которая, чтобы отразить ее, в полной мере использовала свою дипломатию и финансовые ресурсы на восточном фронте. Юстиниан прекратил платить традиционную дань Персидской империи и предпринял политику объединения некоторых промежуточных царств, которые, как и небольшие буферные государства, были объединены между Персией и Византией, особенно Арменией[107].
Возобновление войны между двумя империями было немедленным. Византийским правителям пришлось увеличить размер своей армии и флота, привлекая наемников, многие из которых были иностранцами, что, усложняя человеческий состав Империи, требовало увеличения налогового давления на подданных.
В этой обстановке финансового бремени и милитаризации общественной жизни развивалось правление преемников Юстиниана, из которых Тиберий (578–582), Маврикий (582–602) и его убийца и преемник Фока (602–610) были солдатами, возглавлявшими фракции, которые служили выражением все более недовольного населения.
Новая социальная ситуация привела к двум важным последствиям. Во-первых, отказ от принципа разделения гражданских и военных функций; вместо этого экзархи свели их вместе. Во-вторых, строительство на берегах Красного моря и в верховьях Евфрата сети крепостей с помощью солдат-поселенцев под одинаково объединенным командованием военачальника[108].
Внешние угрозы, которые стимулировали эту милитаристскую реорганизацию Византийской империи, также способствовали процессу, который напоминал тот, который пережила западная часть древней Римской империи во время кризиса III и IV веков: поиск реальных гарантий со стороны населения, которое не доверялo способности государства защитить его. Этот поиск византийцами направлялся в основном двумя путями. Укрепление уз личной зависимости по отношению к богатым помещикам и вверения, окрашенное коллективной истерией, небесным покровителям, Христу, Богородице и святым, чьи изображения умножились на горячо почитаемыx иконax.
Кризис VII века
Недовольство населения Империи войнами, голодом и политическими преследованиями было капитализировано Ираклием (610–641), который сверг Фоку, занял императорский трон и основал новую династию. За сто лет, прошедшие между 610 и 717 годами, византийская жизнь была отмечена кризисом, затронувшим структуры Империи. Их ослабление, заметное после смерти Юстиниана, усилилось, когда с 630 года ислам стал официальной религией Персидской империи[109].
Вмешательство мусульман, быстро оккупировавших восточные провинции Византийской империи, потребовало новых военных действий.
Государственная власть, публичное право, организация городов из сельской среды, характерные для первых, были решительно ослаблены, а менталитет выживания с оттенком чудотворения, найдя прибежище в почитании образов, усилился.
В результате этого процесса в конце периода, в 717 году, Византийская империя предстала как нечто новое: меньшее, более связное, военизированное, сельское, частное, греческое. Одним словом, менее древняя, более средневековая Империя.
Горизонт постоянной войны
В VII веке Византийской империи пришлось проявить внимание к трем военным фронтам. На востоке традиционного персидского врага сменили мусульмане. На Дунайско-Балканском полуострове давление славян усилилось за счет болгар. А на западе вестготы Испании и лангобарды Италии изгнали или загнали в угол византийцев соответственно. Восточный фронт оставался решающим.
В 602 году, воспользовавшись внутренним кризисом, персы напали на Византийскую империю. На двадцать лет в их руки попали Каппадокия и Армения, Сирия и Палестина и, наконец, Египет. Если каждая потеря затрагивала честь византийцев, то падение Иерусалима от рук персов, взявших реликвию креста Христова, особенно оскорбило верующих, вызывая у населения Империи истинное чувство священной войны. В этой обстановке в 622 году началось византийское контрнаступление во главе с Ираклием, который вместо того, чтобы отвоевать каждую из потерянных провинций, решил напрямую атаковать центр Персидской империи.
В 628 году он вошел в ее столицу, разграбил ее сокровища, вернул оккупированные провинции, и прежде всего реликвию креста, которая была возвращена в Иерусалим. Дата (14 сентября) по-прежнему отмечается по христианскому календарю как праздник «Воздвижения Креста Господня». Два года спустя император Ираклий официально принял титул василевса, который изначально принадлежал персидскому монарху[110].
Таким образом, и как еще один симптом прогрессирующей эллинизации Империи, старые латинские титулы (император, цезарь, август) перестали иметь значение для византийцев. Его подданные вряд ли могли смаковать успехи Ираклия в борьбе с персами.
Мусульманская экспансия во главе с арабами началась в 632 году, и только четыре года спустя, в 636 году, византийцы потерпели поражение на берегу реки Ярмук, что стало началом их впечатляющего и необратимого отступления от исламской власти. За шесть лет Византия потеряла Сирию, Палестину и Египет; еще за двенадцать – часть его владений в Северной Африке и Армении; и вскоре после этого острова Родос и Кипр.
Наконец, в 673 году арабский флот осадил Константинополь, и через пять лет эта операция повторится. К счастью для Византии, необходимость oмейядского халифа уделять внимание другим направлениям, и прежде всего эффективность так называемого «греческого огня», горючей смеси, состоящей из нафты, серы и рыбы, которая не гасилось водой. Для метания «греческого огня» использовались медные трубы (на кораблях), ручные сифоны, «пламенные рога». И все это способствовал снятию осады столицы.
Эта относительная победа позволила ситуации между византийцами и арабами стабилизироваться на сорок лет. Дунайско-балканский фронт стал ареной трех процессов.
Первый – постепенное проникновение славян на юг, пока они массово не поселились в Македонии, которую переименовали в Cклавинию[111].
Второй – ослабление присутствия в регионе аварцев, уехавших на запад. В третьих, прибытие новых кочевых воинственных народов тюркского происхождения: хазар, остававшихся до середины X века в низовьях Волги, и болгар, призванных сыграть важную роль во внешней политике Византии в последующие века. Западный фронт потерял актуальность после смерти Юстиниана.
Отсутствие территориальной преемственности со всей Империей и серьезность угроз, которые нависают над ней с Востока, объясняют эту утрату. Таким образом, между 625 и 630 годами Византийская Испания перешла в руки испано-готов[112]. Византийская Африка была оккупирована арабами с середины VII века. Византийская Италия уменьшила свои размеры, которые, помимо Равенны, ограничивались Сицилией и несколькими прибрежными анклавами на юге полуострова. В этом последнем сценарии, столь же серьезнo для Византийской империи, как и территориальная потеря, была сепаратистская позиция экзарха Равенны, сопровождаемая его сближением с Папой Римским.
Признаки исторической прерывности
Обстоятельства, пережитые Византийской империей в VII веке, оказали серьезное влияние на общество до такой степени, что историки считают, что этот век явился разрывом преемственности в византийской истории. Его характеризовали три процесса: милитаризация, потеря удельного веса города и усиление сельского мира.
Милитаристская реорганизация Империи
по системе «тем»
Во главе каждой темы[113] стратег объединял гражданские и военные компетенции, чтобы быстро принимать решения воинственного характера. Под его командованием находились все жители округа, в частности стратиоты, разновидность крестьянских солдат, которые в разном количестве от шести до двенадцати тысяч были размещены в каждой темe, где у них были обязанности по защите.
Каждый из них имел в неотъемлемом узуфрукте аграрную эксплуатацию, которая должна была обеспечить им достаточный доход для обеспечения их содержания и содержания их военной техники в качестве всадника в доспехах. Несмотря на действующее публичное право и его институциональный характер, отношения стратиотов и стратегов приобретали черты личной связи. Не дойдя до тех, что были бы характерны для Западной Европы, система тем развила грани, которые формально напоминали феодализм[114].
Разрушение городской системы
Милитаризация жизни Империи с новой организацией в темах изменила традиционную административную функцию городов, теперь подчиненных непрерывным военным усилиям. Города потеряли демографический, экономический и, прежде всего, социальный и политический вес. Его важность во многом зависела от его статуса или места паломничества. Кризис, конечно, был короче, чем кризис городов Запада: два столетия спустя городское восстановление Византийской империи было очевидным, но на данный момент оно было довольно глубоким.
Укрепление сельского мира
Уменьшение численности населения Империи и, прежде всего, его постоянные перемещения из одного региона в другой, с помощью которого императоры пытались обеспечить верность подданных и защиту границ, привели к важным изменениям в сети поселений. Этому также способствовало создание многочисленных монастырских центров в сельской местности. Со своей стороны, консолидация системы тем и ее солдат-крестьян способствовала росту средних и мелких владений, что привело к укреплению деревень и их деревенских общин.
В начале VIII века Nomos georgikos, или Сельский кодекс, регулировал финансовую ответственность всех крестьян и уделял особое внимание заброшенным землям, которые периодически перераспределялись между владельцами каждой деревни. Распределение производилось пропорционально состояниям соседей, которые отдавали предпочтение наиболее сильным. В каждом селе была создана деревенская олигархия, бенефициарная для нужд соседей-должников. Под еe руководством крестьянские общины пытались сотрудничать в целях обеспечения выживания Империи, которая в конце VII века и из-за территориальных ампутаций, осуществленных арабами, уже была исключительно греческой.
Империя в обороне и спор образов
Система тем усиливала военную мощь провинций, особенно приграничных. Некоторые из его лидеров воспользовались обстоятельством 695 года, чтобы на короткое время занять место в армии и на императорском троне. В 717 году Леон, стратег Анатолии, сумел не только обосноваться на троне до 741 года, но и укрепить новую Исаврийскую династию. Этим открылся еще один период в политической истории Византийской империи, который историки не считают закрытым до 867 года, когда императорский трон заняла македонская династия.
История тех 150 лет между 717 и 867 годами, которые с социальной точки зрения, характеризовались прогрессом крупных владений в ущерб силе деревень, также предлагала три основных полюса интереса: война против внешниx врагов (арабы, хазары, славяне и болгары), расширение политической и культурной сферы Византии в сторону болгарского и славянского миров и ссора образов, то есть спор между иконоборцами, сторонниками их устранения, и иконописцами, защитниками их почитания и даже поклонения.
Спор по поводу изображений
Спор о характере изображений и поклонения им развивался в три основных этапа. Первый, между 726 и 787 годами, ознаменовал торжество иконоборчества. Второй, между 787 годом, когда II Никейский собор восстановил культ образов, и 815 годом, характеризовался успехом иконодулии. И третий, между 815 годом, когда он вернулся к иконоборчеству, и 843 годом, когда судебный процесс завершился окончательным триумфом защитников образов.
Окончательное разрешение конфликта повлекло за собой устранение источников, благоприятных для иконоборчества, что навсегда оставило важные аспекты того периода в тени. Ссора из-за изображений в Византийской империи была до некоторой степени неизбежна. Преданность им была гораздо более сильной на Востоке, чем на Западе. Некоторые изображения Христа, Богородицы и некоторых святых сами по себе породили настоящий культ икон. В VII веке поля сражений, осажденные города, монастыри и дома были заполнены изображениями, создавая атмосферу неистовой иконодулии. Особенно этому способствовали монастыри, в которых хранились самые популярные иконы, которым приписывали чудотворные способности, создавая поток паломничества и жертвоприношений.
Проблема усугублялась тем фактом, что с теологической точки зрения иконодулия была частью ортодоксии, которую до иконоборческого взрыва Церковь защищала как от монофизитства, так и от иудаизма и ислама, трех противников иконической традиции. С учетом этиx прецедентов, неудивительно, что самые сильные иконоборческие течения зародились на восточных границах Империи, которая в VIII веке жила в контакте с монофизитами, евреями и мусульманами. Эта религиозная интерпретация дискуссии об образах должна быть связана с политической интерпретацией[115].
Император, впервые запретивший иконы, Лев III Исавp, имел желание создать новую династию и провести политическое обновление. Религиозное выражение обеих волей было обнаружено в возвышении креста, что привело к параллельному преследованию образов. При этом Лев III Исавp противопоставил власть креста Христова силе образов святых, монополизированных монастырями, все более могущественными помещиками. Крест стал для самого императора эталоном единственной власти над другими властями, военными, гражданскими или церковными[116].
Первый иконоборческий период
Переворот в апреле 717 года позволил стратегу из Малой Азии захватить имперский трон, который он занимал под именем Льва III Исавp (717–741). За несколько месяцев новый император укрепил свои позиции, отразив два морских нападения арабов на Константинополь и остановив намерения болгар сделать то же самое с суши.
Его усилия помогли вернуть византийцам военную инициативу, утраченную восемьдесят лет назад. Это позволило новому императору предпринять первые шаги по реорганизации государства, которые затем охватили три основных аспекта. Закон, обнародованный в 726 году, Eklogé (выбор), обобщил издание Corpus Juris Civilis Юстиниана, включая усиление фигуры императора как законодателя, вдохновленного Богом[117].
Территориальное управление, с увеличением количества тем, имело целью уменьшить его размер и военную силу. И религиозная политика и начало иконоборческого движения приходится на 726 год[118]. Первым символическим актом было снятие образа Христа, завершающего дверь императорского дворца, и его замена крестом.
За этим последовало систематическое уничтожение изображений, против чего вожди иконописцев, почти всегда монахи, особенно Иоанн Дамаскин, выдвигали свои первые богословские аргументы. Его основа была найдена в неоплатонической концепции, согласно которой изображение является представлением, которое может помочь нам войти в духовный контакт с тем, кого он представляет, даже если образoм является Сам Бог, воплощенный во Христе.
Папы отказались принять иконоборческие тезисы, что привело к их конфронтации с императором, который поспешил отделить византийские епархии Италии и Иллирии от патриархата Рима, чтобы воплотить их в Константинопольском патриархате. Это решение укрепило традиционные добрые отношения между императором и византийским патриархом, против которых вместо этого боролись монахи. Вражда между иконоборцами и иконопочитателями достигла апогея в правление Константина V (741–775), который развязал систематические преследования защитников образов[119].
Такое отношение привело к окончательному разрыву с папством, которое нашло в франкском короле Пипинe Коротком (Pippinus Brevis) помощь, в которой он нуждался как против лангобардов, так и против вмешательства византийских властей. Это дало папе желанную независимость от Византии и подтвердило связь понтификата с судьбами Запада. Смерть императора Константина V положила конец жесточайшему периоду иконоборческих гонений. Пять лет спустя, в правление императрицы Ирины (780–802), они начали решительно затухать, и II Никейский собор 787 года положил конец иконоборчеству и торжеству иконоборчества[120].
В нем отцы совета установили в отношении изображений различие между их «почитанием», которое допускалось и поощрялось, и «поклонением» им, которое было запрещено. На соборе монахи, фанатичные иконописцы, согласились на компромисс в области богословия в обмен на навязывание своих критериев дисциплине духовенства и литургии; и, прежде всего, в обмен на создание общины монахов в восстановленном монастыре Студион в столице, которые стали знаменосцем непримиримой стороны иконопочитателeй.
Второй иконоборческий период
Никейский собор 787 года положил конец спору по поводу изображений, но не решил многочисленные проблемы, возникшие в результате шестидесятилетней конфронтации. Монахов можно было считать единственными полноправными победителями, потому что, со своей стороны, императрица Ирина,[121] поощрявшая культовое решение, начала испытывать серьезные трудности с удержанием власти. Именно необычность положения женщины во главе Империи была использована как в Западной Европе, так и в самой Византии.
На Западе Карл Великий использовал это как предлог чтобы считать имперский трон вакантным и следовательно предложил себя в качестве императора единой Римской империи 25 декабря 800 года[122].
В Византийской империи военачальники воспользовались неудачным положением императрицы[123], которая отравила своего мужа императора Льва IV Хазара в 780 году, ослепила сынa Константине VI, захватив самодержавную власть в империи, отстранили ее от престола в 802 г. и поставить на его место Никифора, главу имперской администрации. Затем Ирину сослали на Принкипо, а затем на остров Лесбос, где она умерла в 803 году.
Новый император (802–811), стремясь возобновить войну на разных фронтах, усилил два механизма, которые могли обеспечить их успех: сбор налогов и эффективные воины. Двойные усилия позволили ему расширить размеры армии, но не принесли ему большого успеха на поле боя. Действительно, разрушение Аварской империи Карлом Великим освободило болгар от давления, которое они испытывали на своем западном фронте, и позволило им сосредоточить свои атаки на Византийскую империю, столица которой снова была осаждена между 811 и 813 годами.
Ситуация была использована новым военачальником для захвата имперской власти. Новый император Лев V «Армянин» (813–820) сознательно принял во внутренней политике личность своего тезки Льва III и вернулся к иконоборчеству. В 815 г. начался второй период разрушения изображений, продолжавшийся до 843 г. и характеризовавшийся меньшей опасностью в отношении иконоборцев; возможно, потому, что новые атаки были погружены в процессе длительного всеобщего восстания, посредством которого они надеялись разрешить более глубокие проблемы в жизни Империи[124].
Среди них особо выделялись три. Растущая дихотомия между столицей и провинциями, некоторые из них, например Армения, имели черты, которые сегодня мы бы назвали националистическими. Соперничество стратиотов с приграничными гарнизонами. И появление некоторых видов религиозного экстремизмa, таких как павликиан, которые отвергали не только изображения, но также крест, таинства и церковную иерархию. Этот набор тревожных элементов в жизни Империи использовался мусульманами для продвижения позиций, особенно на островах Крит и Сицилия, которые они в конечном итоге займут. Слабости Империи имели некоторую компенсацию.
Среди них укрепление имперского самодержавия как определение закона, даже религиозного; укрепление отправления общественного правосудия; расширение емкости сбора, особенно на Балканах и Анатолии, что является признаком восстановления имперской власти; увеличение денежного обращения, свидетельствующее о растущей коммерческой активности, которая, в свою очередь, была основана на восстановлении городской жизни; и очевидное культурное проявление, видимое в деятельности таких людей, как патриарх Иоанн VII Грамматик, Лев Математик или молодой Фотий, который тогда написал свою Библиотеку, обзор содержания почти трехсот книг[125].
Эта серия успехов увенчалась восстановлением культа изображений, наложенного регентшей императрицей Феодорой в первое воскресенье Великого поста 843 года.
За пределами Византийской империи второй иконоборческий период оставил в качестве наиболее значительного балансa – очевидное ухудшение отношений между Церквями Константинополя и Рима. Решающим признаком отчуждения между ними стал спор между Папой Николаем I и Патриархом Фотием, закончившийся в 867 г. взаимным отлучением от церкви, что явилось первым явным и формальным разрывом между двумя Церквями. Как и в предыдущих случаях замаскированного раскола, причины разделения были разными, хотя, наряду с взаимной ревностью к иерархии в Церкви, очевидно, что корнем оставалась оппозиция доктрине о Святом Духе (Filioque). Если у греков он «исходит от Отца через Сына» то у латинских он «исходит от Отца и Сына»[126].
В конечном счете, два периода иконоборческой борьбы характеризовались интеллектуальным и жизненно важным отступлением Византийской империи в ее физические и духовные границы, что способствовало обострению своеобразия ее черт. Со своей стороны, девять лет между 858 и 867 годами, когда противостояние между римским папством и патриархатом Константинополя развилось в результате раскола, были в то же время решающими для непосредственной истории Византии и симптомами будущего из Восточной Европы. Действительно, четыре события этого десятилетия ознаменуют его. Во-первых, это религиозный раскол. [127]
Второй – появление впервые в 860 году русских кораблей под стенами Константинополя. Третий – деятельность византийских миссионеров; как тех, кто проповедовал в Болгарии, чей государь Борис был крещен именем (Михаил) самого императора Византии, так и тех, кто проповедовал в других регионах Балкан, особенно два брата Константин (позже названный Кириллом) и Мефодий. Четвертое из событий 858–867 годов было, без сомнения, началом деятельности этих двух миссионеров, которые, потерпев неудачу среди хазар, обратившихся в иудаизм, были отправлены проповедовать христианство в королевство Великой Моравии.
Это было широкое пространство между Баварским лесом и реками Тиса и Дунай, которое достигло своей автономии в результате разрушения Аварской империи Карлом Великим. Чтобы облегчить распространение своего религиозного послания, Кирилл и Мефодий разработали письменность для славянского языка, так называемую глаголицу (от русского слова «глагол»).
Исходя из этого, в скором времени такая письменность будет заменена так называемой «кириллицей», хотя Кирилл не был ее изобретателем. Вскоре язык стал инструментом, который облегчил перевод священных писаний и юридических текстов на языки народов, населявших большую часть Восточной Европы[128].
В конце концов, это был большой вклад греческих миссионеров. Вместо этого его попытки связать Великую Моравию с миром византийского христианства потерпели неудачу из-за сопротивления германских Пап, князей и епископов, которые считали эту территорию зоной естественного латинского и немецкого влияния. В качестве компенсации болгары, а затем сербы и русские постепенно войдут в сферу политического, культурного и религиозного влияния Византийской империи[129].
Второй золотой век Византии: македонская династия
После убийства императора Михаила III в 867 году трон перешел в руки Василия I (867–886). С ним началась новая Македонская династия, которая продлила свое существование с этой даты до 1057 года, когда территориальная аристократия совершила государственный переворот, в результате которого на престол был возведен Исаак Комнин.
На протяжении почти двух столетий, под властью македонских императоров, Византийская империя переживала период внутренней политической и социальной консолидации и культурного расцвета, который был назван «вторым византийским золотым веком». В течение этих двухсот лет первый период соответствовал утверждению новой династии между восшествием Василия I на престол в 867 году и смертью Константина VII в 959 году. Возрождение международной торговли, некоторое ослабление деревенских общин и развитие крупных монастырских владений были его доминирующими чертами[130].
Триумф самодержавия и обновление государства
Государственный переворот в 867 году, во время которого на престол была возведена македонская династия, стал порогом усиления признаков восстановления, которые проявились уже в первой половине IX века. Среди них сама формулировка модели имперской власти, имеющая художественный перевод в иконографии власти, которую новая династия намеренно будет поддерживать.
По сути, образ каждого македонского императора представлялся избранным Богом, представителем Христа на земле, установленным божественным провидением руководить Империей, которая считалась земным отражением Целестиального Царства. Распространение темы символической коронации императора как выражения божественного происхождения его власти в конечном итоге стало главой самой христианской иконографии. Книга церемоний, написанная императором Константином VII, собрала и отрегулировала впечатляющие церемонии, проводимые в аудиториях и дворцовых праздниках, в демонстрации, которую имитировала сама религиозная литургия.
С момента своего основания македонская династия сознательно пересмотрела предыдущие законы. Василий I начал эту задачу с обнародования в 879 году Эпанагога (Epanagogé, или Восстановления законов), нового кодекса, который пытался изменить кодекс Юстиниана и, уже в своем прологе, вероятно вдохновленный Фотием, однажды восстановленным на его патриархальном престоле, исправил функции двух великих императоров в жизни Империи. Император должен был обеспечивать благополучие своих подданных, защищать христианскую ортодоксию и, прежде всего, толковать законы[131].
Те из патриарха, которые всегда подчинялись императору, состояли в толковании канонов и соборных решений, чтобы гарантировать духовную жизнь жителей Империи. Законодательная задача была продолжена двумя преемниками Василия I. Его сын Лев VI (886–911) издал Basilika, или Императорские законы, написанные на греческом языке, которые из-за своей длины и систематизации напоминают законы Юстиниана Corpus Juris Civilis, которые они вытеснили, составляя самое обширное собрание законов Средневековья[132].
Со своей стороны, Константин VII (911–959), сын первого, выполнил задачу своего деда и отца, развивая, прежде всего, регулирование административных органов в своих двух работах: De los temas и De la Administración Empire. Наряду с поддержкой доктрины имперского самодержавия, законодательные усилия способствовали идеологическому и культурному обновлению государственной службы.
Это было распределено в сложной организационной схеме; в ней, помимо канцлера, военных и финансовых полномочий, были развиты полномочия императорского дворца или постов с дворянскими достоинствами. Они составляли настоящую приманку для тщеславия сильных мира сего, которые, помимо непосредственного выполнения государственных функций, утешались положением в дворцовом протоколе, приобретенным путем покупки.
Таким образом, императоры смогли одновременно укрепить имперские финансы и идеологическую сплоченность византийского общества. Территориальное управление, хотя и все еще основанное на системе тем, претерпело некоторые существенные изменения; в частности, два, относящиеся к его стратегическим и фискальным аспектам.
С одной стороны, количество тем увеличивалось, а набор более мобильных наемных войск увеличивался. С другой стороны, старая фигура крестьянина-солдата начала терять свою ценность. Тот же критерий централизации был наложен на армию, которая, имея около двухсот дромонов, участвовала в восстановлении военной инициативы Империи.
Возрождение экономической активности
Укрепление чувства имперской власти и структур правительства и управления опиралось, прежде всего, на два столпа. Во-первых, в способности Македонской династии увеличивать ресурсы Империи за счет сохранения важного государственного достояния и ряда монополий, такиe как шелк и пшеница.
И во-вторых, в сборе налогов, который был увеличен за счет общего обогащения византийского общества, которое приносило дань как за деятельность его торговцев и ремесленников, так и за уплату десяти процентов стоимости урожая или обращение и продажу продуктов.
Усилия Византийского государства по сбору налогов принесли в жертву статус средних и мелких землевладельцев крупным землевладельцам. Они, зная о своей способности предоставить государству ресурсы для удовлетворения потребностей военного развертывания, получали иммунитет от государственных должностных лиц.
Это позволило им оказать давление на сельские общины, которым было труднее, чем в предыдущий период, сохранять независимость от сильных мира сего. Экономическое возрождение IX и X веков имело свое уникальное проявление в восстановлении городской системы, затененной в предыдущих двух из-за общего кризиса Империи и установления системы тем[133].
Такое возрождение проявилось в возрождении торговли и чрезвычайно разнообразном ремесленном производстве, как показано в Книге Епарха, написанной, вероятно, во времена правления Льва VI и подтвержденной простым увеличением населения городов. Они больше не соответствовали модели древнего города, а соответствовали средневековому городу. Они стали региональными центрами, расположенными на территории, которая доминировала над ними, и с морфологией, которая включала в себя культивируемые пространства, монастыри с их садами или дворцы с их садами.
Даже при новом устройстве византийские города были ориентированы на торговую деятельность. Что касается этого, мы мало знаем о внутренней торговле Империи, хотя есть несколько важных ярмарок, например в Фессалониках и Эфесе. Мы больше осведомлены о возрождении внешней торговли, заметном уже с середины IX века в этих двух городах или в других, таких как Херсон и Трапезунд или, немного позже, Коринф и Мелите-на, и, конечно же, всегда в Константинополе[134].
Фактически столица была основным пунктом назначения четырех великих торговых путей, которые связывали Империю с внешним миром. Северный торговый путь связывает с Балтийским морем, и южный торговый путь выводит на Индийский океан. Тот, что на востоке, соединяет далекий Китай с византийскими портами Черного моря. А тот, что с запада, по морю через Адриатику или по берегам Дуная доставлял продукты из Италии, которые привозили купцы из Амальфи и Венеции, которые начали формировать небольшие колонии в византийских городах.
Греческое культурное и художественное возрождение
Обогащение и перестройка Империи вылились в интеллектуальное и художественное возрождение, кульминацией которого стал приход третьего императора новой династии, Константина VII Багрянородного (Порфирогенета, то есть «рожденного в пурпурной комнате» императорского дворцa). Он лично руководил культурной деятельностью императорского дворца, в высшей школе Магнаврa он даже выступал в качестве учителя.
В его время обучение имело своей основной целью подготовку высших должностных лиц Империи и развивалось через кафедры риторики, философии, геометрии и астрономии. Кроме того, был создан информативный корпус энциклопедического характера, который показал его предпочтение в управлении Империей и сельскохозяйственных задачах.
Другие учреждения, особенно монастыри, сыграли значительную роль в возрождении македонской династии, оставившей интересное наследие работ по историографии, теологии и агиографии. Лингвистическим инструментом этого возрождения был греческий язык, на котором жили дворцы, аристократия, монастыри и люди, в отличие от того, что происходило в Западной Европе, где латынь и народные языки разнообразили свои судьбы и функции. Конструктивное и изобразительное искусство также извлекли выгоду из македонского Возрождения.
В архитектуре с начала X в. преобладала модель храма с греческим крестообразным планом, перекрытая куполами. Это будет своего рода прототип, за обобщение которого будут отвечать македонские императоры. Нечто подобное произошло и в живописи: восстановление образов после иконоборческого спора стимулировало развитие фресок и мозаик с отображением очень однородных иконографических программ, основанных на почти уникальной модели. Таким образом, храм возглавляла фигура вседержителя Христа, который занимал центральный купол, а Богородица находилась в апсиде, в месте, подтверждающем ее роль универсального посредника[135].
Расширение византийской области влияния на болгарский и русский миры
За девяносто лет, прошедших между вступлением на престол Василия I в 867 г. и смертью Константина VII в 959 г., Империя проявила силу, которая привела к изменению до сих пор оборонительной позиции, которая характеризовала византийскую внешнюю политику. В его рамках характерной чертой X века было снижение внимания к западному и восточному фронтам, оккупированным мусульманами, и посвящение внимания северному фронту, то есть Болгарии и славянскому миру, представленному, прежде всего Киевской Русью.
Внимание Византии к пространству на северо-запад от Империи возросло с того момента, когда в Болгарии власть кристаллизовалась в виде монархии. Начало правления Василия I и, следовательно, македонской династии совпало с рядом обстоятельств, которые привели к включению Болгарии в византийскую орбиту[136].
С одной стороны, крещение монарха Бориса, которого с тех пор называли Михаилом, открыло двери Церкви для болгарского народа в 865 году. С другой стороны, позиция Папы Николая I, раскол Фотия, собственные устремления нового христианского монарха и интересы Василия I способствовали признанию Константинопольским Патриархом болгарской церковной иерархии более высокого уровня, чем один Рим был готов принять.
Это было, конечно, началом отношений между Византийской империей и Болгарией, которые продолжались по пути православной христианизации и влияния византийской культуры. Однако в 894 году отказ империи принять претензии болгарского монарха Симеона, стремившегося получить титул василевса, вызвал вспышку конфликта. Болгарские победы вынудили Византию пересмотреть свое отношение и в обмен на мир согласились платить ежегодную дань царю Симеону.
В 912 году перерыв в оплате послужил поводом для болгарского вождя начать нападение на сам Константинополь, которое закончилось тем, что Византия вернулaсь к уплате дани и призналa Симеона титулом василевса. Конец войны позволил Византии укрепить свое культурное и религиозное присутствие на Балканах, расширив то, что она начала иметь за счет сербов и хорватов, и стимулировал окончательное вступление болгар на путь славянизации и христианизации. Усиление обeих было фактором культурной сплоченности с национальным чувством болгарского населения[137].
Чтобы закрепить свое положение, монархия приняла рост старой боярской аристократии, представляющей тюркские традиции народа, и ее статус великого землевладельца – ситуацию, которую Болгарская церковь начала разделять после христианизации страны. Давление этой земельной аристократии на мелких крестьян вызвало реакцию недовольства, принявшую форму неортодоксальных религиозных движений, в частности ереси богомилов, то есть папы Богомила. Подобно павликианам внутри Империи, он проповедовал радикальный дуализм и враждебность установленной власти и богатству.
Расширение византийской области влияния на славянский мир достигло областей, более удаленных от столицы Империи, в частности территорий, где проживают восточные славяне – русские. Первый контакт между византийцами и русскими произошел в 860 году, когда послы из города Киева предстали перед Константинополем. В течение пятнадцати лет разрабатывались инициативы по установлению среди русских епископальной иерархии под руководством Византии[138].
После этого первого контакта и почти столетие источники молчали. Это молчаниe может иметь две интерпретации, которые были сделаны о характере населенных пунктов славян и о силах, которые привели к их социальному и политическому формированию. Первая интерпретация имела тенденцию подчеркивать оригинальные и «национальные» аспекты славянских творений. Опираясь на основы исторического материализма, русская историография утверждалa, что внутренняя эволюция славянского общества позволила ему достичь уровня видимого очертания империи, особенно в Киевской Руси в середине X века.
В этом процессе присутствие викингов, особенно шведов в русских степях следует интерпретировать только как торговцев или, где это уместно, наемников на службе аристократических славянских меньшинств из разных центров Cтепи. Вторая интерпретация, скандинавская историография, имеет тенденцию подчеркивать роль, которую викинги играли в этой социальной и политической обстановке славян Руси.
Они были далеко не простыми наемниками, а составляли местные полюсы власти, вокруг которых формировалось стабильное население, частью которого были шведские купцы, варяги и славяне. Историографическая борьба, связанная с выявлением матери городов русских, не перестает признавать свою важную роль в X веке, когда присутствие варяжских купцов позволило им стать местами обмена и способствовать контактам славян с внешним миром.
Эти отношения включают те, которые должны были быть установлены в конце IX века между русскими в Киеве и византийцами и характеризовались скорее торговым обменом, чем войной. В этом смысле обращение княгини Ольги, вдовы Игоря, в христианство и ее крещение в Константинополе в 957 году под именем Елены и покровительством императора демонстрируют как обычную динамику византийских международных отношений, так и расширение радиуса действия культуры Империи[139].
96
Cumberland Jacobsen, Torsten (2009). The Gothic War. Westholme. 45–77.
97
Cameron, Averil et al. eds. (2000). The Cambridge Ancient History 14, Second Edition. 34–55.
98
Evans, James Allan (2005). The Emperor Justinian and the Byzantine Empire. 98–115
99
Luis Rodolfo Arguello (2000). Manual de Derecho romano. Historia e Instituciones. Editorial Astrea. 44–65 Buenos Aires: Argentina.
100
Bury, J.B. (1958). History of the later Roman Empire, Vol. 2. 67–88.
101
Luis Alberto Peña Guzmán y Luis Rodolfo Arguello (1996). Derecho romano. Tipográfica Editora Argentina. Buenos Aires: Argentina. 88–96.
102
Haroldo Ramón Gavernet y Mario Antonio Mojer (1992). El romano, la tierra, las armas. Evolución histórica de las Instituciones del Derecho Romano. 88–98, Editorial Lex. La Plata: Argentina.
103
Orlandis, José (1987). Historia de España. Época visigoda (409–711). 55–78. Madrid, España: Gredos.
104
Wickham, Chris (2005). Una historia nueva de la Alta Edad Media. Europa y el mundo mediterráneo, 400–800. 23–45 Barcelona, España: Gredos.
105
Mitchell, Stephen. A history of the later Roman Empire, AD 284–641: the transformation of the ancient world (2007 edición). Wiley-Blackwell. ISBN 1-4051-0857-6. – Total pages: 469.
106
Vladislav Popovic, La descente des Koutrigours, des Slaves et des Avars vers la mer Égée: le témoignage de l'archéologie, Comptes-rendus des séances de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, Volume 12, pp. 596–648, 1978.
107
Christopher I. Beckwith, Empires of the Silk Road: A History of Central Eurasia from the Bronze Age to the Present, Princeton University Press, 2009, pp. 390–391.
108
Lewis, Bernard. The Arabs in History (2002 edición). 34–44, Oxford University Press.
109
Milman, Henry Hart; Guizot, François M. The history of the decline and fall of the Roman Empire, Volume 5 (1862 edición). J. Murray. – 24–33.
110
Gibbon, Edward (1998). Decline & Fall of the Roman Empire (1998 edición). Wordsworth Editions. 45–65.
111
El-Cheikh, Nadia Maria (1999). “Muḥammad and Heraclius: A Study in Legitimacy”. Studia Islamica (Maisonneuve & Larose) 62 (89): 5–21. Денисова И.В. «Византийская Склавиния»: славяне в Греции и Малой Азии: VI–X вв.
112
Grabar, André (1984). L'Iconoclasme Byzantin: le Dossier Archéologique. Flammarion. 23–45.
113
Слово «тема» обозначало как армейское подразделение, находящееся в гарнизоне в районе, так и территориальный округ, за защиту которого оно отвечало.
114
Haldon, John (1997). Byzantium in the Seventh Century: the Transformation of a Culture. 23–45, Cambridge.
115
André Chastel, Le concile de Nicée et les théologiens de la Réforme catholique, pр. 333–339
116
Michel Kaplan, La chrétienté byzantine du début du viie siècle au milieu du ixe siècle, 25–38, Éditions SEDES, 1997.
117
Jean-Claude Schmitt, L’Occident, Nicée II et les images du viiie au xiiie siècle, pр. 271–303.
118
Иконоборцы считали изображения святых идолами, а почитание икон – идолопоклонством, ссылаясь на ветхозаветные заповеди («не сотвори себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху… не поклоняйся им и не служи им» (Исх. 20:4–5)).
119
Dagron, G. (1996): Empereur et prêtre. Etude sur le cesaropapisme byzantin. París.
120
Emmanuel Lanne, Rome et Nicée II, pр. 219–229.
121
Ирина Афинская (в др. – гр. Εἰρήνη ἡ Ἀθηναῖα) – византийская императрица, родилась около 752 года в Афинах и умерла9 августа 803 г. на острове Лесбос. Она правила как регент от имени своего сына с 780 по 790 год, а затем как правящая императрица (Βασιλεύς, basileus) с 797 по 802 год. Она первая женщина в истории, правившая как василевс.
122
Римская церковь решила не воспринимать Ирину как законную главу Империи, благодаря чему появилась возможность передать императорский титул на Запад. 25 декабря 800 года Карл Великий был коронован в соборе Святого Петра папой Львом III и провозглашён римским сенатом императором. Карл, убеждённый уговорами зависимых от него римских пап, считал, что стал императором единой Римской империи. Christoph von Schönborn, L’Icône du Christ: Fondements théologiques, Éditions Universitaires, Fribourg, 1976, 245 p.
123
Когда ее сын достигает совершеннолетия, Иринa показывает свое намерение остаться у власти и править в одиночку, что провоцирует восстание части армии. В 790 году вспыхнуло восстание. Константин VI воспользовался случаем, чтобы свергнуть свою мать и захватить власть. Однако два года спустя он решил позвать ее обратно к себе и назвал ее соправительницей. Путем целого ряда маневров Ирине удалось сделать своего сына непопулярным в общественном мнении и церкви. В 797 году она свергла его в результате государственного переворота и выколола ему глаза. Затем она сменила свой титул «василисса» (мать императора) на «вазилевс». (император), официально став «женщиной-императором».
124
Jean Skylitzès, (trad. Bernard Flusin et annoté pat Jean-Claude Cheynet), Empereurs de Constantinople, Paris, éditions P. Lethilleux, 2003, “Léon l'Arménien”, p. 15–23.
125
Иоан Грамматик – патриарх Константинопольский (21 января 837 – 4 марта 843); Лев Математик (или Лев Философ) (около 790 г. – около 870 г.) – византийский математик и механик; архиепископ Фессалоник в 840–843 годах. Основатель Магнаврской высшей школы в Константинополе; Патриарх Фотий I (около 820–896) – византийский богослов, патриарх Константинопольский (858–867 и 877–886 годы). Paul Lemerle, Le premier humanisme byzantin, Paris, 1971. 67–89.
126
Gallimard. Hussey, J.M. (1986): The orthodox Church in the byzantine Empire. Clarendon Press, Oxford.
127
Vlasto, Alexis P. (1970). The Entry of the Slavs into Christendom: An Introduction to the Medieval History of the Slavs. Cambridge 45–87: Cambridge University Press.
128
Ostrogorsky, George (1956). History of the Byzantine State. 35–67 p. Oxford: Basil Blackwell.
129
Subotin-Golubović, Tatjana (1999). «Reflection of the Cult of Saint Konstantine and Methodios in Medieval Serbian Culture». Thessaloniki – Magna Moravia: Proceedings of the International Conference. Thessaloniki: Hellenic Association for Slavic Studies. pp. 37–46.
130
Cheynet, Jean-Claude (2007). Le Monde Byzantin, II L'Empire byzantin (541– 1204) (en francés). París: Presses universitaires de France 56–89.
131
Vogt, Albert; Hausherr, Isidorous, eds. (1932). «Oraison funèbre de Basile I par son fils Léon VI le Sage». Orientalia Christiana Periodica (en francés) (Rome, Italy: Pontificium Institutum Orientalium Studiorum) 26 (77): 39–78.
132
Kaplan, M. (1992): Les hommes et la terre à Byzance du VI e au XI e siècle. Proprieté et exploitation du sol. París, Publications de la Sorbonne.
133
Острогорски, История на византийската държава, с. 272.
134
Златарски, История на българската държава през средните векове, т. 1, ч. 1, с. 326; Бешевлиев, Първобългари, с. 107.
135
Златарски, История на българската държава през средните векове, т. 1, ч. 1, с. 326–327; Бешевлиев, Първобългари, с. 107–108.
136
История на България, Том 3, БАН, София 1982, с. 308–309.
137
Morrison, C. (dir.) (2004): Le monde byzantin. Tome I. L’Empire romain d’Orient, 330–641. París, Presses Universitaires de France.
138
История на България, Том 3, БАН, София 1982, с. 323–324.
139
Patlagean, E. (1981): Structure sociale, famille, Chretienté à Byzance, IVe – XIe siècles. Londres, recopilación de artículos de la autora.