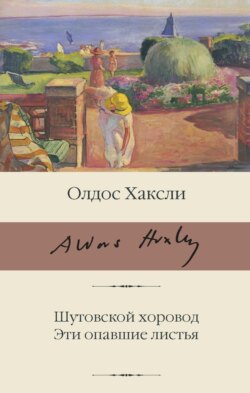Читать книгу Шутовской хоровод. Эти опавшие листья - Олдос Леонард Хаксли, Олдос Хаксли - Страница 12
Шутовской хоровод
Глава 11
ОглавлениеВторую половину дня Гамбрил провел в Блоксем-гарденс. Кожа у него на подбородке болела от спиртового клея, при помощи которого он прикреплял символ Цельного Человека; сверх того, он чувствовал себя несколько утомленным. Рози встретила его с распростертыми объятиями. Святой Иероним все это время не переставал торжественно причащаться святых тайн.
Отец не обедал дома, и Гамбрил съел румстек и выпил бутылку портера в одиночестве. Сейчас он сидел перед открытой стеклянной дверью, ведущей из рабочего кабинета отца на балкон, держа в руках вечное перо и положив на колени чертежную доску, и сочинял рекламы Патентованных Штанов. За окнами, на платанах сквера, птицы только что закончили свой вечерний концерт. Но Гамбрил не обращал на них внимания. Он сидел в комнате, покуривая, изредка записывая два-три слова, как бы погруженный в трясину своего полусонного отдыхающего тела. Безоблачный день перешел в синий майский вечер. Приятно было чувствовать, что живешь и больше ничего.
Он набросал два или три объявления в возвышенно-идеалистическом заокеанском стиле. Особенно ясно он представлял себе одно из них: наверху страницы портрет Нельсона, а под ним слова: «Англия ждет…» – заглавными буквами. «Англия… Долг… это святые слова»[77]. Так будет начинаться текст. «Это святые слова, и мы произносим их благоговейно, ибо мы понимаем, что такое Долг, и делаем все, чтобы выполнить его так, как подобает Англичанам. Миссия Фабриканта священна. Он руководит и правит современным миром и, подобно монарху минувших дней, несет ответственность перед своим народом: он призван исполнить некий Долг. Он правит, но он должен также служить. Мы знаем, какая ответственность возложена на нас, и мы относимся к ней с полной серьезностью. Патентованные Штаны Гамбрила созданы для того, чтобы послужить народу. Наш Долг по отношению к вам – это Долг службы. Наша гордость – в его выполнении. Но кроме Долга перед Другими, у каждого человека есть долг перед Самим Собой. Каков этот долг? Он в том, чтобы постоянно быть физически и духовно в полной боевой готовности. Патентованные Штаны Гамбрила защищают поясничный ганглий…» А дальше начнется плаванье по морям медицины и мистики.
Дойдя до ганглия, Гамбрил перестал писать. Он положил чертежную доску на пол, закрыл перо и предался радостям чистой лени. Он сидел, покуривая сигару. Под ним, двумя этажами ниже, кухарка и горничная читали газеты: одна – «Отклики дня», другая – «Зеркало большого света». Для них ее величество королева милостиво беседовала с девочками-калеками из сиротского приюта; жокеи вылетали из седла, беря препятствия; Купидон деятельно работал среди представителей высшего общества, и убийцы, выпустившие кишки из своих любовниц, разгуливали на свободе. Над ним был город макетов, были спальни господ и слуг, чердак, полный баков с водой и вековой пыли, крыша, а над ней, на расстоянии двухсот или трехсот световых лет, звезда четвертой величины. По ту сторону капитальной стены по правую руку от него какое-то многочисленное семейство вело с удивительным упорством беспросветную жизнь. В данную минуту они все страстно переругивались. За стеной по левую руку жили юный журналист с женой. Сегодня ему самому пришлось готовить ужин. Юная супруга лежала на кушетке, чувствуя себя отвратительно: она в положении, теперь это совершенно ясно. Они не собирались иметь ребенка; это – катастрофа. А на улице птицы спали на деревьях, ребята из близлежащих трущоб возились и орали. Тем временем по Атлантическому океану плыли суда, нагруженные новыми сигарами. Рози в эту минуту, вероятно, штопала носки Шируотеру. Гамбрил сидел и покуривал, и Вселенная располагалась вокруг него правильным узором, как железные опилки вокруг магнита.
Дверь открылась, и горничная, по старой привычке бесцеремонно и резко нарушив его ленивое блаженство, ввела Шируотера и тотчас же поспешила обратно к «Зеркалу большого света».
– Шируотер! Какой приятный сюрприз, – сказал Гамбрил. – Заходите, присаживайтесь. – Он показал на стул.
Неуклюже, заполняя столько пространства, сколько хватило бы для двух нормальных людей, Шируотер нетвердой походкой, зигзагами, пересек комнату, наткнулся по дороге на письменный стол и диван и наконец уселся на указанный ему стул. Гамбрилу вдруг пришло в голову, что ведь это муж Рози; сразу он этого не сообразил. Может быть, он явился к нему так неожиданно именно в качестве оскорбленного супруга, после того, что произошло сегодня: он вернулся домой; Рози призналась во всем… Да! Но ведь она же не знает, кто он такой. При этой мысли он внутренне улыбнулся. Ну и положение! Может быть, Шируотер пришел жаловаться ему на неведомого Цельного Человека – ему, Гамбрилу! Это восхитительно. Аноним – автор всех этих баллад в «Оксфордской антологии английской поэзии»; знаменитый итальянский художник – Ignoto[78]. Гамбрил был даже разочарован, когда его посетитель заговорил не о Рози, а совсем на другие темы. Погруженный в трясину своего уютного живота, он пребывал в настроении добродушно-фривольном. Водевильная непристойность этого положения пришлась бы ему в эту минуту очень по душе. Добрый старый Шируотер – но какой же он баран! Если бы он, Гамбрил, взял на себя труд жениться, уж он бы обращал на свою жену хоть немного внимания.
Шируотер начал говорить в общих выражениях о жизни. «К чему это он клонит? – спрашивал себя Гамбрил. – Какие частности скрываются в засаде этих обобщений?» Иногда Шируотер замолкал. «Вид у него, – подумал Гамбрил, – крайне мрачный». Пухлый детский ротик под густыми усами не улыбался. Наивные глаза выражали изумление и усталость.
– Странно устроены люди, – сказал он после одной из пауз. – Очень странно. Даже представить себе невозможно, до чего они странные.
Гамбрил рассмеялся.
– Ну, о человеческой странности я имею очень ясное представление, – сказал он. – Все люди странные, причем нормальные почтенные буржуа обычно бывают страннее всех прочих. Как они ухитряются жить подобным образом? Иногда просто удивляешься. Как я подумаю о всех моих тетушках и дядюшках… – Он покачал головой.
– Может быть, это потому, что я совсем не любознателен, – сказал Шируотер. – Очевидно, нужно быть любознательным. Я только теперь понял, что я был недостаточно любознателен в отношении людей. – Частности, личные и животрепещущие, начали высовываться из-под туманного покрова обобщений, как кролики из норок на опушке леса; Гамбрил очень ясно представил себе эту картину.
– Безусловно, – поощрительно сказал он. – Безусловно.
– Я слишком много думаю о работе, – продолжал Шируотер, хмурясь. – Слишком много физиологии. Но есть еще психология. У людей есть сознание, не только тело… Нельзя ограничивать свои интересы. Чересчур ограничивать. Сознание людей… – На мгновение он замолк. – Я могу представить себе, – снова заговорил он тоном человека, рассматривающего какой-то гипотетический случай, – я могу представить себе человека, настолько поглощенного психологией какого-нибудь другого человека, что он больше ни о чем не может думать. – Теперь кролики готовы были окончательно вылезти наружу.
– Этот процесс, – произнес Гамбрил из глубины своего тепленького болотца шутливым тоном умудренного опытом пожилого человека, – принято называть влюбленностью.
Снова наступило молчание. Шируотер прервал его, заговорив о миссис Вивиш. Три или четыре дня подряд он обедал с ней. Он хотел, чтобы Гамбрил рассказал ему, какова она на самом деле.
– Мне лично она кажется очень своеобразной женщиной, – сказал он.
– Не более своеобразная, чем все прочие люди, – с раздражающим спокойствием сказал Гамбрил. Забавно было смотреть на кроликов, повысыпавших наконец из норок.
– Никогда в жизни я не встречал такой женщины.
Гамбрил засмеялся.
– Вы сказали бы это о любой женщине, которая заинтересовала бы вас, – сказал он. – Вы же до сих пор не знали женщин. – Он, Гамбрил, знал гораздо больше о Рози, чем знал или будет когда-либо знать Шируотер.
Шируотер погрузился в размышления. Он думал о миссис Вивиш, о ее прохладном бледно-голубом взгляде; о ее смехе, тихом и ироническом; о ее словах, пронизывающих ум, зарождающих в нем неведомые дотоле мысли.
– Она меня интересует, – повторил он. – Расскажите мне, какова она в действительности. – Он подчеркнул «в действительности», точно между кажущейся и реальной миссис Вивиш была огромная разница.
Большинство влюбленных, подумал Гамбрил, воображают, будто их возлюбленные обладают какой-то скрытой реальностью, которая не имеет ничего общего с тем, что они видят ежедневно. Они влюблены не в человека, а в продукт своего воображения. Иногда эта скрытая реальность действительно имеется; иногда она не отличается от видимости. Когда у них открываются глаза, это и в том и в другом случае бывает ударом.
– Не знаю, – сказал он. – Откуда мне знать? Узнавайте сами.
– Но вы знали ее, вы хорошо ее знаете, – тревожным тоном сказал Шируотер.
– Не настолько близко.
Шируотер шумно вздохнул, как спящий кит. Состояние у него было беспокойное, и он не мог сосредоточиться. В его сознании царил полный хаос. Как будто где-то в глубине произошло извержение вулкана, и спокойная ясность была нарушена. Эта нелепость, именуемая страстью, – он всегда считал ее бессмысленной, ненужной. Достаточно небольшого усилия воли, чтобы прекратить ее. Женщины существуют лишь на полчаса в сутки. Но она рассмеялась, и его покой, его беспечность исчезли безвозвратно. «Я могу представить себе, – сказал он ей вчера, – я могу представить себе, как я бросаю работу, бросаю все на свете ради того, чтобы бегать за вами». – «Думаете, мне это доставит удовольствие?» – спросила миссис Вивиш. «Это смешно, – сказал он, – это почти позорно». А она поблагодарила его за комплимент. «И в то же время, – продолжал он, – у меня такое чувство, что это стоит того. Может быть, это даже единственная стоящая вещь». Его смятенный ум кишел новыми мыслями.
– Очень трудно, – сказал он после паузы, – устраивать свою жизнь. Невероятно трудно. Мне казалось, что я устроил ее так хорошо…
– Я никогда ничего не устраиваю, – сказал позитивный философ Гамбрил. – Я беру жизнь такой, какова она есть. – Не успел он произнести эти слова, как им овладело отвращение к самому себе. Он внутренне встряхнулся; он выбрался из болотца собственного «я». – Возможно, было бы лучше, если бы я сам устраивал свою жизнь, – добавил он.
– Воздайте кесарево кесарю, – сказал Шируотер, как бы разговаривая с самим собой, – и Богу, и полу, и работе… Все должно быть на своем месте. – Он вздохнул. – Все должно быть в должной пропорции. В пропорции, – повторил он, точно в этом слове заключалась магическая сила. – В пропорции.
– Кто тут говорит о пропорции? – Они обернулись. На пороге стоял Гамбрил Старший, приглаживая свои взлохмаченные волосы и крутя бородку. Его глаза весело щурились за стеклами очков. – Разговариваете об архитектуре, вторгаетесь на мою территорию? – спросил он.
– Это Шируотер, – ответил Гамбрил Младший и объяснил отцу, кто такой его гость.
Старик сел на стул.
– Пропорции, – сказал он. – Я как раз думал о них по дороге домой. На лондонских улицах, где пропорции вообще отсутствуют, невольно думаешь о них. Невольно тоскуешь о них. Здесь есть такие улицы… Господи боже мой! – И Гамбрил Старший в ужасе воздел руки. – Когда идешь по ним, впечатление такое, точно слушаешь кошачий концерт. Сплошной беспорядок и бессмысленные диссонансы. Была у нас одна улица, похожая на симфонию Моцарта, – и посмотрите, как деловито и с каким восторгом ее сейчас разрушают. Через год от Риджент-стрит камня на камне не останется. Будет только груда громоздких, уродливых строений ценой в три четверти миллиона каждое. Концерт циклопических котов. Вместо порядка омерзительный хаос. Мы не нуждаемся в нашествии варваров: они здесь, в самом сердце нашей столицы.
Старик остановился и задумчиво подергал бородку. Гамбрил Младший сидел молча, покуривая; и молча же Шируотер вертел и переворачивал внутри своей огромной круглой черепной коробки горестные мысли о миссис Вивиш.
– Меня всегда поражало, – снова заговорил Гамбрил Старший, – насколько люди невосприимчивы к окружающей их гнусной и нестройной архитектуре. Представьте себе, например, что все духовые оркестры безработных ветеранов войны, уныло играющие на всех углах, вдруг станут исполнять вещи, состоящие из сплошных бессмысленных и уродливых диссонансов: да ведь первый же полисмен прогонит их, а второй арестует, а прохожие попытаются расправиться с ними судом Линча по дороге к ближайшему участку. Это будет взрыв всеобщего негодования. Но когда на углах тех же улиц подрядчики воздвигают колоссальные дворцы из стали и камня, не менее отвратительные, глупые и негармоничные, чем десяток трубачей, из которых каждый играет в своем ключе свою мелодию, тогда никто не возмущается. Полиция не забирает архитектора в участок; пешеходы не побивают камнями строительных рабочих. Никто ничего не замечает. Это ни на что не похоже, – сказал Гамбрил Старший. – Это совершенно ни на что не похоже.
– Совершенно, – отозвался Гамбрил Младший.
– Все дело, видимо, в том, – продолжал Гамбрил Старший, улыбаясь с торжествующим видом, – все дело в том, что архитектура – искусство более трудное и интеллектуальное, чем музыка. Музыка – это способность, которая дается от рождения, как вздернутый нос. Но чувство пластической красоты – хотя и оно, разумеется, врожденная способность – нуждается в развитии, в интеллектуальном созревании. Оно живет в сознании, оно воспитывается опытом и мышлением. В музыке бывают вундеркинды, в архитектуре – никогда. – Гамбрил Старший удовлетворенно прищелкнул языком. – Можно быть великолепным музыкантом и круглым дураком. Но хороший архитектор должен быть человеком умным, он должен уметь мыслить и учиться на опыте. А так как почти никто из людей, проходящих по улицам Лондона – или любого другого города, – не умеет мыслить и учиться на опыте, то и получается, что никто из них не способен оценить архитектуру. Врожденная музыкальность у них настолько сильна, что диссонансы им неприятны; но у них не хватает ума развить в себе другую врожденную способность – чувство пластической красоты, которое позволило бы им видеть и осуждать такое же варварство в архитектуре. Идемте-ка со мной, – добавил Гамбрил Старший, вставая со стула, – и я покажу вам одну вещицу, которая послужит иллюстрацией к моим словам. Эта вещица доставит вам, кроме того, удовольствие. Никто еще не видел ее, – таинственно произнес он, подымаясь по лестнице. – Она только что закончена после многих лет труда. Она произведет шум, когда они ее увидят – то есть когда я покажу ее им, если я вообще это сделаю. Сволочи они все! – добродушно выругался он.
На площадке следующего этажа он остановился, порылся в кармане, вынул ключ и отпер дверь того, что должно было бы служить спальней для гостей. Гамбрил Младший спрашивал себя, сгорая от любопытства, какую новую игрушку они сейчас увидят. Шируотер спрашивал себя об одном: как добиться любви миссис Вивиш.
– Идите сюда, – позвал Гамбрил Старший из комнаты. Он повернул выключатель. Они вошли.
Это была большая комната, почти целиком занятая гигантским макетом города, длиной в двадцать футов, шириной в десять или двенадцать; через весь город протекала извилистая река, а в центре возвышался огромный храм, увенчанный куполом. Гамбрил Младший рассматривал макет с удивлением и удовольствием. Даже Шируотер отвлекся от горестных мыслей о неудовлетворенных желаниях, чтобы посмотреть на расстилавшийся у его ног чудесный город.
– Какая прелесть, – сказал Гамбрил Младший. – Что это такое? Столица Утопии, что ли?
Гамбрил Старший польщенно усмехнулся.
– Разве купол не кажется тебе знакомым? – спросил он.
– Да как тебе сказать… – Гамбрил Младший замялся, боясь сморозить какую-нибудь глупость. Он нагнулся, чтобы подробнее рассмотреть купол. – Мне сразу показалось, что это похоже на собор Святого Павла – а теперь я вижу, что это он самый и есть.
– Совершенно верно, – сказал отец. – Это – Лондон.
– Хотел бы я, чтобы он был таким, – засмеялся Гамбрил Младший.
– Это Лондон, каким бы он мог быть, если бы Рену позволили осуществить его план восстановления города после Большого Пожара[79].
– А почему ему не позволили? – спросил Шируотер.
– Главным образом потому, – сказал Гамбрил Старший, – что они, как я уже говорил, не умеют ни думать, ни учиться на опыте. Рен предлагал им открытые пространства и широкие улицы; он предлагал им солнце, воздух и чистоту; он предлагал им красоту, порядок и величие. Он предлагал строить с расчетом на воображение и честолюбие человека, строить так, чтобы даже самые незначительные из людей могли смутно почувствовать, расхаживая по этим улицам, что они одной породы – или почти одной – с Микеланджело; чтобы они тоже почувствовали себя, по крайней мере внутренне, сильными, свободными и великолепными. Вот что он предлагал. Рыская с опасностью для жизни среди дымящихся развалин, он составил для них план. Но они предпочли восстановить прежнее убожество и путаницу; предпочли темные, кривые, причудливо нестройные улочки Средневековья; предпочли дыры и тупики, извилистые, крытые переходы; предпочли вонь и бессолнечный спертый воздух, чахотку и рахит; предпочли уродство, и ничтожество, и грязь; предпочли ориентироваться на человеческую низость, на презренное тело, а не на сознание. Жалкие болваны! Но пожалуй, – продолжал старик, тряся головой, – мы не имеем права их ругать. – Его шевелюра сорвалась со своего ненадежного якоря; он покорно откинул ее назад. – Мы не имеем права ругать их. Будь мы на их месте, мы поступили бы так же, вне всякого сомнения. Нам предлагают разум и красоту, а мы отвергаем их, потому что это, видите ли, не совпадает с теми понятиями, которые нам привили в юности, которые выросли у нас в душе и сделались частью нас самих. Experientia docet[80] – применительно к большинству из нас это самое лживое изречение, какое когда-либо было произнесено. Ты, милый Теодор, в прошлом, наверное, много раз делал глупости из-за женщин…
Гамбрил Младший сделал жест, выражающий замешательство, наполовину отвергая, наполовину принимая мягкий упрек отца. Шируотер отвернулся: он с болью вспомнил то, о чем на минуту почти забыл. Гамбрил Старший поехал дальше.
– Разве это помешает тебе завтра наделать еще больших глупостей? Нет. Конечно, нет. – Гамбрил Старший покачал головой. – Все отлично знают, как неприятен и ужасен сифилис; и все-таки эта болезнь процветает и распространяется. В последнюю войну несколько миллионов было убито, полмира было разорено; а мы по-прежнему делаем все возможное, чтобы она повторилась. Experientia docet? Ничему она не docet. И поэтому мы не должны слишком жестоко осуждать тех честных лондонцев, которые, прекрасно сознавая, как неприятны темнота, беспорядок и грязь, мужественно противились всем попыткам изменить условия, которые они с детства привыкли считать необходимыми, правильными и неизбежно присущими порядку вещей. Не будем придирчивы. Все мы хороши. Зная из векового опыта, как прекрасен, как изящен, как радует глаз хорошо распланированный город, мы разрушаем едва ли не единственный образец планировки, который у нас есть, и на его месте воздвигаем издевательство над цивилизацией, беспорядочную груду портландского цемента. Но забудем о тех древних горожанах и об оставленном ими в наследство уродливом и неудобном лабиринте, что зовется Лондоном. Забудем о наших современниках, делающих его еще хуже, чем он есть. Прогуляемся со мной по этому идеальному городу. Смотрите!
И Гамбрил Старший принялся объяснять макет.
Вон там, посреди грандиозной эллипсоидальной площади в восточной части Нового Сити, стоит квадратное здание Королевской Биржи. Прорезанные только небольшими темными окнами, сложенные из неотесанных глыб серебристого портландского камня, стены первого этажа служат прочным основанием для огромных пилястров, между базами и капителями которых расположились один над другим три ряда окон с кокошниками. На пилястрах покоятся карниз, антаблемент и балюстрада, и на каждом столбе балюстрады статуя воздевает к небу свои атрибуты. Четыре больших портала, украшенных аллегорическими фигурами, ведут во внутренний двор с двойным рядом парных колонн, аркадами и галереей. Посреди двора триумфально гарцует конная статуя Карла[81], а за окнами угадываются просторные комнаты с панелями резного дерева и тяжелыми гипсовыми гирляндами.
Десять улиц вливаются в площадь, и в каждом конце ее эллипса непрерывно взлетают и падают воды пышных фонтанов. На фонтане, к северу от Биржи, Торговля держит рог изобилия, и из сыплющихся оттуда яблок и гроздьев винограда бьет главная струя; два десятка мелких струек изливаются из сосков десяти Полезных Искусств, расположившихся со своими атрибутами вокруг центральной фигуры. Внизу резвятся в бассейне дельфины, моржи и тритоны. К югу от Биржи десять крупнейших городов королевства семьей окружают Мать Городов, льющую из урны неистощимый поток Темзы.
Вокруг площади расположились Дом Цеха Ювелиров, Акцизная Палата, Монетный Двор, Почтамт. Их фасады выгнуты в соответствии с изгибом эллипса. Их окна между пилястрами смотрят на Биржу, и сестры-статуи на балюстрадах перекликаются друг с другом через пустое пространство площади. Два проспекта шириной в девяносто футов идут от Биржи на запад. Из них северный заканчивается триумфальной аркой, три отверстия которой глубоки, таинственны и торжественны, как пещеры. Ратуша и дома двенадцати городских цехов, одетые в розовато-красный кирпич, в кружеве белого камня на углах и вокруг окон, придают улице домашний уют и вместе с тем великолепие. Через каждые двести или триста шагов линия домов прерывается, и в квадратном углублении подобно острову подымается величественная и фантастическая колокольня приходской церкви. Купола, увенчанные шпилями; многоярусные восьмиугольники, сужающиеся кверху; многоярусные цилиндры; круглые фонари, фонари-многоугольники; колокольни с воздушными остроконечными башенками; гроздья колонн, связанных вогнутыми карнизами, а над ними еще четверка гроздьев и еще одна, квадратные башни, прорезанные остроконечными окнами; шпили на стремящихся ввысь контрфорсах; шпили с луковичным основанием – все они перекликаются друг с другом, как добрые друзья и знакомые, на фоне неба. С другого берега или плывя вдоль спокойной реки можно увидеть их все, можно назвать их все по именам; а посреди, более высокий, чем все они, вздувается огромный купол.
Купол Святого Павла.
Другой проспект, идущий на запад от Биржевой площади, ведет прямо к нему. Дома на этом проспекте кирпичные, квадратные, с гладкими фасадами, с аркадами внизу, благодаря чему лавки выходят не на самую улицу, и пешеход идет по всегда сухому тротуару под гармонично сменяющимися сводами. И там, в конце проспекта, у основания треугольника, образованного его слиянием с другим проспектом, идущим на восток к Тауэру, стоит кафедральный собор. К северу от него находится дом декана, а под аркадами книжные лавки.
За собором проспект спускается вниз под щегольскими итальянизированными арками Людгета, мимо широких, обсаженных липами бульваров, которые идут к северу и к югу с внешней и внутренней стороны городских стен, подходит к берегу Флотской канавы – превращенной теперь в благородный канал, на гранитные набережные которого баржи выгружают свой груз отечественных товаров, – пересекает ее по однопролетному висячему мосту и подымается снова к круглой площади, немного к востоку от Темпля, откуда двумя пересекающимися крестами выходят восемь лучевых проездов: три к северу, по направлению к Гольборну, три от противоположной арки по направлению к реке, один к востоку, и один мимо Линкольнс-Инн-Филдс – к западу. Площадь вся из кирпича, и окружающие ее дома образуют, начиная со второго этажа, сплошное кольцо: все улицы выходят на нее из-под арок. Человеку, стоящему в центре, у подножия обелиска в память победы над Нидерландами, она кажется гладким кирпичным колодцем, прорезанным у основания восемью сводчатыми водостоками и расцвеченным вверху тремя рядами простых, неорнаментированных окон.
Кто опишет все фонтаны на просторных площадях, все статуи и памятники? На круглой площади к северу от Лондонского моста, где сливаются четыре улицы, стоит пирамида нимф и тритонов, речных богинь Полиальбиона и морских богов британского побережья, купающихся в неумолкающем потоке пенящейся воды. А вот эмблема города, грифон, изливает воду из клюва; эмблема короля, лев, – из пасти. У подножия собора святой Георгий поражает дракона, ноздри которого извергают не огонь, а прохладную воду Новой Реки. Перед Домом Ост-Индской Компании четыре слона из черного мрамора, несущие на спинах беломраморные башни, выдувают из своих повернутых к небу хоботов обильный символ богатств Востока. В садах Тауэра сидит на троне Карл II, окруженный толпою Муз, Добродетелей, Граций и Часов. Башня Таможни – маяк. Огромный шлюз, символ победы над водной стихией, перерезает Флотскую канаву у ее слияния с Темзой. Река одета в гранит от Блекфрайерского моста до Тауэра, и через каждые двадцать шагов строгий каменный ангел смотрит с балюстрады на противоположный берег.
Гамбрил Старший объяснял свой город со страстью. Он показывал пальцами на макет, он воздевал руки и подымал глаза, стараясь дать представление о размерах и великолепии своих построек. Пряди его волос то и дело падали на глаза, и их приходилось нетерпеливо откидывать назад. Он сучил бородку; стекла его очков сверкали, точно настоящие глаза. Глядя на него, Гамбрил Младший невольно думал, что перед ним статный и жестикулирующий силуэт одного из тех старых пастухов, которые стоят перед руинами на гравюрах Пиранези, являясь живым доказательством поразительного величия и падения человеческого рода.
77
«Англия ждет, что сегодня каждый англичанин исполнит свой долг» – исторические слова адмирала Нельсона, сказанные им накануне битвы при Трафальгаре (1805).
78
Неизвестный (ит.).
79
Имеется в виду пожар 1666 года, когда сгорел почти весь Лондон.
80
Опыт учит (лат.).
81
Карл I был казнен во время революции 1649 года. Его конная статуя работы ван Дейка стоит во дворе Виндзоского замка.