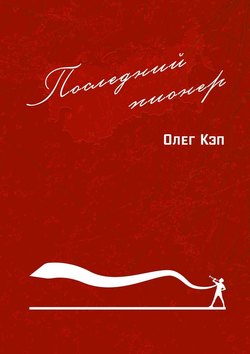Читать книгу Последний пионер - Олег Кэп - Страница 3
Часть I. Последний пионер
2. Родной город
ОглавлениеМеня иногда спрашивают, как я очутился в Ташкенте, каким ветром занесло в Узбекистан. Отвечаю просто – бабушек и дедушек партия направила, по «комсомольской путевке». Народ ехал поднимать промышленность, науку, медицину, строить новые города, осваивать «Голодную степь».
Ташкент в 80-х был городом многонациональным: узбеки, русские, татары, поляки, немцы, евреи, греки, корейцы, уйгуры и многие другие народы. Если верить статистике, всего в городе проживало 120 национальностей. Так это или нет, судить не мне, однако смешение культур было большое. Это отражалось, в том числе, и в кухне: узбекский плов мирно соседствовал с русским холодцом, украинским борщом, белорусскими драниками, корейской морковкой и татарскими беляшами. Точно так же мечети уживались с православными церквями и синагогой.
А еще это отражалось в огромном количестве смешанных браков. Один мой одноклассник был на четверть грек, на четверть мордвин, на четверть белорус, на четверть русский. В другом моем однокласснике бурлила кровь польских, французских, русских, украинских, узбекских предков. И как-то все уживались, жили бок о бок. Русские всех соседей на Пасху угощали куличами, узбеки на Рамазан угощали всех пловом, а татарский чак-чак обожали дети всех национальностей и ждали татарских праздников.
Город был разным. Официально Ташкент делился на 11 районов, но прежде всего он делился на чисто узбекские районы (преимущественно, частный сектор) и районы русских/русскоязычных. Среди последних, выделялись несколько корейских районов. Корейцы быстро обрусели, большинство приняли православие и русские имена, но селиться предпочитали в своих районах. Были районы, где все жили вперемешку, но чаще районы были с определенным этническим составом.
Было несколько волн массового заселения города русским и русскоязычным населением со всех краев необъятной страны. Самая первая была при царях, когда Ташкент обрел свой нынешний центр, за пределами Старого города, еще ханского. Царские власти предпочитали не вовлекать местное население в жизнь остальной страны, на их уклад жизни никто не покушался. Плати налоги и живи, как хочешь. Главное – не бунтуй. Возможно, причиной было и нежелание провоцировать недовольство местных, если бы начали сносить кварталы Старого города, расчищая место под дома и общественные здания новых поселенцев.
Так или иначе, но во второй половине 19 века за границей исторической части Ташкента возник «Русский Ташкент» – центр всего Туркестанского генерал-губернаторства. Следы царского периода нынешние власти всячески затирают: здания сносят, либо ремонтируют до неузнаваемости. Но тогда, в 80-е эти здания сохраняли старый облик и производили впечатление своей монументальной красотой.
После подведения железной дороги, связавшей с Москвой и Петербургом, регион перестал быть экзотической и далекой туземной окраиной, а еще раньше в Ташкенте обосновался опальный великий князь из дома Романовых. Его небольшой дворец пережил и землетрясение 1966 года, и многочисленные реконструкции центра города.
Короче говоря, Ташкент к 1917 году был уже прилично обжит. Революция его не обошла стороной. И митинговали, и стреляли, и крепость местную штурмовали. Гражданская война тоже в регионе бушевала, немало крови пролилось тогда. В стране царил голод, и теплый, солнечный Ташкент, где земля дает несколько урожаев в год, стал центром притяжения тех, кто устал от потрясений. Помните выражение «Ташкент – город хлебный»? Оно как раз о периоде Гражданской войны и послевоенной разрухи.
Во время Великой отечественной войны город был одним из центров эвакуации, в Ташкент перевезли целые заводы с рабочими и их семьями. Везли в ташкентскую эвакуацию артистов и сирот, писателей и раненых. Всех везли. Всем нашлось место в этом городе.
К сожалению, для многих раненых солдат ташкентская земля стала последним пристанищем. В честь них в городе был построен мемориал, в центре которого установлен памятник Скорбящая мать. Там же создали аллею героев, где многие годы школьников принимали в пионеры. В том числе и меня.
Эвакуация – особый период жизни города. Ташкент стал городом миллионником, местная киностудия сняла прекрасный фильм «Два бойца», эвакуированные заводы давали фронту танки и самолеты, а обычные люди отдавали последние сбережения и силы, чтобы победить фашистов. А еще, простые жители города принимали всех эвакуированных, делились последним куском хлеба. Семья местного кузнеца Шамахмудова усыновила 15 детей, лишившихся родителей и эвакуированных в тыл. Дети были самых разных национальностей: русские, белорусы, молдаванин, латыш, казах, татарин и др. Все они нашли приют в доме простого узбекского кузнеца, стали для него родными.
В те годы окончательно стерлись границы между городом старым и городом новым, русским и узбекским. Ташкент стал единым целым. После окончания войны не все эвакуированные уехали, многие остались жить, для них Ташкент стал домом. Многим просто некуда было возвращаться: вместо домов одни пепелища, родные погибли. Все вокруг напоминает о пережитом горе. Уж лучше остаться там, где тебя приняли со всей душой, помогли начать новую жизнь.
Спустя двадцать лет после войны город постигло бедствие – 26 апреля 1966 года произошло мощное землетрясение. Город лежал в руинах. На помощь пришел весь Советский союз, со всех республик приехали строители. Стройка шла по всему городу. Сильнее всего пострадали центральные районы. Пока там шли работы по расчистке завалов, на окраинах Ташкента начали возводить новые микрорайоны. Когда завалы центра были расчищены, там возвели микрорайон с индексом «Ц».
Задачу строителям поставили очень жесткую – до зимы обеспечить жильем всех пострадавших от землетрясения. Эта задача была выполнена. Район, в котором я вырос, был отстроен в такие стахановские сроки, что сейчас уже трудно поверить. Гигантский жилой массив на полмиллиона жителей. Это был титанический труд.
После землетрясения было решено расселить городские коммуналки и снести несколько «неблагополучных» районов частной застройки. В городе имелось несколько «шанхаев», часть из них возникли в царское время, часть во время войны. Их и решили ликвидировать, а жителей расселить по новым микрорайонам. Короче говоря, работы у строителей было хоть отбавляй. В благодарность за восстановление города, власти республики распорядились предоставлять им квартиры вне очереди. Многие остались жить в Ташкенте.
Спустя два года после землетрясения было начато строительство метрополитена. Во всем СССР только в пяти городах было метро, Ташкент стал шестым городом Союза, обладающим этим видом транспорта. В 1977 была открыта первая ветка, в 1984 вторая. Летом это лучший вид общественного транспорта. На улице жара градусов под пятьдесят, а в метро спасительная прохлада.
Город рос и хорошел. В 1983 торжественно отметили 2000-летие Ташкента, примерно тогда же население города перевалило за два миллиона. Каждый год по распределению приезжали новые люди, молодежь. Кто-то уезжал по окончанию положенной отработки, но многие предпочитали остаться. И я их прекрасно понимаю.
Судите сами – красивый южный город, продуктов в магазинах полно, с жильем тоже особых проблем не было, зима короткая и теплая, лето долгое и жаркое, солнце светит практически круглый год, овощи и фрукты в изобилии, мест для культурного досуга предостаточно. Спрашивается, какой смысл был уезжать? Страна-то одна была. Никаких границ от Риги до Душанбе, от Ашхабада до Владивостока. Одна большая страна.
Самое яркое воспоминание из тех далеких времен – майские праздники в городе. Море солнца, цветов, красных флагов и счастливых лиц. Детским воспоминаниям свойственны преувеличения, есть только белое и черное, никаких полутонов. Я прекрасно понимаю, что далеко не все было идеальным. Тогда я об этом не думал – слишком мал еще был, мне просто запомнилось ощущение праздника и много-много солнца. Взрослые от души праздновали 1 Мая, детвора ждала салют на 9 Мая. Каждому возрасту свой праздник…
Ташкент в конце апреля – начале мая прекрасен – тепло, но еще нет изнуряющей жары, трава еще не выгорела под жгучим южным солнцем, цветущие розы, первая клубника на базарах. Я сам уже порой не верю, что +30 это не чудовищная жара, а просто приятное тепло. А в Ташкенте именно так, +30 и ощущаются, примерно, как +23 в средней полосе России. Одним словом – благодать. Это время года мне и запомнилось больше всего.
Рос я в районе под названием Чиланзар. Район был преимущественно русским, но со временем там и узбекское население появилось. Район утопал в зелени. Строили кварталы после землетрясения 1966 года быстро, прямо посреди полей и поначалу деревьев было мало. А летом жарко, особенно в июле. Ночью же температура сильно снижалась и в первые годы было много случаев инфарктов у сердечников. Врачи забили тревогу и власти собрали целый консилиум с целью выяснить – в чем причина и как с этой проблемой справиться.
Причина была найдена – мало зелени. Днем сильная жара, а ночью температура резко падает. Дома-то построили в чистом поле, ни кустика, ни деревца. Оттого и такие сильные перепады температуры. Деревья же и декоративные кустарники дадут бетонным коробкам домов спасительную тень днем, а вечером станут заслоном перед холодным воздухом из полей и не позволят домам резко остыть.
В районе начали массово высаживать деревья. К концу 80-х деревья так вымахали, что порой, между домами неба не было видно – закрывали ветви и листья деревьев. Идешь на рынок (там я говорил «на базар»), проходишь под этим зеленым навесом деревьев и так хорошо, такое блаженство, такая прохлада. Выйдешь на открытое место – воздух сухой, жаркий и солнце обжигает. Но открытых пространств на квартале было сложно отыскать, куда ни посмотришь – везде зеленые насаждения и деревья, деревья, деревья…
Деревья были разные: тополя, платаны, ореховые деревья, вишни, черешни, яблони. Все лето мы – малышня, проводили на улице и, разумеется, наедались яблок, орехов, вишни до отвала. А сколько стекол разбили, пытаясь сбить яблоки да грецкие орехи…